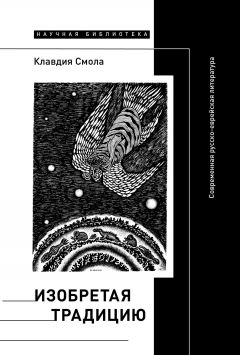
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
На излете коммунизма среди русских евреев было немало тех, кто стремился вернуться к тому очаровательно закольцованному, мистически-религиозному ощущению пространства и времени, которое их дедушки и бабушки отвергли в СССР первой трети XX века. В обоих случаях ими двигало, как показывают многочисленные биографические свидетельства, желание преодоления и освобождения. На смену стремлению вырваться из религиозного еврейского «мирка» в мировую историю, которое объединяло евреев в период революций 1905‐го и 1917 года [Krutikov 2001: 115–117]2121
Михаил Крутиков связывает революционные преобразования 1905 года с переходом российских евреев, в особенности идишских писателей, от «циклической смены времен года и религиозных празднеств» к «стремительному и линейному развитию» [Krutikov 2001: 115].
[Закрыть], пришли разочарование, новый бунт и, наконец, реставрация 2000–2010‐х. При этом позднесоветский виток спирали коллективного поиска еврейского «я» / «мы» во многом был уже частью впитанной советской утопии.
Несмотря на общую диалектику утраты традиции и приближения к ней, возвращения и изобретения, разница между коллективными и поп-культурными процессами, с одной стороны, и литературно-художественными, с другой, очевидна и значительна. Искусство и литература чаще обращаются к проблемам и несоответствиям, иронии, парадоксу и критике. Мы имеем здесь дело не только с эмпатией и индивидуальной связью с прошлым, которые Марианна Хирш отмечает в феномене постпамяти и которые подвержены медийным манипуляциям, но с осознанием сложности, противящимся идеализации и стереотипам и зачастую делающим их предметом своего анализа.
Помимо всего этого, еврейские литературы, как уже было упомянуто, несут в себе воспоминание о Торе и ее экзегетике, воспоминание иногда бунтарское и отрицающее. Сформулированное Даном Мироном «двуединство секуляризации сакрального и сакрализации секулярного», вопрошающее обращение к истокам и неустанное измерение расстояния между эпохами по сей день являются мощным импульсом для создания этих литератур.
Культурно-семиотический контекст
Ренессанс иудаизма в позднесоветское время, с одной стороны, ознаменовался появлением еврейской культуры андеграунда, а с другой – отразил во многом мифологическую, (суб)религиозную парадигму мышления, которая структурировала и саму официальную советскую культуру, наполняла ее жизнью. Так литература исхода оказалась инвективой и в то же время структурным и идеологическим отражением соцреалистической доктрины. Я рассматриваю неофициальную или появившуюся уже в эмиграции прозу исхода, вдохновленную идеями нового сионизма, как символическое проявление того дуализма, который Юрий Лотман и Борис Успенский считали характерным для истории русской культуры в целом: «…новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего» [Лотман/Успенский 1977]. «Регенерация архаических форм» [Там же], из которых советская власть и культура соцреалистического канона черпали свой идеологический потенциал, была напрямую унаследована проникнутой духом коллективного спиритуализма еврейской протестной литературой. В обращении новых евреев с иудаизмом заново открывается механизм мифологического кодирования исторических событий, постулированный культурной семиотикой и активирующийся во время переворотов и смен мировоззренческих эпох [Лотман/Успенский 2004]. Еврейское движение зарядило политическую современность символикой библейского предания, обращаясь и к легендарным пластам прошлого, и к далеким географическим пространствам. Этот «захват» прошлого оказался в состоянии создать альтернативную идентичность немалого сообщества, не покидая магического круга русско-советских мифов. Так в очередной раз реализовалась модель (в данном случае синхронной) «двойной культуры», сформулированная Лотманом и Успенским в 1977 году и пересмотренная сравнительно недавно2222
Ср. сборник, выпущенный в 2012 году Сюзанной Франк, Корнелией Руэ и Александром Шмитцем и в особенности статью Ренате Лахман [Frank et al. 2012].
[Закрыть]: «Двойная культура как структурная величина – это ансамбль дуально-бинарных кодов социального поведения, текстуальных и иконических практик, а также различных типов знака. Структуры, определяемые цензурой и контрцензурой, осмысляются через оппозиции официального/неофициального, открыто-диалогического/закрыто-монологического, иерархического/антииерархического» [Lachmann 2012: 114].
Евгений Добренко рассматривает советский культурный дискурс как «метафору власти» и интерпретирует понятие мифа со ссылкой на Ролана Барта, Эрнста Кассирера и Юрия Лотмана применительно к коммунистическому канону искусства (вслед за Андреем Синявским) как метафорическое превращение или даже извращение языка. Манипуляция языком служила власти для моделирования и эстетической легитимации действительности [Добренко 1993б: 31–39]. Подмена реальности знаками как политический инструмент проникнута исторической телеологией, придающей художественным образам канона символический, абстрактный и гиперболический характер. В соцреализме безграничной оказывается как сила положительного героя, «простого человека», так и сила того, кто ей противится: «…соцреалистическое искусство […] превращается в иконографию идеологических форм, в чистую натурализацию знаков языка власти» [Там же: 42]. Владимир Паперный в конце 1970‐х в свою очередь так определяет основную семиотическую направленность советской тоталитарной культуры – «Культуры Два»: она «мифологически отождествляет обозначающее и обозначаемое» [Паперный 1996: 283]. Из этого Паперный выводит основное качество Культуры Два: «изображение и его оригинал – это одно и то же, поэтому искажение изображения таит в себе угрозу существованию оригинала» [Там же]2323
Эта мысль проходит красной нитью в монографии Паперного, она очевидна и в других выводах. Так, архаически-религиозное слияние означающего и означаемого проявляется в сталинской культуре в магической вере в имена собственные [Паперный 1996: 182–191], а также в антропоморфности архитектурных объектов [Там же: 193–194]. «Культура 2 – это тоже в известном смысле культура Книги» [Там же: 230].
[Закрыть]. Я рассматриваю обращение к иудаизму, понимаемое как уход и возвращение; поиск себя в «первоистоках» еврейской Библии2424
Паперный метафорически определяет артефакты Культуры Два как дополняющие друг друга толкования Библии [Там же: 228]. Аналогичную параллель проводит Добренко [Добренко 1993б: 231].
[Закрыть] и, наконец, утопические, часто мистически-религиозные представления о Земле обетованной в текстах еврейских интеллектуалов-нонконформистов, через призму соцреалистического мифотворчества. Стремление к сакрализации еврейской истории, выведение ее, а вместе с ней и еврейской топографии из исторического контекста нередко свидетельствуют об их нежеланном родстве с парарелигиозными символами, которыми была пронизана советская культура2525
Ср. о советской культуре как квазисакральной/парасакральной, ритуализированной эстетической практике: [Clark 1981/2000; Günther 1984, Паперный 1996; Гройс 2003; Uffelmann 2010, особ. гл. 8]. Согласно психоаналитической трактовке Эпштейна, религиозное подсознание достигло в русском коммунизме особенной глубины именно под давлением запретов; атеизм нес в себе и порождал новые, сублимированные формы веры [Эпштейн 1994: 347]. «Атеистическое общество буквально кишело религиозными аллюзиями, символами, отсылками, субститутами и трансформациями» [Там же: 335]. Эта трансформированная религиозность напрямую вела к «догматическому невежеству» постсоветского православного возрождения, ср.: [Там же: 380]. О том, имела ли религиозная преемственность при государственном социализме «функциональную» или «генеалогическую» природу, размышляет Уффельманн [Uffelmann 2010: 727 f.].
[Закрыть].
Исследования массовой эстетики и канонической культуры коммунизма, появившиеся в последние три-четыре десятилетия как в России, так и на Западе, ознаменовали (де)конструктивистский и перформативный поворот в советологии и русистике. Добренко, видящий в тоталитарных культурах симбиоз «превращенного религиозного сознания» [Добренко 1993б: 58] с коллективной мифологией, стремится вскрыть практики сигнификации режима и тем самым философемы, с помощью которых создавалась «вторая реальность» советского быта2626
О механизме культурно-семиотических процессов кодирования и сигнификации ср. работу Роланда Познера: [Posner 1991]. Основываясь на концепции центра и периферии московско-тартуской школы, Познер объясняет динамику сменяющих друг друга «семиотизации и десемиотизации сегмента реальности» [Ibid: 57].
[Закрыть]. К толкованию советской культуры как оригинального эстетического продукта, тотального произведения искусства (Gesamtkunstwerk) [Гройс 2003], восходит известная попытка Михаила Эпштейна мировоззренчески и исторически связать ее с создающим гиперреальности2727
Ср. главу «Создание гиперреальности» в: [Эпштейн 2005: 69].
[Закрыть] искусством постмодерна и даже отчасти уподобить их друг другу. Принципиальная схожесть этих культурных формаций состоит, по мнению Эпштейна, в том, что обе воспроизводят замкнутые на самих себя, оторванные от реальности (эстетические) знаки, системы симулякров, по выражению Жана Бодрийяра: «Советская идеология […] притязала на полную семиотизацию всей реальности, ее превращение в текст» [Эпштейн 2005: 71]2828
Ср. также формулировку Тани Циммерманн: «Чем больше конструировалась жизнь, тем реальнее становились объекты искусства» [Zimmermann 2007: 18].
[Закрыть]. Но еще более важен для моего исследования тезис Эпштейна о том, что этот механизм замещения в советской России пришел в движение задолго до появления западноевропейского постмодерна и привел к реставрации предмодерна, нового «средневековья» [Там же: 91]2929
В конце 1980‐х годов Борис Гройс исследует те же механизмы семиотического замещения на примере московского концептуализма, которому он приписывает близость к постструктуралистским идеям, а именно идеям Деррида. В понимании Гройса «утопизм советской идеологии и заключается, если угодно, в ее постмодерности» [Гройс 2003: 135]. Для Ильи Кабакова «быт и идеология совпали в бесконечном тексте» [Кабаков 2008: 11]. Ср. также литературно-историческую ремарку Марка Липовецкого: «Парадоксально, но факт: русский постмодернизм возникает внутри тоталитарной культуры» [Липовецкий 2008: ix].
[Закрыть].
Практики сакрализации пространства и рождение топографических мифов в Советском Союзе в конце 1920‐х и особенно в 1930‐е годы, сопровождавшиеся ростом архаических паттернов мышления и напрямую связанные, как считает Катерина Кларк, с идеей формирования советской нации [Clark 2003: 2], включали в себя еще одну важную составляющую коллективной сигнификации. Лишь на ее фоне можно понять альтернативные модели пространства в позднесоветской контркультуре. Биполярность центра и периферии, а также ее производные – пространственно-временные оппозиции «низкое/высокое, прошлое/будущее, профанное/сакральное» [ср. Clark 2003]3030
О репрезентации Москвы в архитектуре и кино как символического и сакрального центра коммунистического пространства в 1920‐х и 1930‐х годах ср.: [Паперный 1996: 107–115] и [Boym 2001: 97–98].
[Закрыть] – отражаются в культуре еврейских диссидентов в присвоении специфической, укорененной в еврейской традиции структуры пространства. Огромное значение приобретает контраст между Израилем как центром утопии будущего, сакрализованным местом воссоединения, и Советским Союзом, особенно Москвой (метрополией власти) – как преодоленным пространством коллективной амнезии и угнетения. Причем не только вертикальная, но и горизонтальная ось русско-советских пространственных проекций накладывается на культуру еврейского андеграунда. В активно продвигаемых диссидентами российских дебатах о культурно-историческом противостоянии между Западом (окцидентом, которому приписывались идеалы свободы, просвещения и цивилизации) и Востоком (ориентом с противоположными свойствами: рабством, изоляцией, варварством)3131
Ср., например: [Баак 1995] и [Вульф 2003]; о степени изученности проблемы и дискуссиях см. резюме Хаусбахер: [Hausbacher 2009: 67–68].
[Закрыть] дискурс алии занимает характерную позицию: Израиль становится не третьим пространством, или «третьим путем» («additum») [Kissel/Uffelmann 1999: 24] между двумя ценностными полюсами, а структурным пространством Запада, матрицей лучшего другого. Эта проекция опровергается в свою очередь в текстах антисионистских, скептических нарративов, в которых уже ставший действительностью Израиль, напротив, часто олицетворяет ориент в его стереотипно-негативном понимании (см. «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии», с. 241). В обоих случаях сохраняется дуальность топографических культурных моделей, что можно объяснить «гибридным характером советской модерности» [Липовецкий 2008: xvii], который делает возможным как радикальный прогресс, так и движение назад, в архаику.
Эффекты «впитывания» политически канонизированных культурных форм эмансипаторными движениями – культурами сопротивления и меньшинств – изучались до сих пор лишь спорадически. Олег Хархордин касается феномена такой мутации властных матриц в своем обширном исследовании коллективного российского менталитета (прежде всего в политически-административном ракурсе): «…в диссидентской среде, очевидно, был заложен тот же механизм, что и в широком советском обществе. Взаимное неприятие порождало идеи, противостоящие официальным, но не менее догматичные; диссиденты словно бы играли в ту же игру, руководствуясь, однако, диаметрально противоположными идеалами» [Kharkhordin 1999: 315]. Сергей Ушакин рассматривает формы протеста политических диссидентов в Советском Союзе в рамках символического поля, сформированного и разграниченного властью. Ушакин использует тезис Фуко о дискурсивном сплетении власти и сопротивления: «В дискурс можно быть вовлеченным, только вступив на уже существующее дискурсивное поле, то есть только приняв действующие правила дискурса». Здесь раскрывается «доминирующий и доминируемый эффект одного и того же собрания символических значений и риторических приемов» [Oushakine 2001: 206–207]. Нечто подобное отмечает и Мальте Рольф: «…фиксация на антиканоне не преодолевает канонического мышления. Ориентация на нечто единственно верное отражает биполярное мышление официальной культуры, но с противоположным знаком. […] Советский символический макрокосм устанавливал границы, в которых культурные практики осваивались, переосмыслялись и в конечном итоге узурпировались» [Rolf 2010: 184–185].
Нонконформистская еврейская литература и практически участвовала в формировании советского антиканона, учредив неофициальное издательское дело – еврейский сам– и тамиздат, несколько десятилетий существовавший параллельно с разнообразными нееврейскими органами сам– и тамиздата (об этом см. далее). Эта во многом обособленная ниша диссидентской культуры реагировала на табуирование еврейских тем в официальной сфере. Если самиздат как таковой «взял на себя» «функцию ампутированной культурной памяти» [Kissel 2010: 166], то еврейский сам– и тамиздат занялся компенсаторным возрождением/переизобретением своей части этой культуры – в высшей степени символической работой, немыслимой вне оппозиции режиму.
В этом отношении моя работа – это попытка новой контекстуализации постструктуралистской практики реконструкции и деконструкции, анализа скрытых зависимостей и ревизии определения коллективного «я». Вслед за Джудит Батлер, наследующей пафосу критической генеалогии Мишеля Фуко, я задаюсь вопросом: «существует ли история, […] обнажающая бинарный выбор (у Батлер: полов. – К. С.) как подвижную конструкцию?» [Butler 1991: 23]. Каким образом новый иудаизм смог артикулировать себя из центра репрессивной системы, которую отрицал? Как дискурс репатриации видели его участники и создатели его литературы? И как новый сионизм выстраивал собственную метафизику?3232
Говоря о новом иудаизме и вдохновленной Библией модели репатриации, я, разумеется, имею в виду не всю массу русско-еврейских эмигрантов, а лишь часть из них, но более всего – связанный с ней культурный дискурс.
[Закрыть] Если экстраполировать батлеровский анализ гендерных идентичностей на наш случай, то позднесоветское еврейство оказывается в высшей степени перформативной величиной: «оно само конструирует идентичность, которой якобы уже является» [Ibid: 49]. Типичная для интеллектуальных сообществ позднесоветского времени энергия культурного возвращения и спиритуальных поисков3333
Илья Кабаков связывает «воздух 70‐х годов» с особенной тягой интеллектуалов к метафизическому и трансцендентному [Кабаков 2008: 89–90].
[Закрыть] особенно отчетливо выявляет культурные смыслы неофициального, возникшие из вакуума и тавтологизации идеологии, как конструкт, как обращенную в прошлое и на географически далекое ностальгическую проекцию. Коллективная память создается, как известно, на основе идейных и исторических договоренностей. Как показывает Пер-Арне Будин на родственном примере, идеализированный образ православной церкви вырастает в постсоветское время из потребности в ностальгии и отмежевания от недавнего прошлого – и одновременно благодаря традиционной связи русского православия с имперским, консервативным и нередко ксенофобским национальным дискурсом [Bodin 2009: 31]; новый православный культ служил/служит «реставрации средневековой монокультуры» [Ibid: 56]. Эти соображения вызывают в памяти более раннюю работу Светланы Бойм, которая различает «реставрирующую» и «рефлексирующую» ностальгию. Первая рассматривается как основа для возникновения любых национальных ретро-движений:
Реставрирующая ностальгия подчеркивает νόστος и пытается провести трансисторическую реконструкцию потерянного дома. Рефлексирующая ностальгия коренится в άλγος, тоске как таковой, и откладывает возвращение на родину – тоскливо, иронично и отчаянно. Реставрирующая ностальгия не считает себя ностальгией, а скорее истиной и традицией. Рефлексирующая ностальгия охватывает амбивалентность человеческой тоски и принадлежности и не уклоняется от противоречий модерна. Реставрирующая ностальгия защищает абсолютную истину, а рефлексирующая ностальгия подвергает ее сомнению [Boym 2001: xviii].
Дуальные культурные механизмы, которые Бойм рассматривает на примере разных эпох, а Будин – на примере набравшей силу православной идеологии в сегодняшней России3434
Ср. критическое замечание Бориса Гройса: «Единая утопия классического […] сталинизма сменилась […] множеством приватных индивидуальных утопий» [Гройс 2003: 102].
[Закрыть], важны и для понимания неофициальной еврейской культуры, в частности, прозы. Иудаистские надежды воспитанных по большей части уже на атеизме писателей алии подпитывались той же жаждой мистических жизненных проектов, живого чуда. Их «реставрирующая ностальгия» стремилась «завоевать и „опространствить“ время (spatialize time)» [Бойм 2019: 118]. В этом смысле еврейские диссиденты продолжали мифотворческую работу, ориентируясь на полюса «традиция – взрыв», заложенные сформировавшей их советской культурой.
Описанные выше механизмы семиотического замещения реальности, как будет показано в заключительных главах, перестают воспроизводиться лишь в еврейской литературе позднесоветского и постсоветского постмодернизма (прежде всего в текстах Михаила Юдсона и Олега Юрьева). В текстах, которые я анализирую как постмодернистские, эти механизмы выходят на поверхность, остраняются и подвергаются лингвистическому анализу. «Постмодернистская» (по Эпштейну) работа коммунизма выводится здесь на метауровень постмодернистского литературного дискурса, становясь, таким образом, объектом символической ревизии. Через ироническое, (авто)рефлексивное отрицание тотализирующих риторик и нарративов, а также через их абсурдистскую фрагментацию эта литература порывает с языком диктатуры, дискурсивно одерживая над ним победу. Литература становится средством преодоления биполярных семиотических образцов настолько, насколько она пытается освободить сам язык от «метафизики присутствия».
Культурно-исторический контекст
Помимо структурной и дискурсивной зависимости, которую в состоянии выявить деконструирующий анализ, и несмотря на нее, эта книга ставит перед собой и другую задачу: показать культурно-историческую сложность и гибридность нонконформистских параллельных культур, которая как раз противится структурному упрощению3535
Алексей Юрчак объясняет эту гибридность, связанную с открытием альтернативных пространств, почти завершенной ритуализацией и стандартизацией официальных риторических формул и визуальной культуры позднего социализма [Юрчак 2014: 74–75]. Добренко называет, например, позднесоветский военный дискурс «абсолютной победой тавтологии» [Добренко 1993б: 226].
[Закрыть]. «Мифология позднесоветского времени» [Савицкий 2002: 8] черпала свою энергию из очень разных источников и отражала дискурсивный плюрализм России 1960–1980‐х годов.
Еврейская литература этого времени рождается из многоголосия и эклектики своего интеллектуального окружения, в котором заново открывались не только иудаизм, но и буддизм и христианство, парапсихология и каббала, авангардизм и экзистенциализм, а также западноевропейский модерн (ср. [Вайскопф 2001б: 242], [Савицкий 2002: 82], [Кабаков 2008: 89–90], [Sabbatini 2011: 311–345], [Юрчак 2014: 314–315]). Марко Саббатини считает «альтернативный подход к культуре» («alternative approach to culture») [Sabbatini 2011: 341] общим знаменателем интеллектуальных субкультур в ленинградском андеграунде. Как утверждает Михаил Эпштейн в своей научной мистификации «Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России (70–80х гг. ХХ в.)» [Эпштейн 1994], интерес к альтернативному, противостоящий духовному канону атеизма, проявлялся среди прочего в разнообразии парарелигиозных обществ и сект позднесоветского периода3636
О «реорганизации» религиозных сообществ в неофициальном пространстве и роли местных религиозных вождей при коммунизме см. статью Александра Панченко: [Panchenko 2012].
[Закрыть]. Именно идеократический, квазисакральный характер государственной власти способствовал появлению альтернативных форм религиозного сознания3737
В своем влиятельном эссе «Православие и постмодернизм», написанном накануне перестройки и проникнутом религиозно-православным духом, Татьяна Горичева характеризует альтернативные, «полуподпольные» культуры позднего социализма как вертикальные и трансцендентные: «Появление в Советском Союзе „второй“, полуподпольной культуры – одна из попыток по-новому заполнить пропасть. Эта вторая культура с самого начала выходила к трансцендентному, к вертикально-ценностному измерению бытия» [Горичева 1991: 15].
[Закрыть].
Более изученное по сравнению с подпольными духовными движениями смягчение, точнее, размывание советского литературного канона начиная с 1950‐х годов – о нем еще будет сказано, – стало фоном для становления нонконформистских литератур меньшинств. Так, несомненно влияние на еврейскую литературу альтернативных топографических моделей деревенской прозы3838
В дальнейшем я рассмотрю это влияние на примере молодежного сионистского романа Давида Маркиша «Присказка». В деконструктивистском, метадискурсивном романе Михаила Юдсона «Лестница на шкаф» дискурс деревенской прозы явлен уже в пародийном облачении (подробнее см. «Архаический язык диктатуры: „Лестница на шкаф“ Михаила Юдсона», с. 345).
[Закрыть]. Галина Белая связывает тоску деревенщиков по дореволюционному прошлому и русской периферии с атмосферой времени, когда создание новых эссенциалистских идентичностей должно было вывести человека из духовного кризиса позднекоммунистической эпохи3939
Ср.: «…идея исторической связи разных эпох […] казалась естественной и органичной»; «…феномен деревенской прозы важен не только для литературоведов, но и для будущих историков мифологического сознания как и его живучести в тоталитарных государствах 20 века» [Belaia 1992: 16].
[Закрыть]. Апеллируя к разным, часто диаметрально противоположным национальным и историческим нарративам, как неославянофилы, так и вдохновленные еврейской идеей интеллектуалы создавали свои концепции культурного возвращения4040
С 1960‐х годов литература других национальных меньшинств дышала пафосом буквального возвращения на родину. Это были, например, крымские татары, в нечеловеческих условиях депортированные в 1944 году из Крыма в Среднюю Азию. Людмила Улицкая изображает протестное движение крымских татар, боровшихся за возвращение в Крым, в романе о диссидентах «Зеленый шатер» (2011, см. главу «Милютинский сад»). В самиздате курсировали сочинения как самих крымских татар, так и о них. Задача будущих исследователей – изучить нонконформистские литературы других, менее известных, чем евреи, национальных меньшинств эпохи позднего коммунизма. В романе Улицкой полифонию позднесоветской протестной культуры символизирует прощание с вымышленным диссидентом и поэтом Михой Меламидом, покончившим жизнь самоубийством: «В Ташкенте его почтили татары, отслужили заупокойную службу по мусульманскому обряду. В Иерусалиме единоверцы Марлена заказали кадиш, и десять евреев прочитали на иврите непонятные слова, а в Москве Тамара […] заказала панихиду в Преображенском храме».
[Закрыть], мнемонической реконструкции и духовной преемственности4141
О ретро-утопической литературе (пост)советского Севера см. с постколониальной перспективы: [Smola 2016] и [Смола 2017a].
[Закрыть]. Как и русская деревня, еврейский штетл – «столица Идишляндии» [Ro’i 2012a: 29] – с 1960‐х годов все более становился альтернативным пространством памяти, расположенным в прошлом и на периферии.
Со второй половины 1960‐х советские евреи начали полу– или нелегально изучать свои еврейские корни: прошлое, объясняющее настоящее и ведущее в будущее. Новое знание не только служило непосредственной цели – выезду в Израиль, но и породило еврейский культурный андеграунд, просуществовавший до политического перелома конца 1980‐х годов. Еврейская нонконформистская культура развивалась главным образом в крупных городах России, но существовала и в Украине, Белоруссии, на Кавказе и в Средней Азии. Социальные сети, включавшие многочисленные контактные зоны, стали основой таких коллективных акций, как отправление еврейского религиозного культа, встречи перед синагогами, частные семинары и экскурсии, производство еврейского там– и самиздата, организация художественных кружков и выставок в квартирах.
Работы последних лет, воссоздающие коммуникационную структуру, знания, органы и акторов советского сам– и тамиздата (см.: [Komaromi 2012a; Kind-Kovács/Labov 2013; Валиева 2013; Alber/Stegman 2016]), до сих пор мало касались социальной нишы еврейской неофициальной культуры. Несмотря на то что с 1970‐х годов были опубликованы важные свидетельства, экскурсы, хроники и историографические обзоры4242
См. «Направления исследований» (с. 43) и «Современная русско-еврейская литература» (с. 81).
[Закрыть], еще мало исследованы такие системные феномены, как взаимодействие еврейских и нееврейских неофициальных сообществ, состав и характер еврейских подпольных публикаций, специфика альтернативных публичных сред, зародившихся из движения отказников4343
То есть советских евреев, которым было отказано в выезде в Израиль.
[Закрыть], и, наконец, контекст возникновения еврейских артефактов из духа коллективного общения. Перед исследователем культуры «новых евреев» в Советском Союзе встает вопрос, какую литературу, (еврейские и нееврейские) исторические тексты и искусство они воспринимали, из каких источников, через какие институты и с помощью каких посредников – евреев и неевреев4444
Важный вклад в социокультурное изучение неофициальной еврейской культуры внесли, например, авторы сборника «The Jewish Movement in the Soviet Union» под редакцией Якова Рои [Ro’i 2012].
[Закрыть]. Еврейская культурная публичная среда, точно так же, как и другие неофициальные и полуофициальные пространства обмена, формировалась на основе личных контактов и совместно обнаруживаемых источников и включала в себя пусть сравнительно узкие, но значимые в интеллектуальном плане круги участников. Так как «живую» еврейскую культуру можно было наблюдать очень редко4545
О состоянии иудаизма в позднем Советском Союзе см.: [Charny 2012: 304–333].
[Закрыть], еврейский ренессанс строился в основном на изучении доступного наследия и потому был – уже совсем в ином, нееврейском смысле слова – культурой книги – культурой Библии, художественной литературы, письменной истории, живописного и фотографического изображения4646
Показательно дошедшее в пересказе заявление нонконформистского еврейского художника Алека Рапопорта: «Рапопорт считает, что учителями его были не люди, а библиотеки – Публичная библиотека и библиотека Академии художеств» [Газаневщина 1989: 223].
[Закрыть]. Исследовательница еврейского самиздата Стефани Хофман замечает: «Люди разыскивали в книжных магазинах и частных собраниях редкие экземпляры дореволюционных еврейских книг на русском языке, которых уже давно не было в публичных библиотеках» [Hoffman 1991: 90]. Ограниченный доступ к еврейским источникам и тот факт, что большинство отказников росло уже в отрыве от еврейских корней4747
Помимо прочего, как раз из‐за своего нееврейского воспитания и урбанизма еврейские интеллектуалы столичного андеграунда часто не проявляли особого интереса к традиционной еврейской жизни, почти исчезнувшей, но все же существовавшей еще где-то по соседству (еврейские праздники и ритуалы, совместные молитвы, посещение синагог).
[Закрыть], определили еще один признак этой культуры: ее синтетический и часто эклектичный характер. Знание о еврействе черпалось из разных, доступных порой лишь во фрагментах эпох и стран и/или питалось из нееврейских либо вторичных источников. Так, поэт Анри Волохонский в конце 1950‐х годов обнаружил в Государственной публичной библиотеке сочинение французского оккультиста Папюса «Каббала», включавшее в себя перевод Книги Бытия и космологического трактата «Сефер Йецира». Волохонский переписал переводы от руки и использовал их, по собственному свидетельству, в качестве источника для своих научных теорий и стихов [Кукуй 2013: 236]. Характерно, что Волохонский изучал эти иудаистские сочинения, чтобы позднее с их помощью расшифровать новозаветное «Откровение Иоанна» [Там же]. Конечно, позднесоветские еврейские интеллектуалы были не одиноки в своем интертекстуальном и интериконическом подходе к еврейству4848
О неофициальном еврейском искусстве см.: [Smola 2018a; Smola 2018b].
[Закрыть]. Как было упомянуто в главе «Семантика постгуманной эпохи: современное (пере)изобретение еврейства», начиная самое позднее со второй половины ХХ века, вследствие ассимиляции, эмиграции и шоа, еврейство в Европе и Америке во многом скорее изобреталось заново, нежели служило объектом надежной меморативной реконструкции.
Подпольные еврейские интеллектуалы получали доступ к еврейской культуре при очень разных обстоятельствах и часто по воле случая. Художник Михаил Гробман черпал вдохновение из Библии и хасидских историй, знакомых ему по дореволюционным переводам из Ленинской библиотеки и по материнским рассказам [Kantor-Kazovsky 2008: 109]. Однако случай Гробмана – редкий пример семейной передачи еврейских традиций и еврейского знания. Еще одним таким примером был Леонид Ламм. По свидетельству Мэтью Бэйгелла, несколько раз беседовавшего с художником, тот впервые узнал о еврейской каббале от своего деда-кантора и от отца, религиозно образованного еврея. Общение с ними оказало непосредственное влияние на каббалистические картины и искусствоведческие теории Ламма [Baigell 2010: 259–260]. Пятнадцатилетний Гриша Брускин получил Талмуд в подарок от матери одного из своих друзей, а позже читал каббалистические тексты в книге, нелегально ввезенной из Израиля [Ibid: 261–262]. Писатель Эли Люксембург познакомился с иудаизмом под влиянием ребе Хаима-Занвла Абрамовича, известного хасидского цадика из молдавской Рыбницы; еще до эмиграции в Израиль в 1972 году он, по собственному признанию, пережил настоящее духовное возрождение (см. «Мистика исхода: Эли Люксембург», с. 151). Прозаик Эфраим Баух по настоянию матери ходил в детстве к раввину, который не только обучал его ивриту и кадишу, но и объяснял книги Исайи и Экклезиаста4949
Две жизни Эфраима Бауха // Живой Журнал. 11 окт. 2015 [https://la-belaga.livejournal.com/821989.html].
[Закрыть]. По некоторым свидетельствам, отказники также брали уроки у пожилых евреев, отсидевших долгие тюремные сроки за сионистскую деятельность в 1920‐е годы [Ro’i 2012a: 33].
Мемуары еврейских активистов, сравнительно недавно оказавшиеся в центре внимания исследователей, дают сведения о сюжетах, которые играли «воспитательную» роль для новых сионистов. Это были библейские истории о царях Давиде и Соломоне, о врагах древнего Израиля, об изгнании, египетском плене и исходе [Hoffman 2012: 235–236], а также публикации еврейского самиздата, особенно его культурного крыла: русские переводы произведений Теодора Герцля, тексты Владимира Жаботинского, Хаима Нахмана Бялика, Леона Юриса, Шимона Фруга, «Всемирной истории еврейского народа» Шимона Дубнова, «Моих прославленных братьев» Говарда Фаста, «Последнего из праведников» Андре Шварц-Барта, а также текстов из израильских журналов «Ариэль» и «Шалом» [Hoffman 1991: 90] (см. также «Еврейская контркультура и ее литература: обзор», с. 119). Самым влиятельным романом воспитания оказался для советских евреев «Исход» (1958) Леона Юриса [Ibid: 91] – в первую очередь потому, что еврейская идентичность здесь была вплетена в телеологический нарратив освобождения и возвращения, причем не в религиозном, а в национальном понимании, и порождала героические образы.
В статье «Самиздат» в «Электронной еврейской энциклопедии» приводится комментированный список литературных, исторических, философских, политических и религиозных текстов, опубликованных в неофициальной еврейской периодике с 1950‐х по конец 1980‐х годов. В нем упомянуты Эфраим Кишон, Хаим Вейцман, К. Цетник (Ехиель Динур), Нелли Закс и Мартин Бубер – но вместе с тем и Владислав Ходасевич, Эдуард Багрицкий, Михаил Светлов, Илья Эренбург и Борис Слуцкий. Кроме того, здесь названы литературоведческие работы, например биография Генриха Гейне, написанная Львом Копелевым, и мемуары, например «Наш Михоэлс» Вениамина Зускина в переводе с идиша. Наиболее значимыми политическими и историческими темами еврейского андеграунда оказываются государство Израиль, холокост, еврейский вопрос в России и иудаизм [Самиздат].
Особый интерес представляют художественные свидетельства. В самиздатовском романе Давида Шраера-Петрова «Герберт и Нэлли» (1984) перечислены авторы «Библиотеки-Алия»5050
«Библиотека-Алия» – основанное в 1972 году в Израиле русскоязычное издательство сионистской ориентации, где выходили, кроме прочих, и наиболее важные произведения позднесоветской литературы алии. Некоторые книги из «Библиотеки-Алия» нелегально ввозились в Советский Союз и таким образом становились известны русским, в том числе русско-еврейским читателям.
[Закрыть], которых читают герои-отказники: Башевис-Зингер, Жаботинский, Бялик, Бернард Маламуд, Давид Маркиш, Леон Юрис и Натан Альтерман [Шраер-Петров 1992: 235]. В романе Эфраима Бауха «Лестница Иакова» (1984) главный герой читает книгу «Зоар» и «Сефер ха-Хинух»; в роман Эли Люксембурга «Десятый голод» (1985) вплетены хасидские легенды и формулы еврейской каббалы. У Бауха, Люксембурга, Феликса Канделя или Давида Маркиша, кроме того, встречаются аллюзии на отдельные главы Пятикнижия, псалмы и пророчества из книги Танаха «Невиим» и на агаду.
Этот «образовательный» и коммуникационный контекст неофициальной еврейской литературы в дальнейшем будет нам интересен, поскольку он определял культурные аллюзии, интертекстуальность, а в некоторых ситуациях и многоязычие ее текстов. Особая поэтика этой прозы рождается из неодинаковой дистанции авторов по отношению к еврейской традиции, разного отбора еврейских/нееврейских прототекстов и разных форм освоения традиции.









































