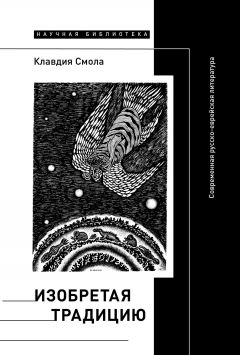
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Для настоящего исследования важно еще одно ограничение.
Как видно из обзора научной литературы, невозможность свободного развития привела к возникновению культуры, которая сделала политическое «контрписьмо», опровергающее нарративы диктатуры, наиболее важной еврейской составляющей. Это зеркально отражается, однако, в самом литературоведении с его доминантой исторических и политико-социологических работ.
«Иудаизация» советского еврейства, начавшаяся в нише еврейского андеграунда и движения алии, подговила почву для плюрализации концепций этнического – в том числе и в художественных практиках, – которая достигла пика после распада Советского Союза. Выход за пределы историко-документального и бытописательного письма, как то: диалог с еврейской библией и талмудическим учением, еврейской мистикой и философией или иудаистскими историческими и географическими мифами – все это говорит об обновлении той традиции, которую Шимон Маркиш считал «засохшей ветвью». Изменение самого предмета потребовало соответствующей смены научных парадигм. Моя работа задумывалась как вклад в только еще начинающееся осмысление художественных процессов, которые, несмотря на утрату прежней связи с этносом и религией (или наоборот, как раз вследствие этой утраты), свидетельствуют о новой сложности еврейской культуры в Восточной Европе и странах эмиграции.
Выше уже были перечислены культурологические тенденции, в которые в последние годы вливаются еврейские исследования разных стран: пространственный, мемориальный и антропологический повороты вызвали интерес к еврейским топографиям, практикам и философемам еврейской коллективной памяти, религиозным обычаям и предметному миру евреев Восточной Европы. Работы о еврействе диаспоры становятся частью междисциплинарных исследований по ксенологии (их расцвет пришелся на 1980‐е годы), работающей с категориями «своего» и «чужого», интер– и мультикультурности, стереотипов, аккультурации и гибридности. Не случайно поэтому, что и понятийный аппарат postcolonial studies: гибридность, экзотизм, ориентализация или культурное «третье пространство» – все чаще применяется к евреям «рассеяния» (впрочем, и Израиля тоже)8484
Один из примеров – монография Доротеи Гельхард [Gelhard 2008], в заключительной главе которой постколониальные понятия мимикрии, гибридности и «третьего пространства» применяются к текстам немецко-еврейских авторов [Ibid: 190–225]. Следует упомянуть и сборник [Brunotte et al. 2015], в центре которого находится проблема немецкого антисемитизма как проявления ориентализма (см. там также актуальную библиографию еврейских исследований, использующих постколониальный подход и проверяющих его на прочность).
[Закрыть]. Типичные пересечения и смешения методов проявляются, например, в том, что пространственно-топографическая проблематика включается в дискуссию о транскультурализме, постколониализме, культурах перевода или культурном трансфере (см. [Smola 2013a]), но также и в том, что старые терминологии перекодируются и проверяются в рамках новых теорий. Примером этой теоретической амальгамы может послужить то, что такие традиционные еврейские концепты, как миграция, двойная или множественная культурная принадлежность и граница, соединившись с постмодернистскими, постструктуралистскими и постколониальными парадигмами, становятся поводом для рассуждения о категориях displacement, Othering, мимикрии или культурной гегемонии.
Русско-еврейская литература нового и новейшего периода – благодарный материал для теоретических гибридов, возникающих в результате взаимодействия разных «культурных поворотов» [Бахманн-Медик 2017]: она работает по меньшей мере с двойным культурным кодом и отсылает ко множеству культурных контекстов на разных уровнях повествования. Это делает ее частью проблематики, особенно активно обсуждаемой в современных гуманитарных науках: «в последнее время возрастает интерес ко всему, что существует на границах […], к проявлениям неоднородности, различия, сплетения и смешения» [Hausbacher 2009: 23].
История литературы, поэтика и культурологияНастоящая монография преследует троякую цель: историко-литературную, поэтологическую и культурологическую.
С историко-литературной точки зрения она должна помочь ввести в научный оборот мало или совсем не изученных русско-еврейских авторов последних десятилетий. Кроме того, историю русской литературы, которая до сих пор еще воспринимается как монокультурное явление, я рассматриваю в качестве синкретического феномена, питающегося из разных культурных источников и географических контекстов. Наконец, так называемые «дефисные», составные литературы актуализируют вопрос о культурной принадлежности текстов, написанных на одном языке, но в разных странах, тем самым проблематизируя модель национальных литератур. Многие тексты, о которых пойдет речь, – явление не только русской, но и многоязычной еврейской литературы и, таким образом, часть истории двух литератур одновременно.
С историко-литературной точки зрения центральной оказывается и тема неофициальной или – шире – нонконформистской советской литературы в ситуации параллельного существования канона и антиканона. Если акцентировать дискурсивную и символическую зависимость литературы, упрощенно понимаемой как «протестная», от официального дискурса, то под вопрос ставятся общепринятые дихотомии. Вместе с тем тексты еврейского самиздата изменяют карту диссидентской литературы и расширяют ее границы.
Поскольку настоящее исследование ограничено литературой, я обхожу стороной еврейское неофициальное искусство, которое также еще очень мало исследовано: в частности, еврейскую составляющую «Второго русского авангарда» (Гриша Брускин, Михаил Гробман, Дмитрий Лион, Алек Рапопорт, Владимир Янкилевский, Меир Цви, Эдуард Штейнберг и др.). Еврейское возрождение позднесоветской эпохи во всей его гетеро-, мульти– и интермедиальности заслуживает отдельной большой работы8585
Предварительные шаги в этом направлении предприняты мною в: [Smola 2018b].
[Закрыть].
С поэтико-поэтологической точки зрения я размышляю о том, в какой мере можно говорить об особой поэтике русско-еврейской литературы, вдохновленной еврейской традицией, и какие формы (в том числе формы авторефлексии) такая поэтика породила. И здесь недостаточно сказать о воплощенной в тексте перспективе – фокализации – еврейского Другого: «девиантный» угол зрения часто становится возможным только благодаря обращению автора к еврейской письменной традиции или включению рассказчика в еврейский интертекст (как правило, и то и другое). При попытке исследовать своеобразие этой литературы не обойтись, например, без вопроса о том, примыкает ли она к зародившейся в XIX веке традиции идишского рассказа, или о возможности прочтения позднесоветской прозы алии как варианта знаменитых еврейских травелогов (см. «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии», с. 241). При этом, как будет показано, «коэффициент» еврейскости неодинаков в разных текстах того или иного периода.
Культурологическая перспектива позволяет поставить русско-еврейскую литературу 1960–2010‐х годов в контекст макрокультурных процессов эпохи – таких как (пост)память, коллективные мифы, топографические конструкции, парадоксальным образом отсылающие к мифически-религиозному и к реально-историческому, дискурсивный анализ постмодерна, семиотика еврейской коммуникации или механизмы культурного возрождения меньшинств.
Особенно интересны здесь процессы перевода (социо-)культурных феноменов в художественные приемы и, соответственно, поэт(олог)ический потенциал культурологического анализа. Так, мимикрия как вынужденная социально-психологическая модель поведения советских евреев превращается в субверсивную литературную технику и поэтику иронии: подражание властной речи разворачивается в своего рода политический антифразис размером с текст (см. «Постколониальный mimic man: „Исповедь еврея“ Александра Мелихова», с. 370). Палимпсест – мнемоническая техника культуры и знаменитая эпистемологическая метафора – претворяется в пространственные тропы памяти и забвения, воплощая скрытые слои традиции и работу по ее вскрытию и «реставрации» (см. «(Пост)мемориальное еврейское повествование», с. 313). Постсоветские же культурные нарративы возвращения (в качестве ностальгической утопии они всегда обречены на частичную неудачу) рождают поэтику дефектной, разорванной, многократно пропущенной через метафикциональные фильтры памяти (см. «Воспоминания как мания и фрагмент: „Родословная“ Израиля Меттера», с. 319).
В целом я следую работам, которые, обращаясь к литературам с двойными (и более) географическими, этническими и культурными истоками, сочетают (пост)структуралистское, деконструирующее close reading и классическую, в том числе еврейскую, герменевтику с «большим контекстом» культурной эпохи.
Выбор текстов: период и географияРассматриваемый в книге период истории русско-еврейской литературы интересен тем, что приблизительно с 1960‐х годов как в официальных, так и в подпольных кругах все слышнее становились споры и шире рефлексия о еврейской идентичности, религии, культуре и истории. Начало борьбы за алию и первая волна еврейской эмиграции из Советского Союза в 1970‐х годах запечатлевают момент эмансипации и этнического инакомыслия, причем еврейское движение разворачивалось не только в Советском Союзе, но и по ту сторону границы, в эмиграции. В конце 1980‐х годов литература, историография и публицистика этой волны начали постепенно появляться и в российской печати, становясь частью нарождающейся институциональной – и отчасти обремененной уже собственной идеологией – русско-еврейской культуры посткоммунистической России.
С опорой на теорию памяти можно говорить о коллективном, политически и культурно окрашенном «проекте памяти» [Assmann 2007: 55] русских евреев в позднем Советском Союзе – до недавнего времени, по выражению Эли Визеля, «евреев молчания», – который начался после войны и ведется до наших дней8686
В последние 40–45 лет русско-еврейские писатели творили не в последнюю очередь историографический «контрканон» советской эпохи. В создаваемой в их текстах картине, нередко автобиографичной или отмеченной чертами семейной истории, пересматриваются официальные исторические нарративы, документируются погромы, крах биробиджанского проекта, введение «пятого пункта» в советском паспорте в 1930‐е годы («национальность»), учреждение и кровавая ликвидация Еврейского антифашистского комитета, арест и убийство важнейших идишских поэтов в конце 1940‐х годов, полное закрытие в 1950‐х годах еврейских школ и культурных учреждений, кампания против «космополитизма», «дело врачей» и история эмиграции с двумя ее крупнейшими фазами, 1970‐х и 1990‐х годов. Нередко эта литературная историография охватывает продолжительный период, включая дореволюционную жизнь российских евреев, часто бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек автора и рассказчика, еврейскую участь при ранней советской власти, в годы войны, холокоста и в позднесоветское время. Историческая рефлексия неизменно «затрагивает державшееся под замком […] прошлое» [Heftrich/Grüner 2004: 25], а появившиеся еще при советской власти тексты стремятся оспорить «монополию режима на интерпретацию прошлого» [Grüner 2006: 91].
[Закрыть]. Голос обрели те, кто родился в 1920–1960‐е годы: в силу общего исторического опыта их книги выполняли «коллективную биографическую работу [по обретению] идентичности» [Ibid: 53]. Однако различия проистекали, как мы увидим, не только из принадлежности к до– или послевоенному поколению, хотя разная степень близости к еврейским традициям обусловлена, помимо прочего, и этим.
Я сознательно отказываюсь от акцентирования тем, привязанных к конкретному географическому контексту, поскольку меня интересуют тенденции и поэтики, которые охватывают разные топографии и позволяют приблизиться к пониманию русско-еврейской прозы последних десятилетий как неповторимого культурного, а подчас и идеологического макротекста. Этим моя работа отличается от литературоведения, получившего значительную часть своего материала благодаря эмиграции, – исследований еврейской литературы Израиля, Германии или Соединенных Штатов, сосредоточенной на местном и поэтому каждый раз ином материале: своего рода новой литературной этнографии. Анализируемые тексты создавались в России, Израиле, Германии, Франции и Соединенных Штатах, однако их образность и соообщение, несмотря на такой географический разброс, нередко оказываются оторваны от локальных реалий.
Выбор текстов в книге не дает всеобъемлющей картины поздне– и постсоветской русско-еврейской прозы. Уже из содержания видно, что я не стремлюсь во всей полноте исследовать чрезвычайно разнородную литературную продукцию, которая не была исключительно подпольной в советское время, а после распада Советского Союза обнаружила и обнаруживает разнообразие, охватить которое не представляется возможным. Ряд важных неподцензурных авторов не вошел в книгу. Библиография, включающая имена Фридриха Горенштейна, Аркадия Львова, Руфи Зерновой, Марка Зайчика, Дины Калиновской, Инны Лесовой, Маргариты Хемлин, Мариам Юзефовской, Рады Полищук, Дины Рубиной, Мириам Гамбурд и Бориса Хазанова, дает представление о более полной картине литературной эпохи до и после коммунизма. И все же в настоящей работе предпринята попытка проанализировать важные для времени течения и тенденции, явившиеся частью или следствием (пред)последнего крупного возрождения еврейской культуры в Восточной Европе. Все их объединяет стремление заново изобрести еврейскую традицию после долгих лет молчания и забвения. В прозе исхода это приводит к реставрации генеалогических мифов и созданию воображаемых общностей, но также и к литературе документа и свидетельства, воспроизводящей быт и жизнетворчество отказников. В других текстах рождается поэтика стилизации и пародии, нарративного маскарада и художественной симуляции. Начиная с 1990‐х годов проза особенно часто отсылает к постисторическому состоянию традиции, разрабатывая постмемориальные и деконструктивистские модели еврейства. Отвергая возможность очередного построения мифа или общности, они предлагают их лингводискурсивное исследование8787
В новейшее время стали опять появляться тексты, которые демонстрируют обратное движение – к закрытым, обращенным в прошлое моделям национальной и религиозной идентичности (см. подробнее «Сионистское почвенничество: новейшие литературные проекции», с. 305). Это мало удивляет в контексте правоконсервативного политического поворота 2000–2010‐х годов.
[Закрыть].
В целом речь идет о разнящихся поэтиках широко понимаемой экзегезы культуры, ушедшей в прошлое.
Художественный уровень некоторых текстов уступает их репрезентативной и документальной ценности (например, причастности к крупному литературному течению8888
Первой классификацией русско-еврейской литературы, в которой проза исхода рассматривается как самостоятельное литературное течение, стала изданная Максимом Д. Шраером в 2007 году двухтомная англоязычная антология [Shrayer 2007].
[Закрыть]), тогда как новизна эстетики других – их главный козырь.
Позволяет ли настоящее исследование выдвинуть какую-то литературную классификацию? Если учесть временную дистанцию, то некоторой историко-литературной категоризации поддаются прежде всего произведения позднесоветского периода. Постсоветские тексты, каждый из которых нередко «сам себе направление», могут быть лишь частично отнесены к какому-либо контексту, такому, например, как постмодернизм, постколониальность или постмемориальная литература.
Структура третьей главы – наиболее объемной в этой книге – требует краткого комментария. После предварительных замечаний об истории и сложности понятия «русско-еврейская литература» (см. «Русско-еврейская литература как бикультурный феномен», с. 82) я перехожу к позднесоветской неподцензурной прозе. Анализу текстов предпослана рефлексия историко-культурного, литературного и политического контекста эпохи (см. «Еврейское диссидентство: андеграунд, исход и литература», с. 90). Если следующая глава «Проза эксодуса» полностью посвящена прозе, связанной с еврейской эмиграцией в Израиль («исходом»), то в главе «Векторы нонконформистской еврейской литературы» речь идет и о подпольной еврейской литературе, оставшейся в стороне от мифа алии. В главе «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии» говорится о негативном отражении сионистских моделей: о литературе «антиисхода». В главе «Модели времени и пространства в нонконформистской еврейской литературе» анализ этих топографических (контр)нарративов дополняется исследованием пространственно-временной структуры неподцензурных текстов в целом. Глава «Переизобретение еврейского повествования» посвящена анализу особой ветви еврейской неофициальной или написанной уже за рубежом прозы – перенесенному в настоящее жанру идишского рассказа. Перед тем, как перейти в главе «Русско-еврейская литература после коммунизма» к постсоветской прозе, я постараюсь осмыслить значение нонконформистской еврейской литературы для дальнейшего литературного процесса (см. главу «Значение еврейской контркультуры»).
Часть 2. Современная русско-еврейская литература
РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК БИКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Принадлежит ли послевоенная русско-еврейская литература к истории еврейской или, скорее, русской литературы? Какие русскоязычные тексты можно и допустимо8989
Такая рестриктивная формулировка объясняется подчас скептическим и даже пессимистическим тоном по-прежнему актуальной дискуссии: сомнениями в том, что некогда вытесненная или уничтоженная еврейская культура еще существует в современной России.
[Закрыть] отнести именно к еврейской культуре? Каковы критерии дифференциации? Что означает дефис в определении «русско-еврейская»: указывает ли он прежде всего на язык – формальный признак, порой вовсе не связанный с содержанием, – или же на гибридность этой литературы, ее бикультурный или мультикультурный характер?
Чуть ли не все исследователи стремятся занять в этой дискуссии собственную позицию. Очевидно, впрочем, что вопросы постепенно утрачивают свою связь с настоящим, а дилемма – остроту: исключительное разнообразие еврейской составляющей русско-еврейской литературы последних сорока лет и обращение ее к традиционным еврейским поэтикам говорят сами за себя. Конечно, коэффициент «еврейскости» разнится от автора к автору, но в целом можно сказать, что во многих текстах и очень по-разному обе культурные генеалогии, русская и еврейская, играют смыслопорождающую роль, а их слияние или пересечение свидетельствует о том, что русско-еврейская литература продолжает существовать именно как пограничный культурный феномен. Внимательный взгляд на характер этой пограничности, питаемой двумя мощными, исторически тесно взаимосвязанными традициями, позволил бы обогатить упомянутую дискуссию, смягчить излишне строгие позиции и наметить категориальный поворот.
В предшествующей главе я цитировала работы Нахимовски и Гензелевой, в которых прослеживается постепенное обеднение этнического облика советской еврейской литературы. Постольку, поскольку литература отражает меняющуюся идентичность российских евреев [Nakhimovsky 1992: x], Нахимовски рассматривает ее как часть еврейской культуры, даже если в ней преобладает русская традиция. В результате предлагается антиэссенциалистское, но скорее непроблематичное и широкое понимание «дефисного» характера русско-еврейской литературы: ослабление еврейско-иудаистских влияний на русско-еврейскую литературу во второй половине XX века не мешает Нахимовски рассматривать ее как неотъемлемую часть еврейской традиции.
Самой известной и вместе с тем самой негибкой остается попытка Шимона Маркиша очертить границы русско-еврейской литературы, тоже предпринятая в раннюю постсоветскую эпоху, в начале 1990‐х годов. В основе размышлений Маркиша – уже упомянутое пессимистическое, проникнутое сознанием исторического трагизма убеждение в том, что культурные корни еврейства Восточной Европы были уничтожены, а «усыхающая ветвь» уже не способна дать живые побеги [Маркиш 1997: 189]. Будучи уверен в крахе еврейского литературного возрождения как в Израиле, так и в Восточной Европе [Маркиш 1995: 223–224], Маркиш выделяет несколько свойств, «гарантирующих» подлинную причастность писателя к еврейской культурной традиции: еврейскую перспективу, или «взгляд изнутри» [Там же: 185], предполагающий глубокое знание еврейской «цивилизации» (1); способность выражать точку зрения еврейской (в широком смысле, т. е. не только религиозной) общины (2) и двойную культурную принадлежность, не допускающую конфликта или разорванности между обеими культурами (3) [Там же: 185–187]. Второй критерий особенно ярко показывает, что за образец Маркиш берет социокультурную ситуацию, которая в России исчезает самое позднее в 1950‐е годы. Прежняя еврейская община, как замечает в нескольких статьях сам Маркиш, давно распалась; при этом он исключает из еврейской культуры всех «выломившихся» из этой общины литераторов. Смысл слова «выломившихся», придающего аргументации непреднамеренно партийный характер, остается непроясненным9090
Позиции Нахимовски и Маркиша в этой дискуссии критически разбирает Маркус Вольф [Wolf 1995].
[Закрыть].
Приговор Маркиша вошел во многие издания, включая справочные9191
Ср. статьи «Русско-еврейская литература» в «Краткой еврейской энциклопедии» и в «Электронной еврейской энциклопедии».
[Закрыть], поэтому позднейшие исследователи часто обращаются к его критериям, чтобы обосновать собственную позицию или по-своему обозначить границы феномена. Кристина Парнелл придерживается следующих критериев Маркиша: бикультурализм, еврейский «взгляд изнутри» и русский язык [Parnell 2004: 120]. Михаил Крутиков, не комментируя проблематизированную Маркишем разницу между еврейскими темами в русской литературе, с одной стороны, и русско-еврейской литературой – с другой, попеременно использует оба слова для обозначения одного и того же явления [Krutikov 2003]. Так, его статья называется «Конструирование еврейской идентичности в современной русской (курсив мой. – К. С.) литературе» («Constructing Jewish Identity in Contemporary Russian Fiction»), но в дальнейшем он использует и понятие «русско-еврейское письмо» («Russian-Jewish writing»). Качеству «еврейскости» тех или иных русскоязычных текстов Крутиков явно приписывает градуальный, а не дефиниторный смысл, что позволяет ему, например, говорить о «наиболее (курсив мой. – К. С.) еврейских произведениях современной российской литературы» [Ibid: 271]. Однако в контексте его исследования очевидно, что упомянутое различие практически не учитывается как раз из‐за незначительности влияния еврейских традиций на современную русско-еврейскую прозу.
Олаф Терпиц описывает – следуя в этом Нахимовски – начавшееся в период Хаскалы сближение, а потом и тесное взаимодействие русской и еврейской культур в Российской империи [Terpitz 2008: 62]. С середины XIX столетия словосочетание «русско-еврейский» означало живую и многогранную взаимосвязь двух соседствующих культур, прерванную лишь в 1930‐е годы. Не вдаваясь в подробные рассуждения о корректности тех или иных дефиниций9292
За исключением концепции Маркиша (см. ниже).
[Закрыть], Терпиц определяет русско-еврейскую литературу как «причастную по меньшей мере двум семиотическим системам», а также, с опорой на постколониальную терминологию Хоми К. Бхабха, как динамичное «„третье пространство“, в котором соответствующие доминанты и пересечения непрерывно пересматриваются» [Ibid: 63]. В целом Терпиц стремится не столько провести границы, сколько исследовать влияние обеих составляющих в конкретных литературно-исторических контекстах. Поэтому он и отвергает модель Шимона Маркиша, критикуя ее за анахронизм научной перспективы9393
Ср.: «Какими бы амбициозными ни были эти критерии, в послереволюционной русско-еврейской культуре их можно применить лишь к исключениям» [Terpitz 2008: 67].
[Закрыть] и эссенциалистскую тоску по еврейской национальной литературе.
Похожее недогматическое понимание русско-еврейской литературы предлагает и Максим Д. Шраер [Shrayer 2008]. Его определение позиции русскоязычного еврейского автора намеренно парадоксально: «Еврейско-русский писатель всегда был и остается одновременно аутсайдером, заглядывающим внутрь, и инсайдером, выглядывающим вовне» [Ibid: 5]. Другими словами, со времен еврейского просвещения и последующей ассимиляции русско-еврейские интеллектуалы могут быть не только «инсайдерами», но и «аутсайдерами» по отношению к своей же культуре, поскольку их идентичность всегда находится в пограничной зоне и потому с трудом поддается определению. Так, Шраер выступает скорее за включение, чем за исключение многочисленных проблематичных случаев. Утверждая в качестве главного критерия принадлежности к русско-еврейской культуре важность для того или иного автора его индивидуальной идентичности, Шраер фактически следует антисхоластическому подходу Элис С. Нахимовски. Но ему важна и тематика текстов: «Необходимым критерием здесь выступает наличие в тексте еврейских тем, предметов, повесток или вопросов» [Ibid: 21]. Концепция Маркиша критикуется и здесь: как издатель двухтомной антологии русско-еврейской, или «еврейско-русской», литературы за обширный период с 1801‐го по 2001 год [Shrayer 2007] Шраер перформативно опровергает отказ Маркиша включать в историю этой литературы весь период после 1930‐х годов.
Хотя Максим Д. Шраер и ставит во главу угла сочетание тематики и перспективы («авторская идентичность, еврейские или иудаистские аспекты и атрибуты, такие как темы, предметы, точки зрения, размышления о духовности и истории, отсылки к культуре и быту» [Shrayer 2008: 24]), двух этих пунктов оказывается недостаточно: он ищет в тексте признаки еврейской поэтики, которая, по выражению Владимира Набокова, содержится «не в тексте, но в текстуре». Впрочем, эти признаки не получают в статье Шраера четкого определения и, более того, кажутся чем-то мистическим и непостижимым (вроде сквозящего между строк смысла).
Небесспорен и термин Шраера «еврейско-русская литература», в котором части составного определения меняются местами: такая перестановка переносит семантический акцент на последнее слово («русская»). Еврейское превращается здесь в дополнительное качество текстов, принадлежащих другим национальным литературам, тогда как проблематика многоязычной еврейской литературы (в том числе литературы диаспоры) остается в тени.
Во введении к своей монографии о зарождении и развитии русско-еврейской литературы в период с 1860‐х по 1940‐е годы [Hetényi 2008] Жужа Хетени в первую очередь подчеркивает ее гетерогенный характер: «Русско-еврейская литература – это пограничное явление, литература с двойными культурными корнями (курсив в оригинале. – К. С.)» [Ibid: 2]. Выбрав ракурс историко-литературной диахронии, и Хетени, и Шраер обращаются к истории критических размышлений о характере феномена, начиная с последней трети XIX века. Они приводят высказывания Михаила Лазарева, Саула Черниховского, Василия Львова-Рогачевского, Аркадия Горнфельда, Джошуа Куница, Марка Слонима, Юлия Айхенвальда, Веры Александровой и, наконец, Шимона Маркиша. Хетени привлекает и более современные концепции, авторы которых указывают на разные фазы влияния в истории русско-еврейской литературы. Например, Итамар Эвен-Зохар выделяет период ивритского влияния в литературе до 1860 года, период русификации еврейской литературы с 1860‐х по 1920‐е годы и «советско-российский» период до 1950 года [Ibid: 13]. Обращение к историческому аспекту как самой литературы, так и ее интерпретаций весьма показательно. И все же, по мнению Хетени, русско-еврейское письмо ускользает от конкретных характеристик, а бесспорную значимость сохраняют в итоге лишь несколько трюизмов: русско-еврейская проза остается инородным телом в любых национальных литературах, установить же ее отношение к обеим питающим ее культурам позволит только подробный анализ текстов; происхождение автора и язык, на котором он пишет, недостаточны для определения культурной специфики его письма; вопрос о двойной культурной принадлежности этой литературы приобрел свою нынешнюю сложность лишь в XX столетии [Ibid: 28–31].
С учетом исторической изменчивости самого предмета я склоняюсь к тому, чтобы рассматривать русскоязычную еврейскую литературу как относительную, градуальную, внутренне гибкую культурную величину, отношение между взаимодополняющими компонентами которой охватывает и качественные, и количественные критерии. При таком подходе недостаточно просто установить причастность этой культуры к двум культурным системам, так как это не позволяет ответить на вопрос о специфике каждой из них.
Без сомнения, «еврейскость» текстов, написанных по-русски авторами-евреями, нельзя измерить чисто количественно: культурно-исторические факторы влияют не только на количество или степень, но и на качество, определяя, выступает ли еврейство исключительно объектом изображения или же еще и пронизывает фактуру и структуру текстов; ограничивается ли автор социальной критикой антисемитизма и сожалением об утрате еврейского культурного наследия – или утраченная традиция становится предметом поэтической рефлексии. Чем более «объектной» и дискурсивно изолированной оказывается литературная рефлексия еврейства, тем более историографический характер она приобретает, сближаясь с документацией или инсценировкой фактов. Противоположным примером был бы воображаемый текст, в котором еврейские образ мышления, юмор, тропы, интертекстуальность, стилистика и риторика соединялись бы с еврейской философией и диегезисом9494
В качестве яркого примера часто приводятся произведения Исаака Бабеля. Конечно, и позднесоветская литература, например, творчество Бориса Слуцкого, обнаруживала свою еврейскую культурную сущность – в форме «цитат, интерпретации источников, перечитывания, смещения акцентов, аллюзий, интертекстуальности и рефлексии культурной памяти» [Grinberg 2011: 29].
[Закрыть]. Жизнеспособность традиции напрямую коррелирует с тем, насколько сложно эта традиция отражается в литературе.
В последней трети XX и в XXI веке было создано множество текстов на русском языке, которые, обращаясь к последствиям шоа, советского антисемитизма и еврейской эмиграции, вместе с тем поэт(олог)ически мало связаны с еврейской культурной традицией. Классический пример этой литературной линии – роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»; за ним следует проза Анатолия Рыбакова, Ирины Грековой, Людмилы Улицкой и многих других. Гораздо большее – хотя и очень разное – отношение к еврейскому письму имеют произведения Эфраима Севелы, Израиля Меттера, Эли Люксембурга, Григория Кановича, Ефрема Бауха, Михаила Юдсона, Якова Шехтера, Олега Юрьева или Якова Цигельмана.
Критерии Шимона Маркиша сохраняют свою, пусть и небезоговорочную, убедительность как раз потому, что позволяют дифференцировать современную русско-еврейскую литературу. Действительно, как происходит литературное «переоткрытие» еврейства после десятилетий забвения, эзопова языка и культурной сублимации? Меня интересует момент, когда еврейская литература заново открывает свое прошлое или пытается определить собственное отношение к нему. Важнее всего здесь оказывается проблематика переизобретения, постпамяти, постгуманного подхода к традиции, авторефлексии, но вместе с тем и нового мифотворчества.









































