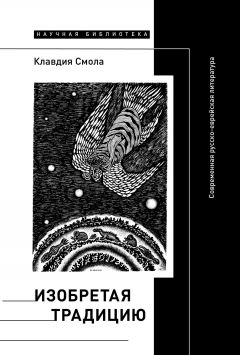
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
ЕВРЕЙСКОЕ ДИССИДЕНТСТВО: АНДЕГРАУНД, ИСХОД И ЛИТЕРАТУРА
…если сегодня в мире остается место, где государство Израиль по-прежнему воспринимается не как территориальная единица со своими законами и границами, а скорее как далекая мечта, священное видение, то оно находится в Советском Союзе.
Эли Визель [Wiesel 1966: 87–88]
Советские евреи: факты, коллективные представления, мифологемы
Этническая малозаметность ассимилированного и вместе с тем (полу)табуированного советского еврейства не мешала развитию образов Другого и стереотипов. Это, в свою очередь, влияло на самоопределение советских евреев, нередко смотревших на себя через призму чужих проекций. Как говорилось выше, антисемитизм неслучайно был центральной темой многих произведений поздне– и постсоветской еврейской прозы9595
На социопатологическом уровне этот навязанный взгляд на себя анализирует Александр Мелихов в романе «Исповедь еврея»: хроническому замалчиванию собственной идентичности противостоит здесь сам жанр исповеди, предполагающий безусловное самооткровение (см. «Постколониальный mimic man: „Исповедь еврея“ Александра Мелихова», с. 370).
[Закрыть].
Коллективные представления, о которых здесь идет речь, осложнены тем, что в условиях завуалированной дискриминации они могли иметь очень разное отношение к действительности и отражали как антисемитские (реже – филосемитские) стереотипы, так и ценностно нейтральные феномены, а также еврейское самовосприятие9696
О теории гетеростереотипа и автостереотипа см. в: [Hahn 2007].
[Закрыть]. Как известно, клише рождается из неверно или однобоко истолкованного факта, например, когда «исторически обусловленные факторы провозглашаются сущностными и характерными чертами» [Garleff 2002: 198]. Но иногда коллективные знания о евреях могут указывать и на объективное положение дел (например, на сам факт антисемитизма).
Попытки приблизиться к характеристикам советских евреев, к самой парадоксальности их обобщенного образа наталкиваются на старое явление «коллективного воображаемого», передающего от поколения к поколению представления о национальном «коллективном теле» – и о еврейском инородном. Кристина фон Браун, изучающая «фантазии о коллективном теле» на примере конструктов женщин и евреев в христианстве, указывает на «невербализуемый, неписаный, подспудный дискурс», действенность которого подкрепляется исторически изменчивыми медийными и научными системами [Braun 2001: 9–10]. Этот символический феномен подчеркивает и Леонид Ливак, говоря об отличии «воображаемых евреев» [Livak 2010: 3] от реальных, причем первое наименование пишет в кавычках и со строчной буквы («the jews») [Ibid: 4].
Что касается отношения к евреям в советском обществе, модернизация которого проходила стремительно и во многом поверхностно, стародавние общинные чаяния, питаемые верой и суевериями, сочетались с рациональными, манипулятивными стратегиями режима, имевшими мощную медийную и идеологическую поддержку. Обрусение евреев отнюдь не отменяло той гегемонной позиции, которую в постколониальных исследованиях связывают с феноменом ориентализации и гомогенизации подчиненного. Неотличимость евреев от большинства рождала коллективные страхи и желание (принудительной) идентификации. Эта модель «своего чужого» еврейства наследовала известным историческим образцам, возникшим в ходе еврейской ассимиляции и эмансипации в Европе:
Вместе с предоставлением еврейству полных гражданских прав и добровольным отказом многих евреев от зримых примет национальной особости, таких как кафтан, борода и пейсы, возник мотив «еврея-притворщика»: обманщика, таящегося под маской (курсив в оригинале. – К. С.) добропорядочного гражданина. […] Именно в силу своей новообретенной «невидимости» […] этот «Другой» и считался особенно опасным. Потребность вернуть «невидимому еврею» «видимость» породила теории о еврейской расе, призванные обосновать физиологически «иную» природу евреев [Braun 2001: 33–34].
В этом ключе Андреа Хойзер рассматривает ассимиляцию немецких евреев, которая сопровождалась усилением коллективной потребности в «изобретении» еврея как Другого – физиологически или духовно: «„Еврея“ как воображаемого „внутреннего врага“ требовалось сначала изобрести заново, а затем […] отчленить от коллективного „я“» [Heuser 2011: 43].
Унаследовав основные признаки теократических государств, советская система вобрала в себя, подобно секуляризированной, постхристианской Европе, демонстративно отвергаемые ею религиозные структуры: «„сакрализацию“ национального сообщества и обмирщение религиозного мышления» [Braun 2001: 438]. В дальнейшем я покажу, как еврейское диссидентство черпает ex negativo из религиозной сущности коммунистической идеологии; при этом обе стороны обретают легитимацию и опору в библейских источниках9797
Религиозные или восходящие к архаическим верованиям корни советского коммунизма были достаточно исследованы за последние десятилетия (см. Введение), в частности, Александром Эткиндом [Эткинд 1998] и Михаилом Вайскопфом [Вайскопф 2001а]. Эткинд, исследующий секты как проявление религиозного диссидентства, рассматривает дух советского тоталитаризма – апокалиптически-эсхатологический, революционно-хилиастический, вдохновленный идеей всеобщего спасения под руководством харизматического вождя, – в контексте долгой истории радикального религиозного инакомыслия в России. Этот дух был издавна присущ российской интеллектуальной мысли, что нашло отражение, например, в философии Николая Федорова с его идеей воскресения и бессмертия [Эткинд 1998: 23–24].
[Закрыть].
Известным символическим ритуалом национального очищения стала кампания конца 1940‐х годов против «безродных космополитов», включавшая разоблачение еврейских работников культуры и интеллектуалов. Она сопровождалась неутомимым обнародованием скрывающихся за русскими псевдонимами настоящих еврейских имен. В этом эпизоде ярко воплотилась фрейдовская категория жуткого, перетолкованная Хоми К. Бхабха как вытеснение и проекция пугающего «своего» на колонизированных «чужих», поскольку речь идет о вытеснении давно ассимилированного, культурно подчиненного Другого, как раз потому и ставшего опасным9898
Вот как Илья Кукулин описывает феномен включения и метафоризации евреев (как «своих чужих») в русско-советском коллективном сознании: «Еврейское самосознание было репрессировано иначе и воспринималось иначе, чем национальное самосознание многих „союзных и автономных республик“ […]. Табу на обсуждение „еврейских проблем“ воспринималось (и воспринимается) как проблема в значительной степени внутри русской культуры, а почти все остальные табу в области национальной идентификации – как существующие на границах этой культуры. Еврейство как преследуемое меньшинство стало источником общекультурно-значимой метафорики» [Кукулин 2003].
[Закрыть]. Однако колониальная взаимозависимость основана здесь не на идее культурного превосходства колонизатора, а на его иррациональном страхе перед собственной мнимой уязвимостью и неполноценностью. Проекция пугающей расщепленности тоталитарного общества на стереотипную (распространенную уже в Средние века) еврейскую непостижимость, мерцающую и вечно изменчивую9999
О конструкте «внутреннего Другого», разработанном Цветаном Тодоровым, и о связи сексуальности и национализма см. также в: [Weigel 1994]. Обобщенно о комплексе «женственность и еврейство» см. также в: [Schößler 2008: 41–42].
[Закрыть], вполне двойственна: стереотипы функционируют как чередование либо симбиоз вытеснения и приручения, усвоения «чужого». При этом «видимое разделение» («visibility of the separation») [Bhabha 1994: 118] «я» и Другого должно снова и снова гарантировать собственную чистоту и, следовательно, удержание власти.
Исторически с этим соседствовало представление о еврейском как женском, уже исследованное на многочисленных примерах из европейской культуры и создающее дополнительную плоскость для проекции «чужого» (подробнее об этом см. в: [Braun 2001: особ. 447–466]). Авторы сборников «Еврейская культура и женственность в модерне» [Stephan et al. 1994] и «Антисемитизм и пол» [Gender-Killer 2005, особенно Hödl 2005 и Günther 2005] анализируют, например, взаимосвязи коллективных конструктов еврейского и женского на протяжении истории еврейской и женской эмансипации. Для Отто Вейнингера, молодого автора «Пола и характера» (1917), «женщина и еврей […] это мера самоопределения, то „не-я“, через которое „я“ определяет себя» [Braun 1994: 24]. Двойная проекция – на женщин и евреев – многозначности, неопределимости и притворства [Ibid: 26–27] усиливается в период ассимиляции: «Политическая эпоха эмансипации и ассимиляции, требующая, чтобы во внешности, языке и морали евреи равнялись на гражданский кодекс поведения в Европе, парадоксальным образом производит еврейское» [Frübis 2005: 139].
В Советском Союзе сочетание догмы всеобщего равенства с фактической маргинализацией «своих чужих» высвобождало огромный мифотворческий, внутренне противоречивый потенциал для интерпретации еврейства: «Этой нации в России сопутствует сложный комплекс мифов […] Евреи – это те, кто заставляет всех остальных определить свое отношение к ним» [Вайль/Генис 1996: 298].
Тенденция к гомогенизации, обособлению и нормализации, то есть стирающей различия интеграции еврейского населения многонациональной Российской империи, во многом ставшей моделью советского государства, показана, в частности, в исследовании Марины Могильнер об истории физической антропологии. Изучая еврейский «физический тип», большинство ученых рубежа XIX–XX столетий (в том числе еврейских) подтверждают наличие у евреев определенных антропологических признаков, тем самым вдыхая новую жизнь в старый конструкт «еврейской физиономии»:
Тем самым игнорировалась реальная гетерогенность российского еврейства […] и внутренний конфликт между идеалами аккультурации и сохранения национальной идентичности. Парадоксальным образом политическое признание равноправия евреев в этой ситуации оборачивалось молчаливым согласием с еврейской «особостью», поскольку евреи включались в полноправную «семью народов» России на особых основаниях, без предварительного разрешения множества внутренних проблем и противоречий. В модели антропологии имперского разнообразия, несмотря на ее инклюзивность и универсализирующий потенциал, существовали структурные предпосылки для […] неявной еврейской экзотизации и отстранения [Могильнер 2012: 396].
Маргинализация евреев в Советском Союзе не основывалась на расовых принципах и «онаучивании» еврейского дискурса, а проистекала из социокультурных источников. Страх перед мимикрирующим присутствием Другого вызвал ряд мер по проявлению евреев: графа о национальности в паспорте или планы по изоляции евреев, например, выселению (как в ходе «дела врачей» незадолго до смерти Сталина)100100
Как явствует, например, из критического анализа, предпринятого Александром Мелиховым в очерке «Биробиджан – земля обетованная», это намерение выразилось, помимо прочего, в идее создания Еврейской автономной республики в Биробиджане: «…стараясь от Москвы до самых до окраин в зародыше истребить всякую тень национального сопротивления, романтический большевизм в двадцатые-тридцатые годы […] стремился одновременно и растворить, и обособить евреев. Вплоть до того, чтобы соорудить новый Сион уже не на Ближнем, а на Дальнем Востоке, предоставив евреям новую социалистическую родину – Биробиджан, чтобы рассеянное еврейство могло обернуться обычной национальной единицей, вроде Чувашии или Карачаево-Черкесии» [Мелихов 2009: 8–9]. Здесь важна мысль о навязчивом желании советской власти «нормализовать» и «адаптировать» еврейство благодаря созданию республики на Дальнем Востоке [Там же: 9]: центральная для постколониального аналитического подхода идея контроля, пространственного обособления и гомогенизации меньшинства здесь хорошо просматривается.
[Закрыть]. В результате советское еврейство действительно освоило приемы мимикрии тысячелетней давности – от криптоеврейства на периферии до изменения имен и гиперассимиляции в крупных городах.
Наши знания о феномене советских евреев почерпнуты из историографии, воспоминаний, историко-культурных анализов и документальной прозы. Источники и суждения разной степени достоверности тесно переплетены друг с другом – даже тогда, когда принадлежат историкам и деятелям эпохи, которые сами являются частью советско-еврейского контекста. Такие свидетельства особенно интересны: это своего рода ангажированная, автобиографическая или литературная историография. Кроме того, более ранние рефлексии советско-еврейских коллективных образов, клише и мифологем нередко принадлежали самим активистам и интеллектуалам еврейского движения, таким как Эфраим Севела, Александр Воронель или Владимир Лазарис, – движения, побудившего евреев обратиться к собственной культуре и корням.
Вот перечень атрибутов позднесоветского еврейства и коллективных представлений о нем, подкрепленный ссылками как на историко-культурные работы, так и на тексты свидетелей и акторов:
1. Отсутствие или бедность этнических культурных признаков, таких как религия, обычаи и язык (в первую очередь иврит и идиш), – результат русификации и советизации евреев после революции 1917 года. Еврейство ограничивалось набором формальных и социокультурных признаков, а именно – указанием национальности в паспорте, «типичной» профессией, образованием, подчас расплывчатыми или определяемыми от противного бытовыми привычками, поведением или юмором (см. ниже пункты 4, 5 и 6)101101
Правда, многие рожденные после шоа европейские евреи в целом соответствуют этим характеристикам, о чем, в частности, свидетельствует высказывание Максима Биллера: «Но у нашего еврейства не было никакой собственной сущности, все оно сводилось к определенной манере смеяться, думать, противоречить, рассказывать истории и пить чай сквозь кусочек рафинада» (цит. по: [Heuser 2011: 115]).
[Закрыть]. В социологии такую «вторичную» этническую идентичность называют порой «thin identity»: «„Тонкие“ идентичности более подвижны, они основаны на общем опыте, культуре, ценностях, условностях и чувствительных точках. В этом смысле этническая идентичность советских евреев с самого начала была „тонкой“» [Krutikov 2002: 5]. Геннадий Эстрайх говорит о «скорее внутреннем, нежели открыто проявляемом еврействе», описывая советских евреев 1950–1960‐х годов как «новых евреев» («the new Jew») [Estraikh 2008: 105–106]. Если принять культурно-антропологические критерии Юрия Слезкина, который, однако, и сам мифологизирует образ еврейства, советские евреи утратили существенный признак «меркурианского» народа – свой «тайный язык», свидетельствовавший об их особом статусе посредников и обеспечивавший исключительность диаспоры: «Языки эти […] не умещаются ни в одну из существующих языковых „семей“. Их raison d’ être – увековечение отличий, сознательное сохранение странности, а значит – чуждости» [Слезкин 2005: 32]102102
Слезкин метафорически делит народы на «аполлонийские» (большинство, живущее земледелием, скотоводством и войной) и «меркурианские» (меньшинство, занимающееся торговлей и оказанием услуг). Исторически меркурианский образ жизни отличался (прежде всего у евреев) мобильностью, а сами меркурианцы – способностью извлекать пользу из своей образованности и гибкости.
[Закрыть].
Даже в научной литературе последних лет содержатся утверждения, что евреи как этнос не существуют (они «растворились», главным образом, среди русских) и, в то же время, они вполне различимы, так как имеют ряд специфических еврейских черт. Коллизия «неуловимой наличности» евреев давно присутствует в советской модели мира [Кантор 1999: 251–252].
Владимир Лазарис отмечает: «…как это ни парадоксально, но, не имея желания и возможности быть евреями в СССР, они были вынуждены числиться ими в паспортах, бесчисленных анкетах и переписях» [Лазарис 1981: 168]103103
Как показывает, например, публикация «Истории жизни евреев в Советском Союзе» [Arend 2011], такое положение дел отражается и в самоописаниях советских евреев. Вот как автор, Ян Аренд, комментирует истории жизни интервьюируемых: «Сознание собственного еврейства возводится здесь к опыту общественного и политического антисемитизма. Еврейство описывается как нечто определенное средой, а не как внутренняя идентичность. Противопоставление внутреннего, самостоятельно определяемого еврейства и еврейства внешнего, определяемого другими, образует важнейшую смысловую структуру этих рассказов» [Ibid: 49].
[Закрыть].
2. С этим соотносится маргинальное положение евреев в Советском Союзе, парадоксально соседствовавшее с высоким уровнем официального признания. Государственный антисемитизм простирался от массовых арестов, травли и казней сталинской эпохи до более поздних ограничений в области образования и профессии. Важный нюанс социального притеснения евреев заключался в замалчивании их присутствия в советском обществе и истории: неупоминании о еврейской национальности героев Второй мировой войны, табуировании холокоста или затушевывании еврейского происхождения исторических и общественных деятелей.
…возникает впечатление, что не говори мы так хорошо […] по-русски и отличайся хоть длинными пейсами, что ли, русские относились бы к нам терпимее. Они таким образом как бы чувствовали, что с нашей стороны нет претензии на хозяйские права по отношению к русской культуре и национальным святыням [Воронель 2003б: 188].
По мнению Александра Кантора, после войны советские евреи лишились «любых форм реального этнического существования и самовыражения: от мест компактного проживания до учебных заведений, прессы и т. д. […]. Однако социальная одиозность евреев, признаваемых общественным мнением позитивно лишь в качестве отдельных личностей („хороший человек, хоть и еврей“), вынуждала их вытеснять черты этнического характера, возрождая досоветский тип „закомплексованного“ еврея с хрупким, уязвимым, нарциссическим самоуважением, вечно ищущим подтверждения и поддержки собственного, общественно слабого „Я“» [Кантор 2000]. Показателен описываемый Кантором поворот в еврейском самовосприятии после перестройки: «Сам факт общественной реанимации слова „еврей“ означает серьезные культурные изменения. Преодолевается негативный модус еврейской самоидентификации („еврей“, по словам И. Бродского, звучало подобно упоминанию венерической болезни)» [Кантор 1999: 257].
3. В царской России, а затем и в Советском Союзе еврейство (опять-таки, несмотря на сильную ассимилированность или как раз благодаря ей) считалось подрывной политической силой; русские евреи слыли инсургентами, левыми, вечно недовольными, им приписывали нонконформизм, склонность к нестандартному мышлению, сомнениям и протесту, а в быту – тягу к неудобным дискуссиям. Подтверждением таких представлений чаще всего служили в XX веке два примера из истории: активное участие русских евреев в Октябрьской революции и сионистское диссидентское движение 1960–1980‐х годов. Свойственное прежде всего антисемитскому дискурсу104104
Об общих признаках потенциальной субверсивности, которые приписывались евреям и бродягам в эпоху Fin de siècle, – «вероятном отсутствии патриотизма и слабом признании авторитетов», см.: [Hödl 1997: 158–160].
[Закрыть], это толкование оказывается в других контекстах нейтральным или положительным стереотипом общего культурного происхождения. Рассуждая о формировании еврейских коллективных качеств, Кристина фон Браун со ссылкой на Йосефа Х. Йерушалми говорит о «смещении „еврейского мышления“ […] в область секулярного» [Braun 2001: 441]: свойственное иудаизму «упражнение в терпеливом ожидании» (Мессии), противопоставленное христианской «религии „исполнения“», отражается в недоверчивости и склонности к сомнениям у еврейских интеллектуалов и философов [Ibid: 452]. Попытки приписать евреям общие качества комментирует Андреа Хойзер на примере немецкой интеллектуальной рецепции еврейской идентичности:
Культура аутсайдеров, смутьянов […] – эти обозначения носят относительный характер, определяя идентичность не исходя из нее самой, как, например, это было еще в представлении о «народе книги», а через отклонение от другой базовой величины, по отношению к которой еврейство определяется как инаковость [Heuser 2011: 83].
Согласно сионистски окрашенной оценке отказника Владимира Лазариса, советские евреи присоединялись «к любому оппозиционному движению, обещавшему им равенство в правах и возможность жить, как все (курсив в оригинале. — К. С.). И незаметно для себя они выпали из тысячелетней еврейской истории и начали творить историю русскую» [Лазарис 1981: 33]. Много позже Максим Кантор придет к выводу: «Бешеная энергия еврейства сказалась и в красных комиссарах, навязывающих счастье всему человечеству, и в идеологах сионизма, желающих счастья отдельному народу» [Кантор 2008: 352]. Наконец, полно самоиронии суждение Александра Воронеля: «Их склонность „качать права“ вызывает всеобщее раздражение именно тогда, когда она не диктуется никакими практическими интересами» [Воронель 2003a: 36]; еврей «всегда выступает как нонконформистский и подвижный элемент» [Там же: 44].
4. Бытовой антисемитизм, негласно поддерживаемый государством, одновременно вел к развитию определенных психосоциальных качеств и поведения: нерешительности, интроверсии, чувства вины и стыда, неуверенности в себе. Харриет Мурав цитирует понятие «меланхолии расы» («the melancholy of race») [Cheng 2001], анализируя идентичность советских и постсоветских евреев в прозе Александра Мелихова105105
См. об этом «Постколониальный mimic man: „Исповедь еврея“ Александра Мелихова», с. 370.
[Закрыть]. Введенное Эли Визелем понятие «евреи молчания» превратилось в клише, отразившее не только политическую и культурную пассивность, на которую сетовал в своей работе автор, но и повседневное поведение советских евреев106106
Показательно, что сам Визель часто использует в своем témoignage советско-еврейской жизни психологически и эмоционально окрашенные выражения, такие как «ne reint pas» («не смеются»), «ne se confient pas» («никому не доверяют»), «ne se réjouissent pas en public» («не радуются прилюдно») [Wiesel 1966: 25], «la tristesse» («печаль») [Ibid: 33], «la solitude» («одиночество») [Ibid: 79]. В его изображении единственным оазисом радости и свободы для евреев становится праздник Симхат-Тора, см.: [Ibid: 50–62].
[Закрыть]. Как раз поэтому победа Израиля в Шестидневной войне 1967 года и последующее еврейское протестное движение в Советском Союзе произвели значимый поворот в общественном сознании: пошатнулось расхожее представление о слабом и трусливом еврее.
…в еврействе внедрялся комплекс национальной неполноценности, подвергалась уродливой деформации психика, душа человека. Многие начинали стыдиться своей национальной принадлежности, скрывать ее от других, меняли фамилии и имена на русские. А если удавалось, меняли и национальность [Севела 2007a: 171]107107
Психолог Александр Кантор пишет о еврейской «выученной беспомощности» («learned helplessness») и хронических негативных переживаниях, например, депрессиях или фундаментальных экзистенциальных страхах [Кантор 2000].
[Закрыть].
5. Тяга евреев к образованию, искусству, абстрактному знанию и письменной культуре – еврейские интеллектуалы возводят ее к многовековому изучению Торы и Талмуда, а также к музыкальному воспитанию диаспоры и традиционным музыкальным профессиям – согласуется с тем фактом, что в среднем евреи были более образованны по сравнению с русско-советским большинством, имели более престижные, интеллектуальные профессии, лучше владели русским языком и были богаче представлены в сфере науки и культуры: «…евреи активно проявляли себя в науке, образовании, медицине, праве, культуре и искусстве, а также в инженерном деле и на управляющих должностях в промышленности, строительстве и транспорте» [Krutikov 2002: 3]. В многочисленных документальных и художественных тектсах эпохи зафиксированы неприязнь и даже ненависть малообразованной, идеологически обработанной «пролетарской» массы к интеллигенции, особенно еврейской, к интеллигентам-очкарикам.
Бенджамин Харшав указывает на традиционную связь еврейства, этой «падшей аристократии духа», с интеллектуальным дискурсом, что начиная с XIX века контрастировало с бедностью евреев, особенно в Восточной Европе. Эта особая привилегия имела исторические последствия:
Несмотря на бедность, в своих собственных глазах евреи были падшей духовной аристократией, осведомленной о своей истории, миссии и идеологических позициях в целом. Именно поэтому еврею низкого происхождения было относительно нетрудно подняться на высшие уровни общества и культуры: в ментальном плане ему не требовалось преодолевать вертикальные классовые барьеры […]. По той же причине антисемитские выпады против евреев были направлены по большей части против их поведения, а не ума [Harshav 1990: 96]108108
Юрий Слезкин указывает на «хитроумие» – «главное оружие слабого» – как на исторически сложившееся качество «меркурианских» народов, прототипом которых выступает Гермес (Меркурий) или Одиссей [Слезкин 2005: 43]. «Хитроумие» здесь и чужой конструкт, и образ себя. Он описывает «меркурианцев» на основании их способности (которая оказывается стратегией выживания) передавать и обменивать такие не вполне осязаемые меновые ценности, как знания и деньги: «…меркурианцы используют слова, деньги, понятия, эмоции и другие неосязаемые объекты в качестве инструментов своего ремесла» [Там же: 44].
[Закрыть].
Коммунистический режим воспринял старые предрассудки с поразительной последовательностью. Советским евреям систематически затрудняли доступ к «типичным», то есть интеллектуальным, сферам: на это был направлен, в частности, общеизвестный, хотя и неофициальный numerus clausus в высших учебных заведениях. Но даже в годы самых ожесточенных гонений на евреев запрещалось официально связывать преступления «классовых врагов» с их национальностью. Эфраим Севела вспоминает, как во время «погромного собрания» в редакции газеты, где он работал в конце 1940‐х годов, «никто не произносил слова „еврей“. Оно подменялось такими ставшими модными выражениями, как „безродные космополиты“, „беспаспортные бродяги“, „люди без роду и племени“» [Севела 2007a: 86].
Показательны и «фольклорные» суждения о еврейской образованности:
В массовой русской среде «еврейский ум» оценивается положительно, отмечается его «ученость» («вон они сколько чего придумали»), – и негативно оценивается склонность евреев к т. н. «непыльной» работе («рабочих на заводе – их нету»; «только инженерами»; «учителя да врачи»; «всё говорить и ручкой водить, а пахать не хотят»). Данные мнения отражают, помимо социальных реалий (распространенность среди евреев городских профессий), различия культурного свойства [Кантор 1999: 254].
6. Боязнь «чужих», усиленная антисионистской кампанией, которая началась вскоре после создания государства Израиль, приписывала евреям такие качества, как скрытность и неискренность, завуалированную насмешливость, склонность к «трусливой», иронической критике советской действительности, практицизм вплоть до алчности. Этот образ противопоставлялся мифу о русской открытости, честности, самоотверженности и мужестве. При этом непохожесть евреев на русских нередко отражалась в бытовых стереотипах: о евреях «было известно», что они не пьют алкоголь и избегают конфликтов. Типичный еврейский ребенок много читал, играл на музыкальном инструменте, был физически хрупким (хилым и неспортивным)109109
О семиотике коллективного образа еврейского тела в Европе (например, о значении «глаз», «телосложения», «волос», «запаха» и др.) см. в: [Livak 2010: 88–101] и [Hödl 1997: 105–232].
[Закрыть], не лез в драку и потому нередко слыл маменькиным сынком. Неудивительно, что эти и описанные в четвертом пункте признаки составляли тот фон, от которого отталкивался сионистский (литературный) дискурс110110
См. о романе воспитания Давида Маркиша «Присказка» («Воспитание нового еврея: „Присказка“ Давида Маркиша», с. 177).
[Закрыть].
Малоразличимое внешне, еврейство идентифицировалось по поведению и образу мышления: «Меня всюду за еврея принимали потому, что не пил, не курил… скопидом, значит», – жаловался автору статьи один работяга. А вот анекдот о приеме на работу в милицию: знающего правильный ответ на «дважды два» заподозрили в еврействе [Кантор 1999: 253].
Иногда антисемитские клише советского времени возводят к христианским представлениям старой Европы: среди них мотив Шейлока, «тема всемирного еврейского заговора» и «отождествление еврейства с капитализмом» [Bland-Spitz 1980: 182]. Очевидно, советский режим прибегал к прочным представлениям об инородцах, метафорически оживляя стародавние обвинения евреев в отравлении колодцев111111
См. [Bland-Spitz 1980] и особенно цитату Леона Ленемана [Ibid: 190]. О распространении мифологизированных образов евреев в устных и письменных источниках дореволюционной России пишет Ливак: «Насаждаемый духовенством образ „евреев“ основывался не только на евангелиях, но и на дидактических рассказах (exempla), проповедях, житиях, апокрифах и антииудейских трактатах (жанры adversus Iudaeos)» [Livak 2010: 12].
[Закрыть].
Но во всей своей яркости и сложности приведенные признаки и представления оживают именно в литературных текстах. Русско-еврейская проза последних десятилетий, часто реалистическая, полная критики системы, автобиографическая, становится настоящим компендиумом бытовых ситуаций, которые иллюстрируют, нюансируют и вместе с тем типизируют положение евреев в Советском Союзе. Художественная условность позволяет воплотить разнообразие и индивидуальность опыта на вымышленном, но при этом часто весьма фактографическом материале. Неудивительно поэтому, что такой прозе присущ набор устойчивых топосов, из суммы которых складывается панорама эпохи. В моем исследовании, однако, миметические константы времени составляют прежде всего контекст, позволяющий прояснить повествовательные позиции еврейских авторов.









































