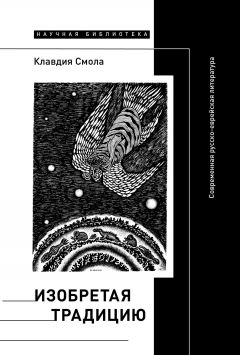
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Понятие «мимикрия» в современном употреблении восходит к естественно-научному дискурсу112112
Несмотря на то, что происхождение этого понятия от термина мимесис и существующие со времен античности культурные и особенно художественные коннотации делают естественно-научное (биологическое) употребление как раз вторичным (о «диалоге между дисциплинами» по вопросам теоретического использования пары терминов «мимесис/мимикрия» см.: [Becker et al. 2008: особ. 12–13]).
[Закрыть] и означает способность некоторых видов имитировать признаки других видов. В XX веке этот термин, приобретая все бóльшую многозначность, стал использоваться в философии, психоанализе и культурологии. Вальтер Беньямин, Теодор В. Адорно, Жак Лакан, а в последнее время теоретики postcolonial studies (прежде всего Хоми К. Бхабха) соотносят феномен мимикрии с человеческим поведением, внешностью и мышлением либо бессознательным (см. об этом: [Becker et al. 2008])113113
В междисциплинарных исследованиях последних лет феномену мимикрии уделяется немало внимания, например, в проекте Цюрихского университета «Имитация – ассимиляция – трансформация» (2010–2014): «Проект посвящен литературоведческому, историческому и философскому исследованию роли категорий имитации, ассимиляции и трансформации в различных эпистемологиях, семантиках и практиках присвоения». Это предполагалось продемонстрировать, в частности, на примере «еврейской ассимиляции, (пост)колониальной аутентичности и этнографической репрезентации» (http://www.iat.ethz.ch, дата обращения: 18.02.2014; в настоящее время сайт недоступен). При этом часть проекта была посвящена теме «Мимикрия, аутентичность и политическая эмансипация: противоречивые дискурсы ассимиляции в колониальной Индии (ок. 1860–1930)» (http://www.iat.ethz.ch/research/projects/TeilprojektA, дата обращения: 18.02.2014; в настоящее время сайт недоступен). Однако уже в 2005 году во Франкфуртском университете им. Гёте прошла конференция на тему «Мимикрия/мимесис. Опасная роскошь между природой и культурой», по результатам которой в 2008 году был выпущен одноименный том, см.: [Becker et al. 2008].
[Закрыть].
В качестве техники приспособления, сокрытия и создания кажимости в пределах социумов мимикрия все чаще обсуждается в культурологии и литературоведении. Понятия инаковости и культурной дискриминации, обычно сопутствующие мимикрии, восходят, как показывает Клаудиа Брегер, к термину конца XVIII века «подражание» (или «обезьянничание», «Nachäffung»), встречающемуся, например, у Иоганна Готфрида Гердера, который в «Трактате о происхождении языка» (1772) проводит различие между творческим подражанием/мимесисом и бессмысленной, бездумной имитацией, свойственной, например, обезьянам: «Для Просвещения „естественно“ было причислять к „иной“ части человечества, символизируемой этой обезьяной, также […] „ненастоящих“ или „неполноценных“ людей: дикарей, „цыган“, в какой-то мере женщин» [Breger 1999: 179].
В приложении к еврейству диаспоры это понятие обретает особые коннотации. Здесь мимикрия понимается как вынужденная и пагубная для идентичности стратегия приспособления, возникшая в результате общественного, культурного и политического давления на евреев и означавшая крах большого проекта эмансипации и аккультурации диаспоры. Парадигму таких размышлений задала Ханна Арендт в известном эссе «Скрытая традиция» (впервые опубликованном в 1948 году), где «соблазн безумной мимикрии» евреев противопоставляется «настоящему сплаву» [Арендт 2008: 58, 67]. Хотя Арендт упоминает этот термин лишь вскользь, она тем не менее предвосхищает его позднейшее употребление в разных контекстах114114
Начатый Ханной Арендт научный дискурс о тайной, или двойной, идентичности евреев диаспоры развивает Сандер Л. Гилман в известном исследовании «Еврейская ненависть к себе. Антисемитизм и тайный язык евреев» [Gilman 1986].
[Закрыть]. С точки зрения Доротеи Гельхард, проблематизированный в современной немецко-еврейской литературе феномен мимикрии – это признак так и не преодоленного в эпоху мультикультурализма «старого дихотомического мышления», перечеркивающего гибридную концепцию идентичности, о которой так мечтает постколониальная теория [Gelhard 2008: 192]. Для литературных героев-евреев, анализируемых Гельхард, мимикрия – это не что иное, как мучительное сокрытие собственной аутентичности, вызванное предвосхищаемым неприятием со стороны окружающих: «гиперассимиляция». «В попытках скрыть те или иные признаки своего „я“, воспринимаемые как „позорные пятна“, […] персонажи создают разные симулякры самих себя» [Ibid: 205, 214]. В упомянутом в предшествующей главе исследовании, которое отсылает к нашей теме уже самим своим названием («Опыт об обмане»), Кристина фон Браун заново вступает на территорию «коллективного воображаемого» [Braun 2001: 10], говоря о еврейском теле как о социальном и культурном конструкте: по мере еврейской ассимиляции «парадигмы ви́дения и невидимости, симуляции и обмана» [Ibid: 33] становились все отчетливее.
В моем употреблении многозначное понятие мимикрии сохраняет свои общие приметы115115
Подробнее об этом см. в: [Smola 2011c]).
[Закрыть]: это адаптация, которая используется в качестве сознательной стратегии, призванной либо скрывать «свое», либо – в литературе и искусстве – подчеркнуть и выявить его в игровой форме (о последнем ниже). Мимикрия, соответственно, может проявляться в трагическом и/или комическом письме. Доротея Гельхард акцентирует первый вариант, формулируя два основных приема мимикрии – dissimulatio и simulatio: «Диссимуляция состоит в обмане о своем собственном, симуляция – в обманчивом присвоении чужого» [Gelhard 2008: 203].
Проблематика камуфляжа, современного криптоеврейства, или «марранизма», и смены имен раскрывает травмы и потаенные слои личности заведомого чужака, отмеченной пограничным опытом. В прозе еврейских нонконформистов мимикрия нередко разоблачает миф о гармоничной, лишенной этнических предрассудков советской семье народов и вместе с тем связывается с проблемой перевода.
Еврейская способность перенимать, переносить и переводить чужие культурные и политические ценности является мощным историческим гетеростереотипом, подразумевающим не в последнюю очередь подозрительное отношение к евреям116116
Что приводило порой к политическим процессам (ср., например, «дело переводчиков» в 1938 году. См. об этом также в: [Murav 2011: 290]).
[Закрыть], и вместе с тем, как аргументирует Юрий Слезкин [Слезкин 2005], исторически сложившимся качеством. В Советском Союзе переводческая деятельность евреев – и не только евреев – оказалась в буквальном смысле стратегией выживания. Номинальное, а в большой степени и фактическое отсутствие еврейской культуры в публичной сфере, а также предрасположенность ассимилированных евреев к умственным занятиям нередко побуждали их занимать нишу посредников. Литературный перевод как эфемерный и подчас эзопов способ самовыражения стал символом трагической несущественности, если не сказать невидимости еврейской культуры в стране: советские евреи уже почти утратили «тайный язык меркурианских ремесел»117117
Литературность этой характеристики Слезкина мы здесь обсуждать не будем.
[Закрыть], который некогда обеспечивал их (неявное) единство и своеобразие.
Примеры советского эзопова языка становятся особенно многочисленными, начиная со второй половины 1950‐х годов: после частичной политической перестройки периода оттепели цензурные предписания были непоследовательными, отчасти противоречивыми, а границы официально произносимого раздвинулись. Опыт относительной свободы позволил обновить практику тайного литературного языка – литературной мимикрии – и усовершенствовать ее в последующие годы застоя. Приемы шифровки (кодированное общение автора с читателем), с одной стороны, и расширение официальной сферы – с другой, стали знаком эпохи. В условиях постепенного распада политической системы литературные переводы нередко существовали в промежуточной, полуофициальной зоне118118
В известном исследовании эзопова языка в русской литературе Лев Лосев [Loseff 1984], к сожалению, затрагивает тему переводов лишь вкратце.
[Закрыть].
Генеральная линия советской культурной политики заключалась, как известно, в поощрении и развитии литературы «братских народов». Показательно, что попытки привнести в русско-советскую культуру, по определению более развитую, национальные и этнические различия едва ли затрагивали в позднесоветский период евреев119119
Помимо евреев, от гонений и дискриминации советского времени пострадали поволжские немцы, крымские татары, ингуши и чеченцы, в первые годы после войны подвергшиеся репрессиям и депортации. Так, Ефим Эткинд пишет в связи с неисполненным сталинским намерением 1950‐х годов выселить евреев в Сибирь: «Опыт уже был: два миллиона поволжских немцев, сотни тысяч крымских татар, чеченцев и ингушей уже были депортированы в Сибирь» [Etkind 2002: 17]. О концепции многонациональной советской литературы, прежде всего о советских днях культуры – так называемых декадах, на фоне массовых депортаций кавказских народов размышляет Семен Липкин в романе «Декада», о котором еще будет сказано далее (см. с. 225).
[Закрыть]: восходившее к сталинской формуле советское определение нации как территориальной, экономической, административной и языковой общности должно было поддерживать прозрачные структуры подчинения и контроля, при несоблюдении же этих предпосылок оно требовало растворения и ассимиляции этноса (ср.: [Кантор 1998: 154])120120
Об особом случае еврейской «республики» в Биробиджане в позднесоветские годы см. с. 226–235.
[Закрыть].
В мемуарах, автобиографиях и прозе – коллективной «энциклопедии» позднесоветского культурного быта – описывается, как русские и особенно часто еврейские 121121
Ср. у Нахимовски: «Исторический факт: сложившаяся система ценностей подталкивала многих писателей, особенно евреев, к работе над переводами, а при случае и к использованию их в качестве прикрытия для оригинального творчества» [Nakhimovsky 1992: 183]. Переводчик и современник эпохи Виктор Топоров превратил это в острóту: «…неевреи в своей совокупности составляли в переводе нацменьшинство или, если угодно, образовывали „малый народ“» [Топоров 1999: 177].
[Закрыть]литераторы и литературоведы зарабатывали на жизнь переводами поэзии и прозы из советских республик, не имея возможности опубликовать собственные тексты. Для работы они получали подстрочник, так что знание языка оригинала, как правило, не требовалось122122
Требовалось прежде всего владение русским литературным языком: надо было доказать высокий художественный уровень литературы «малых народностей» и сделать ее органической частью русско-советской литературной продукции.
[Закрыть]. Феномен подстрочника фигурирует во многих текстах позднесоветского и постсоветского периода – расхожая метафора асимметричного соотношения центра и периферии, средство культурной пересадки, нередко неудачной или симулированной.
Такое положение дел обретает особый трагизм в самиздатском романе Феликса Розинера «Некто Финкельмайер» (1975). Ассимилированный еврей, талантливый поэт Аарон-Хаим Финкельмайер «контрабандой» печатает в журналах свои стихи, не вписывающиеся в официальную советскую литературу ни эстетически, ни по содержанию, под видом переводов поэзии некоего Айрона Непригена, поэта из маленькой сибирской народности тонгор. В этом виде их с энтузиазмом принимают функционеры из сектора культуры, а новооткрытый сибирский поэт становится звездой многонациональной советской литературы. Русский интеллектуал еврейского происхождения, напротив, не может считаться представителем малого советского народа123123
После Октябрьской революции евреи, как и другие народы молодого Советского Союза, получили статус советского национального меньшинства. В раннесоветский период большевики не раз пытались закрепить их на определенной территории, например в Крыму, на Украине и в Белоруссии (там создавались еврейские поселения), и побудить развивать социалистическую культуру на идише в определенных географических регионах (см.: [Weinberg 1995]). Цви Гительман упоминает, что Михаил Калинин, выступая на одной конференции, даже предостерегал еврейских новопоселенцев от смешения с другими народами, например от браков с неевреями, так как это помешало бы развитию собственно еврейской культуры [Gitelman 1988: 150]. В 1928 году советские евреи получили собственную территорию на Дальнем Востоке, в Биробиджане, где в 1934 году была провозглашена Еврейская автономная область – «номинально еврейская территориальная единица» [Ibid: 160]. Однако биробиджанский проект потерпел и хозяйственный, и культурный крах. Развитие национальной еврейской культуры было там невозможно уже потому, что многие еврейские функционеры были объявлены врагами народа, арестованы и расстреляны в ходе сталинских чисток 1930‐х годов. Удушливую атмосферу биробиджанской «еврейской республики», упадок еврейской культуры и лживость заявлений об автономности еврейства разоблачил Яков Цигельман в своей повести «Похороны Мойше Дорфера» (1981), подробнее см. «Яков Цигельман: „Похороны Мойше Дорфера“» (с. 226). Биробиджанский проект почти с самого начала противоречил стремлению властей нивелировать национальные различия и, в частности, ассимилировать еврейское население. Евреи остались рассеянными; начавшаяся с Хаскалой тенденция к еврейской урбанизации, ассимиляции и аккультурации в Советском Союзе только усилилась. В результате сложился особый тип воспитанного на русской культуре советско-еврейского интеллектуала, которого как раз и вывел в образе Аарона Финкельмайера Феликс Розинер. В этом контексте Нахимовски описывает идентичность советского еврея – об этом уже говорилось выше – как русского интеллигента и нередко нонконформиста.
[Закрыть]. Поэт-нонконформист, виртуозно владеющий русским языком, чье имя не оставляет сомнений в его происхождении, Финкельмайер обречен на молчание, однако благодаря своему литературному обману ненадолго обретает «собственный» голос. Один единомышленник героя рассуждает:
Ни Финкельмайеру, ни Иванову ни за что эти стихи не опубликовать, – они оторваны от действительности, внесоциальны, идеалистичны, пантеистичны, и к тому же в них нет ни русской поэтической традиции, ни новаторства советской поэзии. Так тебе скажут в любой редакции. Но, к счастью, вновь открытый нацпоэт судится по иным меркам! [Розинер 1990: 122]
Другой прозаик, Эфраим Севела, упоминает этот парадокс советской культурно-национальной политики в известной сатирической повести «Остановите самолет – я слезу!» (1975). В этом тексте, написанном в то же время, что и роман Розинера, изображается (но уже в анекдотической форме) похожий «обман», случай еврейской мимикрии, вынужденной «конспирации» [Dohrn 1999: 190]124124
Верена Дорн пишет в связи с поэтикой Исаака Бабеля о вуайеризме и «автомистификации вплоть до мимикрии», объясняя эту тенденцию исторически: «У русских евреев […] принято было таиться. В царской России приходилось прятаться от налогов, от рекрутской повинности, из‐за ограничений свободы поселения […], а в революционном Советском Союзе – из‐за всеведущего политического контроля» [Dohrn 1999: 190].
Другой вариант еврейской «конспирации» я рассмотрю на примере романа Давида Шраера-Петрова «Герберт и Нэлли»: караимы отказываются признавать свое сродство с евреями, подчеркивая вместо этого близость к мусульманам: «А караимов не расстреляли, потому что караимы – не евреи. Мы ближе к туркам. Что-то вроде мусульман», – говорит старуха из Тракая [Шраер-Петров 2014: 188].
[Закрыть], которая спасала еврейских интеллектуалов от материальной нужды. Самоироничный еврейский рассказчик Аркадий Соломонович Рубинчик облекает это в гротеск, в то время как его творец Севела вписывает сюжет – приключения перевоплощений и мимикрии – в традицию еврейской плутовской литературы125125
Об этой традиции см. «Переизобретение еврейского повествования» (с. 269).
[Закрыть]:
За последние полвека любой самой маленькой народности создали по указанию сверху свою культуру. Как говорится, национальную по форме и социалистическую по содержанию.
Живет себе племя где-нибудь в тайге, еще с деревьев не спустилось. Только-только научилось огонь высекать. […] Посылают к этому племени парочку ученых евреев. Почему евреев, я потом объясню. Добираются туда евреи […] Прислушиваются, принюхиваются и начинают создавать культуру. Алфавит составляют, как правило, на базе русского. Бедный немногословный язык туземцев обогащают такими словечками, как колхоз, совхоз, кооператив, коллектив, социализм, капитализм, оппортунизм. […] У малых, забитых при царизме народов […] исполнители называются […] что-то вроде ашуг-акын […] Одного такого ашуга я сам лицезрел. Его переводчик […] выдумал этого ашуга, сотворил из ничего, писал все сам, выдавая за перевод с оригинала. И огребал за это денег несметное количество. А ашугу – слава на весь СССР. Ему ордена и медали. Его – в пример советской национальной политики [Севела 1980: 81–82].
Аркадий Рубинчик, сатирический двойник автора, следующим образом толкует причину этой «прерогативы» евреев:
А теперь я отвечу на вопрос, почему именно евреи бросились по всем окраинам бывшей царской империи создавать письменность и культуру малым народам и народностям. […] чтоб у всех была культура – таков был лозунг революции. У всех! У всех? Вот именно! За одним исключением. Вы, кажется, догадались. Конечно. Кроме евреев. Нет такой нации и нет такой культуры. Это обнаружил Сталин, когда проник в глубины марксистской философии. Сделав свое гениальное открытие, он во избежание всяческих кривотолков уничтожил чуть ли не всех еврейских писателей, поэтов, артистов, певцов […]. И школы закрыл, и театры прихлопнул, а сам язык объявил запрещенным. […] евреи […], утерев слезы, бросились по зову партии создавать культуру другим народам, кто никогда ее прежде не имел […]. Начался расцвет многонациональной культуры.
В Дворянском гнезде появились десятки и, пожалуй, сотни так называемых переводчиков с языков братских народов СССР […] Фамилии свои они поменяли на псевдонимы [Там же: 83–84].
Здесь эпитет «авторы-тени, авторы-призраки» [Там же: 85] описывает духовное «подземелье» еврейских интеллектуалов в Советском Союзе, но более всего их отказ от себя и мимикрию, вызванные двойной политикой присвоения и исключения.
Семен Израилевич Липкин, родившийся в Одессе в 1911 году и еще в 1930‐е годы начавший переводить на русский язык восточную эпическую поэзию, стал известен благодаря переложениям с аккадского, калмыцкого, казахского, киргизского, балкарского, кабардинского и татарского. Первая книга его стихов вышла в 1967 году с большой цензурной правкой, когда автору было уже 57 лет. Фигура Липкина как признанного переводчика и вместе с тем неофициального литератора – яркий пример двусмысленности советского литературного быта. С одной стороны, Липкин вполне вписывался в образ советского переводчика, перелагая литературы советских народностей и республик с подстрочника на язык колониальной державы и участвуя тем самым в амбивалентном проекте многонациональной литературы. С другой стороны, он был одним из тех поэтов-интеллектуалов, которые, проникшись этикой интернационализма, претворяли принцип культурного перевода в дело – перевода периферийных и «отсталых» литератур в центр126126
О понятии «пережитки» в советской (культурной) политике в Средней Азии и на Кавказе см.: [Абашин 2015: 11 f.].
[Закрыть]. Как нонконформист Липкин критиковал редукционистскую культурную практику унифицированной многонациональности советского образца; как преуспевающий переводчик – расширял нормы этой культурной практики, раз за разом навлекая на себя подозрения в политической неблагонадежности127127
Липкин вспоминал, как из‐за выполненных им переводов тюркоязычного эпоса Союз писателей обвинил его в 1949 году в симпатии к депортированным «народам-предателям». Он отделался предостережением только потому, что за него вступились влиятельные Александр Фадеев и Константин Симонов (см. [Липкин 1997] и [Немзер 2008: 703]).
[Закрыть]. Липкин всерьез воспринимал гуманистический интернационализм классической русской литературы (ср.: [Gould 2012]), унаследованный, как гласила не в последнюю очередь пропаганда, советской культурой. Так, литературный перевод стал институциональной практикой, которая воплощала и поддерживала идею многонациональной литературы и вместе с тем – особенно с 1960‐х годов – подрывала и разоблачала саму ее концепцию. Перевод часто оборачивался идеологическим и культурным симулякром и в то же время – именно таков случай Семена Липкина – становился плодотворной, динамичной практикой культурного трансфера внутри империи.
Я рассматриваю перевод как особый вид мимикрии, позволяющий выявить как раз (пост)колониалистские смыслы этого понятия, на которые указал Бхабха: в условиях культурной асимметрии мимикрия с ее – всегда лишь частичным – приспособлением и подчинением приводит к трагической амбивалентности, обнажающей действие механизмов власти, наличие культурной гегемонии. Используя подстрочники, эти технические подспорья мифа о многонациональной советской литературе, Липкин стремился сделать периферийные – преимущественно исламские – культуры видимыми для русско-советского центра. Тем самым он ставил под вопрос советскую концепцию модернизации и «воспитания» имперских окраин.
Недоверчивое отношение властей к евреям-литераторам, в частности переводчикам, изображено в повести Липкина «Декада» (1980). Генерал Семисотов, посланный Сталиным в одну из республик Средней Азии для подготовки выселения в Казахстан целого (вымышленного) народа тавларов, подозревает, что талантливый переводчик тавларской поэзии на русский язык, московский поэт Станислав Бодорский, – еврей: «Этот Бодорский – не русский? Еврей?» [Липкин 1990: 22]. Ситуация повторяется, когда для перевода поэзии еще одного малого народа – гушанов – Бодорский рекомендует молодого коллегу; Матвей Зиновьевич Капланов – еврей, и Бодорский пытается «смягчить» этот факт в глазах ответственного партийного функционера: «Не беспокойтесь, Даниял Заурович, в Союзе писателей к Капланову относятся неплохо, в космополитизме не обвиняют» [Там же: 100]. Однако статья могущественного литературного «генерала» Михаила Шолохова, направленная против скрывающихся за русскими псевдонимами еврейских литераторов, все-таки наносит карьере молодого переводчика серьезный ущерб.
Сам Бодорский пишет стихи, которые нигде не публикуют, и давно испытывает «неутолимую, безумную жажду печатать собственные вещи» [Там же: 171]. Со временем успешная переводческая работа на службе идеологии вытесняет эту страсть, уничтожает поэтический дар, и свою жизнь Бодорский считает потраченной впустую, мечтая об уже невозможной настоящей, творческой «подпольной» деятельности, о пусть одиноком, но гордом писании «в стол» [Там же].
Тем не менее феномен еврейских переводчиков как невидимых поэтов империи служит Липкину лишь фоном для того, чтобы поднять проблему советской колониальной (литературной) политики на востоке страны. Помимо государственных репрессий и жестких мер по модернизации коренных народов Средней Азии, сохранивших патриархальный религиозный уклад, автор по большей части показывает насилие над малыми «литературами Востока», чьи созданные на заказ национальные эпосы замалчивают и корректируют подлинную историю того или иного народа, чтобы не дискредитировать идею великорусского господства: «Татарам, поскольку они двести лет владели Русью, просто указывалось начинать свою историю с октября 1917 года» [Там же: 98].
По мнению Ребекки Гульд, Липкин стал одним из немногочисленных советских интеллектуалов, которым удалось осуществить советскую утопию мировой литературы, как бы она ни искажалась на практике: «Своими переводами Липкин стремился создать подлинную республику словесности, опережая в этом какую бы то ни было европейскую модель» [Gould 2012: 421]. Липкинская приверженность – подчас открытая, подчас завуалированная – идее взаимного культурного обмена между центром и периферией отсылает к великому транскультурному проекту, который в советском контексте можно было реализовать лишь частично из‐за многочисленных фальсификаций. Удачный перевод определяется в «Декаде» как перенос, основанный на чутком знании чужой культуры и признании как равноценности, так и различий. Русский еврей Липкин разоблачает имперскую культурную эксплуатацию мусульманских народов, анализируя, например, специфику неславянского литературного мышления. В случае вымышленного гушанского автора Хакима Азадаева, которого должен переводить Бодорский, адаптация чужих стилистических особенностей к европейским художественным традициям означает «корректуру» в сторону большей сюжетности и линейного развития действия. Этнографические описания, размышления о мировоззрении суннитов и шиитов, рифмованные этимологические этюды следует вычеркнуть, «очаровательные длинноты» – убрать [Липкин 1990: 111]. Сокрушается рассказчик и об интеллектуальном презрении к «восточным» эстетическим законам на фоне восхищения западными «звездами»: Прустом, Джойсом, Хемингуэем.
Вряд ли случаен тот факт, что во времена подъема еврейского протестного движения Липкин порицает высокомерие власти и клеймит «переводчиков-варваров, переводчиков-костоправов» [Там же: 112] (такое уничижительное именование культурных посредников варварами красноречиво переворачивает колониальные стереотипы). Известный своим непреднамеренным заступничеством за еврейский народ и государство Израиль128128
О том, насколько явно тема интернационализма в Советском Союзе подчас оттеснялась на периферию канона, свидетельствует часто цитируемый эпизод биографии Липкина. В 1967 году он опубликовал в двух известных журналах стихотворение «Союз». В этом тексте превозносится неизвестный малый азиатский народ И. Стихотворение появилось в период бурной антисионистской травли, развернувшейся в советской прессе после победы Израиля в Шестидневной войне. Липкина обвинили в сионистской пропаганде и подвергли преследованиям. Он вспоминал: «Черт попутал меня прочесть сборник эпических поэм Южного Китая. Среди создателей поэм был народ, чье название меня поразило: И. Подумать только, целый народ вмещается в одну букву! Я написал стихотворение „Союз“. […] Но газета „Ленинское знамя“ заявила, что речь идет об Израиле. Меня обвинили в сионизме. Газету поддержали книги вроде „Фашизм под голубой звездой“. Возражения синологов, что на юге Китая действительно существует народ И (кстати, гонимый тогда Мао Цзе-дуном), […] не могли ни в чем убедить моих преследователей» (Липкин С. Странички автобиографии [https://biography.wikireading.ru/hGcsgXAL8K]). Стихотворение, в котором Липкин романтически восславил безвестную народность, тем самым по-своему выразив советскую идеологию поощрения малых народов и культур, оказалось воспринято как подрывная, «типично еврейская» мимикрия с целью высказать запрещенные политические взгляды.
[Закрыть], в «Декаде» Липкин имплицитно формулирует особое преимущество еврейства – дар узнавать культурные различия и в буквальном смысле давать голос другим, маргинализированным культурам. Тем самым работа переводчика определяется не только как вынужденная замена оригинального творчества, но и как посредническая миссия, намекающая на возможность собственного национального возрождения129129
Напомню, что со второй половины 1960‐х годов в русской литературе – как неподцензурной, так и официальной – все более явственно стали поднимать проблему культурного существования «малых» народов Советского Союза. Первые рассказы крымско-татарского автора Эрвина Умерова, в которых изображаются преследования и депортации крымских татар, были написаны в 1960‐х, а опубликованы в 1990‐х годах. Киргиз Чингиз Айтматов в своем романе «И дольше века длится день» (1981) корректирует и одновременно подрывает генеральную линию социалистического реализма, противопоставляя примордиальную этническую память казахов и общую амнезию позднесоветского общества, а русский Анатолий Приставкин пишет в те же годы повесть «Ночевала тучка золотая», в которой впервые затрагивает тему изгнания и принудительного переселения чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году (публикация стала возможной лишь в конце 1980‐х годов). Много позже, уже во второй половине 1990‐х годов, был написан роман «Божья матерь в кровавых снегах» хантыйского/остяцкого писателя Еремея Айпина (остяки – старое название хантов): Айпин рассказывает о жестоко подавленном Красной армией восстании остяков 1933–1934 годов и почти полном истреблении этого народа (см. [Smola 2016; Смола 2017a]). Хотя с хронологической, структурной и стилистической точек зрения эти тексты и их авторы занимают разное положение по отношению к доктрине соцреализма – от нонконформизма до веры в человечность канона, – все они в данный период творят контекст этнической эмансипации. Расшатывание и подрыв канона, тема Другого проявляются по-разному и имеют разную идеологическую окраску. Галина Белая называет 1960–1970‐е годы периодом саморазрушения советской литературы («self-destruction») [Belaia 1992: 1].
[Закрыть].
Авторитарная культура как коллективный симулякр, фиктивность заказной культурной продукции – эти темы связывают в «Декаде» образ невидимого еврея-переводчика и мимикрии с мотивом псевдоперевода. Культурные фантомы предстают силой, которая творит идеологию, и дело здесь не только в зловещем взаимном отражении праздничной «литературной декады» и депортаций. Липкин рассматривает инициированное Сталиным в начале 1950‐х годов очищение тюркоязычной эпической поэзии от «реакционных» исламских элементов – в котором легко увидеть историческую аллюзию на антиеврейские кампании, а также на запланированное в те же годы выселение евреев, – как проблему мимикрирующего перевода. Сюзанна Витт прослеживает рождение таких полувымышленных, овеянных мифами фигур советских акынов и ашугов, как Джамбул Джабаев или Сулейман Стальский, чествовавшихся во время декад, из феномена фиктивных переводов с подстрочника [Witt 2011: 154–164]130130
О Джамбуле Джабаеве как о советском Gesamtkunstwerk см. сборник статей: [Богданов/Николози 2013].
[Закрыть]. Уже не поддающееся контролю производство переводов (полу)фиктивных оригинальных текстов и феномен «вторичного подлинника», возникающего лишь на основе перевода [Ibid: 164], порождали систему ненадежных атрибуций, отражений и искажений мнимого прототекста.
Вместе с тем Липкин создает модель мира, в которой тысячелетняя культура Востока противостоит цивилизирующим мерам советской бюрократии. Мировоззрение тавларов в романе основывается на родовых, а не государственных ценностях; работа в колхозах и выставленные в общественных местах портреты Сталина почти никак не влияют на мусульманские законы, религиозность, головные платки, священность кладбищ. Пространные экскурсы в историю кавказских племен, предпринимаемые разными рассказчиками, рисуют советскую власть как всего лишь одного из многочисленных в их истории завоевателей – однако первого, который стирает с лица земли целые народы. Идеологические постулаты переворачиваются в «Декаде» в духе неподцензурной литературы: если в коммунистическом национальном дискурсе советизация кавказских этносов означала их историзацию (приобщение к «всемирной советской» истории становится их «рождением» в качестве народов со своей историей), то Липкин показывает, что история этих народов намного древнее русской, не говоря уже о советской.
Концепция еврея-переводчика в «Декаде» напрямую ведет к некоторым текстам постсоветской литературы. Воплощением еврея как посредника, пересекающего культурные границы, и – как антитеза негативным коннотациям этого понятия в истории советского антисемитизма – интеллектуального космополита выступает главный герой романа Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» (2006). Переживший шоа и принявший христианство Даниэль Руфайзен, переводчик и носитель духа этнического и религиозного универсализма – фигура явно символическая: это праведник, который, борясь с партикуляризмом и непримиримостью отдельных конфессий, называет отсутствие взаимопонимания между людьми величайшей трагедией человечества131131
В основу этой главы легла моя статья [Smola 2011c]. Кроме того, я отсылаю к главе «Империя перевода» («Translating Empire») монографии Харриет Мурав того же года [Murav 2011: 285–318]. Ее анализ липкинского перевода киргизского эпоса «Манас» (1948) важен для моей интерпретации «Декады» как неявного исторического свидетельства о позднесоветской еврейской контркультуре: «В „Манасе“ Липкин находит опосредованное (через Коран) влияние истории Исхода. […] Его трактовка […] выдает его собственную приверженность сионистскому идеалу, и в то же время близость киргизскому эпосу он выражает именно как еврей. Перевод „Манаса“ на русский язык был способом перевести собственные еврейские проблемы в доступную литературную форму» [Ibid: 305]. С этой точки зрения переводческую и писательскую работу Липкина можно интерпретировать как одно из многочисленных воплощений эзопова языка в советской культуре.
[Закрыть].
Мимикрия как прием – субверсивная повествовательная практика, высмеивающая укорененный в коллективном воображаемом мировоззренческий, символический и изобразительный канон, – явление совсем другое, чем было описано в этой главе. В главах о постсоветской еврейской литературе я рассмотрю эту форму симуляции: игрового, иронического притворства на уровне литературного дискурса.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































