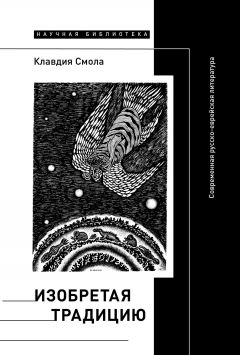
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
ПРОЗА ЭКСОДУСА
Отражая малоизвестный этап истории неофициальной литературы, тексты советско-еврейского эксодуса одновременно являются и уникальными художественными документами эпохи. Будучи частью российской диссидентской литературы, с одной стороны, и еврейской литературы – с другой, эта проза не только участвовала в создании альтернативного канона русской литературы, но и обнаруживала по меньшей мере двойную культурную – а как часть всемирной сионистской литературы156156
Понятие мировой сионистской (как и еврейской) литературы подводит к не утихающим в последние двадцать лет спорам о понятии «всемирной/мировой литературы», world literature (см., например, концептуальные публикации [Damrosh 2003] и [Thomsen 2008]). Для меня в этом обозначении – всегда несколько метафорическом – важнее всего такие признаки, как транснациональность и многоязычие литературы, которая на протяжении столетий создавалась или циркулировала на разных языках в разных частях света и развивала сопоставимые мотивы, тропы и сюжетные конфигурации, несшие в себе проблематику «своего» и «чужого» (в связи с чем можно говорить о топографическом передвижении и некоторой телеологии, заключенных в вышеупомянутом термине). О славянских транслингвальных литературах как о всемирных литературах см. недавнее исследование [Hitzke/Finkelstein 2018].
[Закрыть] еще и национальную – принадлежность. Для анализируемых ниже писателей история исхода из книги «Шмот» еврейской Библии становится главной поэтической, философской, религиозной или политической метафорой освобождения и возвращения: в этом они отчасти наследуют традиции ранней российской палестинской прозы халуцим, известным примером которой был роман «Опаленная земля» (1933–1934) Марка Эгарта (о нем еще пойдет речь далее). Написанные в одни и те же годы (1982–1984) романы «Лестница Иакова» Ефрема Бауха и «Герберт и Нэлли» Давида Шраера-Петрова, повесть Эли Люксембурга «Третий храм» (1975) и его роман «Десятый голод» (1985), а также роман Давида Маркиша «Присказка» (1978) будут рассмотрены в этой главе в качестве примеров.
Эфраим (Ефрем) Баух – один из наиболее плодовитых русскоязычных еврейских писателей: его перу принадлежат многочисленные тома прозы и лирики, переводы, исторические труды и очерки. Роман «Лестница Иакова» был написан через семь лет после переезда автора в Израиль и представляет собой развернутое размышление о духовных и мировоззренческих переменах в кругу еврейских интеллектуалов во второй половине 1970‐х годов. Эти изменения приводят к отъезду главного героя в Израиль в конце романа.
В центре повествования – постепенное внутреннее превращение преуспевающего московского психиатра Эммануила Кардина, который под влиянием некоторых своих пациентов, содержащихся в закрытом учреждении, начинает вспоминать свои корни и в результате проходит нелегкий путь духовного освобождения. Процесс этот непосредственно связан с пробуждением «еврейской памяти» героя – ученого, который, наблюдая за самим собой, интерпретирует происходящее как сбор анамнеза, постепенное восстановление внутреннего личного прошлого. Советское общество кажется Кардину все более беспамятным: оно забыло свою историю и вытеснило из коллективного сознания собственные преступления, превратившись в царство духовных мертвецов. Чем глубже Кардин погружается в мир своих пациентов – очевидно, подвергнутых принудительному лечению еврейских интеллектуалов, – тем более чужим кажется ему его стабильное, «здоровое» окружение. Это продолжается до тех пор, пока он не открывает для себя иврит, почти забытый со времен детства, и старинные еврейские книги (прежде всего каббалистическое учение с его главной книгой «Зоар»). В ходе метаморфозы Кардина захватывают воспоминания о жизни родителей и предков и об истории евреев диаспоры, частью которой стали их судьбы. Прошлое не отпускает его: свое состояние, признак внутреннего беспокойства, он описывает сциентистским термином «перевозбуждение памяти» [Баух 2001: 73], в другом месте «обострением памяти» [Там же: 125] и сравнивает его с «возбуждением» совести. Однако укорененная в коллективном работа памяти открывает ему еще более глубинные слои прошлого: герой обращается к тысячелетней еврейской истории – источнику таинственного родства со всем еврейским народом. Новая причастность к еврейству, заключенная для него в пророчески-магических буквах еврейского алфавита, заставляет Кардина отдалиться от семьи и разорвать старые связи.
Путешествие в родной городок становится для Кардина в буквальном смысле возвращением и попыткой искупления собственного отступничества: в этом захолустье еще сохранились остатки еврейской духовности, воплощенные в фигуре прежнего учителя, теперь дряхлого ребе Пружанского, и ныне обреченные на упадок. Совместное чтение книги «Зоар» и воспоминания о дедушке, некогда учившем внука читать Тору, приводят к полному обновлению героя и, наконец, отъезду в Израиль.
Внутренняя трансформация ассимилированного еврея-интеллектуала совершается под влиянием иудаистских текстов, так что итоговый переход, «восхождение» алии, оказывается не столько политическим, сколько духовно-религиозным событием157157
Такое мистически окрашенное понимание алии, характерное для всего творчества Бауха (оно, например, организует его более поздний роман «Оклик» 1991 года), противопоставляется в книге меркантильным побуждениям других еврейских эмигрантов: «В ОВИРе соплеменники Кардина толпились, уточняя сроки отъезда. Крикливое большинство делилось между собой сведениями об Америке, Канаде, Австралии, выбирая будущее место жизни по принципу базара. На отъезжающих в Израиль смотрели с жалостью и даже несколько свысока» [Баух 2001: 533]. Бауховские же герои, напротив, романтически готовы разделить судьбу Израиля, даже принести себя в жертву. О деромантизации советской алии в произведениях русско-еврейских репатриантов см. «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии» (с. 241).
[Закрыть]. Многочисленные отсылки к каббале и талмудическим текстам пронизывают как повествование в целом, так и сознание героя: священные книги (сфорим) говорят с ним из далекого прошлого. Судьбоносное и вместе с тем подспудное воздействие древнееврейских букв на жизнь Кардина и узнавание их значений, запускающие процесс припоминания и постижения, восходят к каббалистическому толкованию букв. Угрожающие очертания этих букв – предостережение забывчивым: это, как объясняет пациент Кардина Плавинский, багры, вертела, вилы. За каждой буквой таится геенна – преисподняя; оживают апокалиптические видения:
Вы привыкли относиться к древнееврейскому, как к любому другому… О, как вы ошибаетесь… Играете с огнем, да, да, в буквальном смысле… […] вот – «гимель» – «ג» – багор, «далет» – «ד» – крюк, «вав» – «ו» – кол, «ламед» – «ל», – виселица, глядите, глядите, «мем» – «ם» – капкан, а дальше – «аин, цади, каф, хоф, реш»158158
Поскольку по правилам еврейского письма буквы (аин, цади, каф, хоф, реш) читаются справа налево, то складываются они в данном случае именно в такой буквенный ряд.
[Закрыть] –– крюки, крючья, «шин» – «ש» – вилы… […] Это язык геенны огненной, которая каждый миг жизни нас жечь должна, если хотим людьми остаться… [Там же: 30–31]159159
Баух передает здесь интерпретацию формы еврейской буквы, важную и для христианской каббалы, для которой, как пишет Марина Аптекман, был характерен «лингвистический мистицизм» [Aptekman 2011: 29]: «…большинство христианских каббалистов XVI столетия были убеждены в том, что иврит – это божественный язык творения, наделенный созидательной силой, которая скрывается в буквах и звуках, часто непонятных простым смертным. Они верили, что, как только люди поймут творческий смысл этих букв, […] религиозный мир и всемирное единение не заставят себя ждать» [Ibid: 28].
[Закрыть]
«Людьми остаться» – значит не забывать; «очеловечение» Кардина состоит, таким образом, в постепенном возвращении к ощущаемой частью себя коллективной еврейской памяти, заключенной в Танахе, Мишне и мидрашах, каббалистических книгах «Сефер Йецира», «Сефер ха-Бахир» и «Зоар». Поблекшие, улетучившиеся со времен детства знаки, строки, тексты заново проступают в сознании. Кардин начинает понимать, что современная действительность – это лишь верхний слой палимпсеста: сегодняшние идеологии предстают обманчивой симуляцией библейских рассказов (например, коммунистическое восхождение к «светлому будущему» как извращенная версия лестницы Иакова); трагические события XX века уже предсказаны и истолкованы в эфиопской книге Еноха: страдания узников и погибших – это новое воплощение миров ада, подробно описанных в первой книге Еноха, а позже в произведениях Вергилия, Данте и Мильтона. «Грехи» российской истории после Октябрьской революции 1917 года Кардин связывает с описанными в книге «Зоар» семью частями ада, иными словами, семью смертными грехами: убийством невинных (в советских лагерях), грабежом (конфискация, раскулачивание), сотворением кумиров (культ личности Сталина), богохульством (гонения на религию в атеистическом государстве) и др.
В жизни вымышленного героя Эммануила Кардина воспоминание – сопротивление «альянсу власти и забвения», по выражению историка Яна Ассмана [Ассман 2004: 76]; багры, вертела и вилы еврейских букв – метафорика Страшного суда: эсхатология поддерживает, как в (не)давнем историческом прошлом, «идеологию революционных движений сопротивления» [Там же], когда политическое трактуется в категориях памяти160160
Характерно, что в качестве примера «альянса власти и забвения» в эпоху модерности Ассман упоминает сюжет романа Джорджа Оруэлла «1984» и приводит цитату: «История остановилась. Есть лишь вечное настоящее, в котором партия всегда права» [Ассман 2004: 77].
[Закрыть].
Доходящие до одержимости занятия иудаизмом приводят Кардина к представлению об архетипической для еврейской традиции биполярной раздвоенности пространства (родина / изгнание), в той или иной форме внушая идею о необходимости «вернуться» в Эрец-Исраэль. Так, в цитате из книги «Сефер ха-Хинух» жизнь на чужбине приравнивается к смерти, а рабби Ионахан в книге «Зоар» говорит о подземном возвращении всех умерших евреев в Землю обетованную161161
У еврейских пророков многократно упоминается окончательное возвращение евреев на Святую землю по воле Господа. Видение воскресения мертвых «дома Израилева» и их переселения с чужбины в «землю Израилеву» содержится в книге пророка Иезекииля [Иез. 37:1–14].
[Закрыть]. Кардин вспоминает и слова своей бабушки – идишскую поговорку, тяжкий вздох всех замученных жизнью евреев Восточной Европы: «Лонг ви дер идишер гулыс» («Долог, как еврейский галут»). Коммунистическую юдофобию Кардин видит теперь в свете библейской истории с ее ключевыми событиями: исходом из Египта и победой над Аманом162162
Время накануне смерти Сталина часто ассоциируется у еврейских авторов с историей Эсфири и чудесного спасения евреев, в частности, в рассказе Людмилы Улицкой «Второго марта того же года» (1994) или повести Марка Зайчика «В марте 1953 года» (1999).
[Закрыть]. А с топографией вечного города Иерусалима он знакомится не по путеводителям и картам, но читая пророков [Баух 2001: 485]. Аллюзия на историю патриарха Иакова в названии романа перерастает тем временем в структурную аналогию: подобно Иакову, который перед возвращением в Ханаан борется с Богом и побеждает, Кардин выдерживает длительную борьбу со своими сомнениями и тяготами в советском галуте; все это время ему помогает библейский образ – метафора лестницы как восхождения к Богу [Там же: 519–520], иконический ключ к толкованию всего текста.
Роман Ефрема Бауха – художественный документ эпохи сразу в нескольких смыслах. Об этом говорят: эволюция героя, который постепенно осознает себя евреем; еврейские интертексты, определяющие повествование; иудаистская концепция советской алии, восходящая к реальной биографии автора романа163163
Эпоха борьбы за алию привела к возникновению новых биографических проектов, отмеченных и вдохновленных идеей нового рождения и духовного и географического перехода. В своей статье о литературе русской эмиграции в Израиле Баух анализирует как собственное творчество, так и произведения своих коллег, где речь идет о «пути к себе» и самопознании после великого перелома репатриации [Bauch 1983]. Статья носит красноречивое название «Момент истины»; основную линию авторских размышлений передают выражения «преодоление внутреннего раскола», «иная судьба, новая жизнь», «создать себя заново» и т. д. [Ibid: 220–221]. В этом смысле вымышленная жизнь Эммануила Кардина вполне автобиографична.
[Закрыть]; размышления об историческом взаимодействии русской и еврейской культур – причем первая понимается всего лишь как верхний слой культурного палимпсеста, а вторая – как слой насильственно скрытый, глубинный, настоящий. Кардин критически смотрит на русскую культуру через призму еврейства и приходит к выводу, что трагическое предательство еврейства внутренне присуще русской духовности как таковой, оно пронизывает биографии даже благороднейших ее представителей. Так, личность поэта Бориса Пастернака иллюстрирует смыслообразующую для романа концепцию палимпсеста:
И Кардин думал […] о трагедии еврея, ставшего христианским апостолом, о том, как искренне гениально предают корни своего существования, предают с пылом […] И вот – разрыв, едва и незаметно предательство материнства и отцовства: христианство, выходящее из «ребра» иудейства, использует отцов своих, чтобы их же отринуть, чтобы одолеть скуку первичных скрижалей. (О, этот вечный страх перед оригиналом) […] И смотрит иудаизм с трагической печалью и знанием […] на «блудного сына», зная, что не всегда верна сказка о его возвращении [Баух 2001: 299].
Идея вытесненных различий и замаскированных разрывов в обреченной на единство русской культуре (амнезия означает умение читать лишь верхний слой) позиционирует протагониста как Другого, как знающего, который обязан идти вперед или, выражаясь иначе, вернуться, чтобы воспрепятствовать всеобъемлющему разрушению памяти. Значимо здесь непреодолимое воздействие «иудейства», которого не может избежать ни один еврей, стоит ему только припасть к «генетическому» источнику знаний. В беседе Кардина с Карлом Густавом Юнгом, который как-то видится ему во сне, содержится вполне эссенциалистская отсылка к теории о коллективном бессознательном:
…вы обыкновенный человечишко, но сквозь вас просвечивает […] сверхличное коллективное бессознательное, не только историческая, но и духовная подпочва – иудейство… [Там же: 425]
Поэтому обращение Кардина в иудаизм оказывается своего рода культурно-биологической неизбежностью, а евреи предстают носителями культуры истоков, универсального культурного генезиса и заведомо более развитого знания.
Документом еврейской контркультуры книгу Бауха делает и тот факт, что в последних главах протагонист объявляет непримиримую войну советской диктатуре. После того как Кардин выступает на международной конференции с пылкой протестной речью, для него начинаются мытарства диссидентской жизни. Его держат в неизвестной, уединенной психиатрической больнице и подвергают изматывающему лечению164164
Тот факт, что некогда лояльного к режиму, всеми уважаемого психиатра теперь самого объявляют душевнобольным, отсылает (вплоть до мелких деталей) к упоминаемой в романе повести Чехова «Палата №6». Чеховский интертекст «напоминает» о давней традиции злоупотребления властью в России, подкрепляя тем самым центральную мысль о зловещем ходе русской истории.
[Закрыть]. Допрашивающие Кардина сотрудники КГБ наделяются атрибутами ада и мертвецов: на это недвусмысленно указывают такие эпитеты, как «рыхлый», «одутловатый», «гнилостный», «обрюзгшее [лицо]» [Там же: 435], в портрете чиновника, который занимается делом Кардина. Семантика отжившего дополняется здесь своего рода театральной животной личиной, передающей, с одной стороны, отталкивающий натурализм происходящего, а с другой – искусственность и эфемерность советского властного дискурса:
Это и вправду был странный, несколько сюрреалистический спектакль одного зрителя и одного актера […] наружу вырывалось этакое обрюзгшее, распоясавшееся в прямом и переносном смысле животное, лаяло, рявкало, пило, захлебываясь, вино, и чавкало, давясь шоколадом [Там же: 436].
Речь дряхлого следователя «в сером», цинично излагающего концепцию неготовности человечества к познанию истины, напоминает хитроумную аргументацию Великого инквизитора из «Братьев Карамазовых», прежде всего обоснование необходимости зла. Следователь, этот полумертвый старик – вампир со странно моложавым лицом, проглотивший жизни многочисленных жертв кровожадного режима.
В итоге Кардина, который до самого конца не знает, что его ждет, выталкивают из машины посреди леса. Последняя фаза его жизни в Советском Союзе отмечена безработицей, воспринимаемой уже как нечто само собой разумеющееся, и попытками ускорить отъезд. Эммануил Кардин покидает страну, предварительно пройдя все круги ада, подобно героям мифов и литературы, аллюзиями на которые изобилует роман.
Мученичество отказа: «Герберт и Нэлли» Давида Шраера-ПетроваПоэт и прозаик Давид Шраер-Петров прожил в отказе несколько лет; из‐за поданных в 1979 году документов на выезд он потерял работу врача и микробиолога, был исключен из Союза писателей и подвергнут серьезным преследованиям. В 1987 году Шраер-Петров эмигрировал в США165165
См. подробную биографию Шраера-Петрова в новейшей монографии [Katsman/Shrayer/Smola 2021]. Беседы с писателем в Рамат-Гане (в декабре 2012 года) и в Бостоне (в декабре 2018 года) помогли мне более ярко представить себе атмосферу отказа, его драматическое воздействие на биографию автора и дух времени написания романа. См. также мою статью: [Смола 2017б].
[Закрыть].
Примечательно, хотя и объяснимо, если учесть биографию автора, что главный герой романа, Герберт Анатольевич Левитин, – врач, как и Эммануил Кардин в «Лестнице Иакова». Подобно Кардину, он потомок религиозных евреев и ученых талмудистов из штетла – мира, с которым порвали уже его родители. Путь традиционного еврейства к ассимиляции и светскому образованию – нередко именно медицинскому166166
Особенно частый выбор профессии медика ассимилированными евреями Европы – исторический факт. В русско-еврейской прозе разрыв нового поколения со старыми родительскими ценностями часто знаменуется тем, что дети перебираются в большой город и оканчивают медицинский факультет: ср., например, родителей Лили, медиков-атеистов, в уже упомянутом рассказе Людмилы Улицкой «Второго марта того же года». Разрыв с традициями – значимый для истории еврейской диаспоры переход от религиозного образования к изучению естественных наук, нередко к атеизму – становится одним из ключевых топосов нонконформистской еврейской литературы, ключом к историзирующему и часто покаянному самопознанию.
[Закрыть] – знаменует важную фазу частной семейной и большой еврейской истории, исследование которых важно для обоих авторов. В 1930‐е годы отец Левитина вместе с молодой женой переселился в Москву, «в новый мир», чтобы изучать медицину: они «не могли оставаться в старой, пропахшей словопрениями и сомнениями, пронафталиненной среде» [Шраер-Петров 2014: 40]167167
Здесь воспроизводятся топосы раннесоветского дискурса модернизации, с воодушевлением воспринятого многими евреями. Процитированное критическое, чуть ли не презрительное изображение мира штетлов как отсталого, с обычными в таких случаях обонятельными ассоциациями, напоминает сатирические пассажи из стихов Эдуарда Багрицкого или Иосифа Уткина, а также автобиографические метафоры Осипа Мандельштама.
[Закрыть]. Поэтому Герберт растет уже в семье московских интеллигентов, для которых собственное еврейство – всего лишь одно из множества возможных этнических происхождений в интер– и многонациональном советском государстве. В «черном» 1949 году отца по непонятным для него причинам отстраняют от работы в военном госпитале, а в 1953 году, в разгар «дела врачей», арестовывают; не в силах смириться с пережитым, он умирает вскоре после реабилитации. Хотя еврейство Герберта сводится в основном к ежегодному посещению синагоги в день смерти отца, он всякий раз испытывает там странное чувство:
…это было временное, закономерно возвращающееся, как память о родителях, приобщение себя к понятию еврейства. То есть он, оставаясь русским интеллигентом, внезапно, но совершенно определенно открывал в себе еще одну важную черту – еврейское происхождение [Там же: 43].
В отличие от Кардина, Левитин впервые задумывается об отъезде уже в начале романа, когда его семья сталкивается с особенно жестким государственным антисемитизмом: сын Анатолий проваливает вступительные экзамены на медицинский факультет – как того и опасались родители – из‐за своего быстро установленного комиссией еврейского происхождения и переживает тяжелый нервный срыв. Тем временем все больше друзей и знакомых семьи Левитиных уезжают из страны. Желание героя эмигрировать автор, несколько менее «программно», чем Баух, связывает с реальными семейными обстоятельствами и общим настроением в стране: концепция алии у него более политическая, нежели духовная.
Шраер-Петров представляет в романе весь спектр юдофобских настроений в Советском Союзе – от почти биологического отвращения со стороны в целом вроде бы порядочных и гуманных советских граждан до политической борьбы партийных функционеров с евреями как потенциальными врагами народа и сионистами. В отношении к евреям Василия Матвеевича, тестя Левитина, вековое недоверие простых селян к чужакам, выраженное в пословице «гусь свинье не товарищ», сочетается с политической подозрительностью среднего гомо советикуса, впитавшего дух коммунистической пропаганды. Василий Матвеевич, поясняет рассказчик, не был антисемитом, однако «не любил евреев» [Там же: 33]; Левитина он называет «носатым дохтуром» и удивляется непрактичности еврея, не сумевшего помочь сыну. Напряжение между профессором Левитиным и его малообразованным, политически легковерным тестем, черпающим свои убеждения из газет «Правда» и «Известия», – отражение социокультурного конфликта, уходящего корнями в дореволюционную Россию. Тогда
…русские юдофобы видели в [евреях] приверженцев чужой религии, которые превосходили русских в культурном отношении. Для российских евреев дискриминация заканчивалась с принятием крещения, однако консервативные предрассудки не исчезали. Это проявлялось и в завистливом неприятии честолюбивых евреев, готовых ассимилироваться [Lustiger 1998: 30].
В собственной семье Левитин сталкивается с застарелыми предрассудками и иррациональными антипатиями, которые уже не ограничиваются политикой, но доходят до расизма. Так, его жена Татьяна, которую перспектива эмигрировать в Израиль приводит в ужас, вдруг пугается, что семитские черты мужа («ихние черты»): «удлиненный череп […] с выпирающим подбородком и крупными ушами, залысины, окруженные негроидными курчавыми волосами, черные глаза в тяжелых черепашьих веках, хищный нос» [Шраер-Петров 2014: 11] – могут передаться и ей. Телесная инаковость Герберта, унаследованная их сыном Анатолием, оказывается стигмой. В обоих романах, Бауха и Шраера-Петрова, желание мужских персонажей уехать, продиктованное осознанием своего еврейства, будит в их нееврейских женах скрытый или дремавший раньше антисемитизм. Чем больше Кардин обращается к «своей», то есть еврейской истории, тем шире разверзается бездна между супругами. Как и Татьяна, его жена Лена тоже пытается стряхнуть с себя порочное воздействие еврейства: «И опять рассказывает еврейские анекдоты в компании, и сквозит в этом болезненное желание приобщиться к „своим“, доказать, что не совсем „ожидовилась“» [Баух 2001: 297].
Страстное осуждение антисемитизма – важнейшая составляющая романа. Сюжет о Левитине перемежается с полудокументальным-полулирическим повествованием от первого лица, в котором излагаются эпизоды из жизни рассказчика: так, временами текст напоминает дневник или воспоминания. Автобиографический рассказчик-писатель анализирует свою жизнь советского еврея с детства до настоящего времени в отдельных фрагментах, записывая «историю больших и малых обид» [Шраер-Петров 2014: 97], личную энциклопедию притеснения, исповедь субальтерна168168
Первое крупное произведение, в котором обличается советский антисемитизм, на несколько лет опередило эпоху еврейского возрождения в России и принадлежало перу нееврейки: это роман Ирины Грековой «Свежо предание» (1962, опубликован лишь в 1997 году). В этом романе, также одном из важнейших литературных документов эпохи, преследования евреев в Советском Союзе изображены значительно более открыто, чем в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», вышедшем тремя годами ранее. Показательно, что стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр», обращающееся к табуированной в Советском Союзе теме холокоста, было написано за год до романа Грековой, в 1961 году. Об обращении с темой холокоста в Советском Союзе см.: [Al’ tman 2006] и [Grüner 2006].
[Закрыть]. Из такого двойного повествования вырастает тематически многомерная структура, сеть аналогий и сближений. Левитин и повествователь оба жертвы советской юдофобии, а выдержка из обвинительной речи генерального прокурора Израиля на суде над Адольфом Эйхманом в 1961 году выявляет параллели между немецким национал-социализмом и русским коммунизмом («…торговля свободой еврея стала отныне официальной политикой рейха» [Там же: 139]). Путешествие сына Левитина Анатолия с возлюбленной Наташей в литовский город Тракай, где еще живут последние караимы, служит отправной точкой для аналогичного путевого отчета рассказчика. Поездка Анатолия и Наташи отсылает к зарождающемуся у позднесоветской молодежи интересу к еврейской культуре; в то же время автобиографическая рефлексия позволяет на метауровне рассказать о судьбе караимов как о части трагической советско-еврейской истории. Старые караимы Тракая, чья религия родственна иудаизму, скрывают это родство, не желая, чтобы их ассоциировали или, что еще хуже, путали с евреями, из страха перед гонениями; поэтому они воспринимают вопросы любознательного рассказчика как угрозу и реагируют враждебно. Тот же продолжает разузнавать детали о замалчиваемой истории и находит синагогу и музей; параллельно он пытается доказать семитское происхождение Пушкина:
Пушкин получил свои поэтические гены от Давида и его сына Соломона, поскольку род Ганнибалов восходит к династии эфиопских царей через Соломона и царицу Савскую […]. Прослеживается четкая генеалогическая и потому – генетическая линия: Давид – Соломон – Христос – Пушкин [Шраер-Петров 2014: 189].
Подобно бауховскому Кардину, рассказчик ищет скрытые (еврейские!) слои российского культурного палимпсеста. Желая спасти непроявленные генеалогии и скрытые взаимосвязи от забвения, он превращается в историка своей малой культуры. Так параллельное повествование о семье Левитиных становится частью большой истории еврейской диаспоры Восточной Европы. Судьба караимов, упоминание поэта Ильи Сельвинского с его ранним венком сонетов «Бар-Кохба» и новейших научных трудов о хазарах отражают альтернативную эпистемологию времени и вместе с тем отсылают к обстоятельствам создания самого текста. С этой точки зрения роман представляет собой художественное исследование еврейства с элементами автобиографии, критики политического режима и культурно-исторического просветительства169169
Ненавязчивый просветительско-этнографический подтекст романа проявляется, например, в подробном изложении библейской предыстории празднования Хануки или пояснении еврейских обычаев.
[Закрыть].
Но главной темой «Герберта и Нэлли» выступает все же судьба отказников. Жизнь семейства Левитиных резко меняется после того, как Герберт подает документы на выезд в Израиль и вынужденно оставляет работу ученого и врачебную практику. Подробное описание гонений, которые обрушиваются на их головы, призвано передать типическое. Для подачи заявления в ОВИР на получение израильской визы требуется справка с места работы; но, как только в институте узнают о желании Левитина уехать (что происходит очень скоро), последний тут же превращается в опасного сиониста, объект ненависти и открытого остракизма. Принудительным условием выдачи справки становится увольнение по собственному желанию. Директор института поносит Левитина: «Просто-напросто типичный неблагодарный еврей, который получил здесь все, что возможно: образование, почет, идеи, даже – жену – получил из России, а теперь плюет на все самое святое!» [Там же: 61]. Обоснование отказа в визе, узнать которое стоит Левитину огромных трудов, говорит о произволе советской эмиграционной политики. Приведенные заглавными буквами слова «Приемная» и «Очередь» в ОВИРе служат символами повседневности отказников и участи советского еврейства в целом. Действительно, для толкущихся в очереди евреев ожидание визы становится образом жизни:
Никогда еще Герберт Анатольевич не слышал подряд такого разнообразия еврейских фамилий. По этому перечню можно было, как по этнографическому путеводителю, проследить историю и географию еврейской диаспоры [Там же: 229].
Этимологический комментарий перечисляемых еврейских фамилий рассказывает историю происхождения, скитаний и приспособления народа в галуте – историю еврейства в свете надежды на исход170170
Документальность романа особенно явственна на втором, автобиографическом, уровне повествования, где возникает непосредственная параллель между вымыслом и событиями, пережитыми автором: «Я – отказник […] Меня лишили естественной возможности самовыражения: работать по специальности, а потом отняли писательское удостоверение. Все, что я пишу, наверняка пропадет, затеряется» [Шраер-Петров 2014: 232–233]. Упоминается, между прочим, эмиграция Василия Аксенова, критикуется равнодушная позиция Давида Самойлова по отношению к отказникам. Ставится, наконец, вопрос о связи советских евреев с их происхождением: что удерживает вместе всех стоящих в очереди ОВИРа – «неужели только кровь наших загубленных предков?» [Там же: 234].
[Закрыть].
Для неопытного Левитина отказ, причины которого непостижимы, становится шоком. Медицинская и биологическая метафорика передает непреодолимую границу между жизнью семьи до и после отказа – такая «натурализация» когнитивных и социальных процессов весьма типична, как я еще покажу, для литературы исхода с ее склонностью к радикальным тропам: «…вся жизнь […] сжималась, сокращалась, как тельца одноклеточных животных, превращающихся в цисту, чтобы сохранить самую основу жизни» [Там же: 221]. Трагедия происходит позднее, когда призванный в армию Анатолий гибнет на войне в Афганистане. Семья распадается, Татьяна умирает от горя и чувства вины, а психически сломленный Герберт до неузнаваемости обгорает во время пожара, тем самым действительно «биологизировав» стигму инаковости и мученичества. Пожар устраивает, видимо, сам Левитин: такова его отчаянная месть полувоображаемой, полуреальной старухе, которая отвешивает «таинственные» порошки в гомеопатической аптеке и по совместительству работает секретаршей в ОВИРе. На глазах у обезумевшего, измученного манией преследования профессора старуха превращается в отвратительную серую сову, которая для него, подобно старухе-процентщице для Родиона Раскольникова, олицетворяет вселенское зло. Мотив бреда, до этого звучавший в тексте приглушенно, разворачивается в конце первой части, когда в приемной ОВИРа Левитин вдруг ощущает присутствие темных мистических сил и в мгновение ока теряет свое научное ratio. Так вводится смыслопорождающий для прозы эксодуса топос границы: географической, психической или метафизической171171
Ср. далее главу «Мистика исхода: Эли Люксембург» (с. 151).
[Закрыть]. За последним перед пожаром видением Левитина следуют поэтические строки из Псалма Давида 21 (книга Кетувим), проникнутые трагизмом богооставленности и отчаяния:
Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей! Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смерти, ибо псы окружили меня; скопище злых обступило меня; пронзили руки мои и ноги мои [Там же: 295–296].
Во второй части романа Левитин погружается в среду отказников и встречает Нэлли, свою великую любовь. (Роман тем не менее закончится новым крахом – смертью возлюбленной и окончательным помрачением рассудка.) Здесь Шраер-Петров рисует судьбы неофициальной научной элиты из круга левитинских знакомых: автор – врач и литератор – подробно приводит достижения (реальных и вымышленных) исследователей, которых в Советском Союзе удерживали против воли, наказывали и унижали, заставляя перебиваться на низких должностях или трудиться не по профессии: таковы, например, биохимик Вольф Израилевич Зельдин или этнограф, специалист по Хазарскому каганату Александр Ефимович Хасман. На фактографическую достоверность с политическим подтекстом работают сцены еврейских праздников, встреч в главной синагоге в день Симхат-Тора, а также многочисленные беседы и споры о судьбе алии на частных квартирах. Типичным предметом художественного «диегезиса идей» служат, например, рассуждения персонажей о пассивности ассимилированных и веками угнетаемых русских евреев, а также сомнения в их способности проникнуться ценностями «родного» государства Израиль.
Как разновидность «почвеннической» нонконформистской литературы – прозы этнической эмансипации – тексты исхода часто наделяют своих вымышленных и реальных героев легендарными национальными прототипами, которые несут символическую нагрузку на ценностной шкале сионистской телеологии172172
Телос возвращения, поднимающий действительность до некого универсального уровня, выражается в пассажах наподобие этого: «…нынешнее существование Герберта Анатольевича, жизнь его витающей над землей души, было направлено только в один мир, одну вселенную – Эрец-Исраэль» [Шраер-Петров 2014: 357].
[Закрыть]. 75-летний дядя Левитина Моисей, социалист и идеалист, в шестнадцать лет бежал в Палестину и вместе с другими халуцим участвовал в строительстве еврейского государства. Для Левитина дядя олицетворяет собой сильного еврея, чья жизнь лишь оттеняет вялость и неуверенность духовно скукоженных потомков: «…Герберт Анатольевич тянулся к дяде Моисею, как тянется чахлый росток к солнцу – в надежде выжить и включиться в цикл божественной энергии, эманации, перелиться во вселенную родного народа» [Там же: 357]. Фигура дяди – тезки главного героя библейского исхода – подкрепляет структуру параллелей романной фабулы, благодаря чему фундаментальная двухполюсная модель «русско-советское – еврейско-израильское» заручается надежной генеалогией. По мнению некоторых отказников, смирение – это исконно русская и христианская черта, привитая евреям в ходе ассимиляции вопреки древней парадигме иудейства («Эта покорность противоречит иудаизму» [Там же: 369]). Одновременно эпизоды празднования еврейских праздников в среде «пробудившихся» евреев вплетаются в обширную сеть библейских отсылок – в частности, праздник Ханука напоминает об истории восстания Маккавеев [Там же: 375–376]. Кроме того, еврейско-иудаистский взгляд на текущие события задается сравнением власть имущих с египетскими правителями из книги «Шмот», а советских евреев – с их рабами: начальник ОВИРа «диктатор» Дудко стремится «подавить восставших рабов, пожелавших глотнуть воздух свободы» [Там же: 482]. С этой точки зрения актуальное положение дел длится тысячелетиями: «Ничего не изменилось, хотя прошло две тысячи лет» [Там же].
Не в последнюю очередь выбор читаемых и обсуждаемых отказниками авторов сообщает «Герберту и Нэлли» черты романа воспитания, отсылая к проживаемой на интертекстуальном уровне еврейской и сионистской истории. Библиотека алии с книгами Башевиса-Зингера, Владимира Жаботинского, Хаима Бялика, Давида Маркиша, Леона Юриса и Натана Альтермана – метонимический признак духовной сопричастности и политической солидарности, позднесоветского еврейского литературоцентризма и разделяемого с предками и пророками страдания173173
Правда, этот список авторов приводит друг Левитина Михаил Габерман, на что Левитин замечает: «Но я еще и Герцена перечитываю. Очень полезное чтение для нас» [Шраер-Петров 2014: 367]. Этот комментарий можно расценивать как подспудную критику одностороннего еврейского самообразования отказников, а в намеке на истоки левого движения в России и на раннюю политическую эмиграцию (Герцен) видится даже легкий скепсис по поводу алии. Однако в целом роман проникнут страстным пафосом исхода.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































