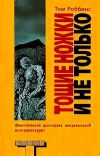Текст книги "Рыцарь свободного моря"
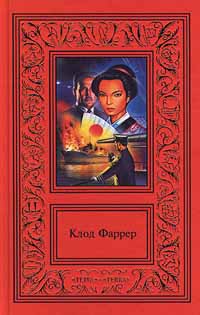
Автор книги: Клод Фаррер
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РЫЦАРИ ОТКРЫТОГО МОРЯ
I
В этот день «Горностай» отдал якорь в порту Тортуги. И тут же неподалеку стоял на якоре бриг, который именовался «Летучим Королем» и имел в качестве капитана флибустьера Эдуарда Бонни, по прозванию Краснобородый. Так что положение вещей как будто бы совсем не изменилось со времени первого прихода Тома в Вест-Индию, хотя приход тот произошел целых семь лет тому назад. И сам Тома, беседуя, как и во время оно, в той же кают-компании, с тем же Краснобородым, мог бы впасть в ошибку и подумать, что какая-то тайная магия перенесла его в самый разгар былых времен, если бы Краснобородый, собственной персоной, как только они осушили стаканы в честь своей встречи, не постарался поскорее разрушить столь поэтическую и романтическую иллюзию, доставив своему старому товарищу и Брату Побережья много доказательств того обстоятельства, – которое он, впрочем, считал плачевным и пагубным, – что они действительно живут в лето Господне 1679 – е, а уж не в лето Господне 1672 – е.
– Как же так? – спросил Тома, ничего не понимая. – Разве разница так уж велика? Какого черта нам беспокоиться, мне и тебе, что мы стали постарше, чем тогда? На таких ребят, как мы, возраст не влияет. И клянусь тебе, что я чувствую ровно столько же, как и раньше, твердости в поступи и меткости в стрельбе, к тому же еще чертовски длинные клыки!
– Алло, – крикнул Краснобородый, хлопая его по ляжкам со всего маху, – алло, товарищ! Вот таким я тебя люблю! Пропади я пропадом, если в недалеком будущем мы с тобой не отправимся вместе всадить эти проклятые длинные клыки в какую-нибудь испанскую шкуру! И сопляк тот, кто отречется! А все-таки ты уж мне поверь, внучок: теперь не то, что прежде, – далеко нет, – как ты сам скоро увидишь… Матрос, поистине я знавал время, когда Тортуга была кое-чем и когда Флибуста тоже кое-что собой представляла. Ну, а очень скоро я узнаю время, когда Флибуста обратится в ничто, а Тортуга – в еще того меньше!.. Да! И пусть изъест им оспой все их потроха и требуху, всем тем, кто послужил этому причиной!
Тогда Тома, ни черта не понимавший в этих сетованиях, спросил:
– Всем тем? Кто же они? И что за причина, о которой ты говоришь? Заклинаю тебя всеми чертями адовыми, говори! В чем дело? Неужто же в этих водах кто-нибудь решится издеваться над такими людьми, как мы с тобой?
На что флибустьер, перейдя к подробным объяснениям, дал исчерпывающий ответ.
Совершенно правильно и правдиво было то, что Флибусте ныне грозило полное разорение, которого можно было бы избежать лишь ценой настоящей революции и тысячи перемен во всех обычаях и законах, принятых на Побережье. И причиной этого было не что иное, как тот всеобщий мир, который подписали восемь или десять месяцев тому назад король Франции, король Испании и республика Соединенных Провинций.
Совершенно исключительным было и противно тому, что всегда делалось в прошлое время, оба помирившихся государства, а вместе с ними и Генеральные Штаты Голландии, которые действительно втемяшили себе в голову распространить свой мир на все его части света и, в частности, на Америку совершенно так же, как на какую-нибудь Германию или Фландрию. Так что французские губернаторы на Антиллах, начиная с господина де Кюсси Тарена, преемника недавно умершего господина д'Ожерона, решительно отказывались в какой-либо мере поддерживать и помогать флибустьерам в их каперстве и различных предприятиях. Флибуста только-только еще могла рассчитывать на то, чтобы на нее хотя бы смотрели сквозь пальцы и чтобы ей позволяли пользоваться французскими рейдами и портами, без чего само существование авантюристов скоро сделалось бы невозможным.
– Пусть так! – перебил Тома, когда Краснобородый дошел до этого места в своих комментариях. – Но если бы даже случилось самое худшее, разве Флибуста не может обойтись без всяких одобрений, так же, как и без всякой поддержки? И ты сам, в свое время, разве не побуждал ты меня нападать на наших частных врагов, совершенно не заботясь о том, являются ли они врагами моего короля или нет, точно так же, как и твоего? Почему же теперь не то, что тогда?
– Черт возьми! Да оттого, что тогда мой король и твой тоже мало заботились о том, будут их слушаться за морем или нет!.. И потому, что отныне и твой король, и мой, – да будут они прокляты и тот, и другой! – требуют, чтобы даже здесь их окаянные приказания уважались. Так утверждал в разговоре со мной, с Бонни, или Краснобородым, сам злосчастный Кюсси, который теперь управляет нашей Тортугой, отказывая мне в каперском свидетельстве, которое я у него просил позапрошлый месяц для того, чтобы принять участие в некой экспедиции, организованной одним из наших Братьев, по имени Граммон, против побережья Куманы. И этот самый Кюсси не скрыл от меня, что очень скоро сюда явятся королевские эскадры, чтобы крейсировать вдоль и поперек по нашим водам и заставить нас, хотя бы даже силой, отказаться от наших авантюр и бросить привычную нам жизнь. Да! Все в точности, как я тебе передаю!
Тома, скрестив руки и нахмурив брови, слушал эти объяснения.
– А ну-ка! – сказал он вдруг. – Брат Бонни, прикинь-ка на пальцах, если умеешь. Помнишь ты тот день, когда я уехал отсюда, возвращаясь к себе домой?
– Конечно, пропади я пропадом! – ответил Краснобородый. – Это случилось через несколько месяцев после взятия Сиудад-Реаля. А я купил этого нового «Летучего Короля» из своей доли в добыче, два года назад.
– Два года, – повторил Тома. – Два года назад я, стало быть, поднял паруса здесь, на Тортуге, чтобы отправиться, весь осыпанный золотом, к родному моему городу Сен-Мало. Ты думаешь, там я не мог бы продолжать жить спокойно и богато? Однако же я возвращаюсь оттуда, чтобы жить здесь. Я возвращаюсь потому, что, испытав раз ремесло флибустьера, я чувствую, что мне уже невмоготу ремесло горожанина. Но, клянусь Богом, раз это так, то я хочу вести жизнь флибустьера, а не городского жителя. Поверь мне и ты, в свою очередь: ни Кюсси, ни его королевские эскадры, ни приказы самого короля не помешают мне, Тома, сеньору де л'Аньеле – я теперь ведь дворянин – нападать на тех, на кого я захочу, имея или не имея каперское свидетельство, безразлично!
Он начал отдуваться, совсем выбившись из сил, выпалив такую кучу слов одним духом. Затем, прервав вдруг одобрительные «ура!» английского флибустьера, захохотал во все горло.
– Чертова перечница! – вскричал он. – Послушай-ка, брат мой Бонни: в прошлом году этот самый король, которого ты так любезно отправляешь к черту, мой король Франции, Людовик Великий, за то, что я захватил, разграбил, разгромил, потопил и сжег сотню-другую неприятельских кораблей, – причем очень часто гораздо раньше объявления войны, как ты, конечно, не забыл, – за все это, стало быть, король Людовик потребовал меня ко двору и собственными своими монаршими устами премного хвалил, поздравлял, чествовал, ласкал и даже, в конце концов, сделал меня, как я тебе уже говорил, настоящим вельможей и настоящим дворянином, со всякими пергаментами, дворянскими грамотами, размалеванными гербами и прочей занятной дребеденью, какую только можешь себе представить! Так-то! И штука эта случилась всего год тому назад… Так заставишь ли ты или кто-либо другой меня поверить, что этот же король, так вознаградивший меня в том году, в этот году вздумает меня наказывать или порицать за те же поступки, за те же дела? Дудки! Меня не проведешь!
Он встал со стула и продолжал говорить, в то время, как Краснобородый, убежденный и восхищенный его доводами, мял ему бока неистово-ласковыми пинками.
– Итак, довольно слов! Для ускорения дела не пойду я с визитом к господину де Кюсси Тарену и ничего не буду у него просить, раз все равно он мне во всем откажет. Как только я возобновлю запас продовольствия и пресной воды, я снимаюсь с якоря, и с Богом! Ты, если хочешь, иди одним путем со мной. Что же касается моего выбора, то, раз король Франции не желает больше иметь врагов, то моими врагами будут все корабли и все нации, какие только возят по морю товары, за исключением только Франции, Флибусты и Англии. Вот распятие, а вот и Библия. Поклянемся, как полагается, во взаимной верности, если желаешь.
Краснобородый вытащил из-за пояса абордажный топорик и взял его в левую руку, лезвием кверху.
– Вот на чем, – сказал он, – желаю я поклясться. Ибо на этом, – на отточенной стали топора – будем мы отныне клясться, мы все, бывшие флибустьеры, которые переживут, если надо будет, Флибусту; и из авантюристов и корсаров, какими мы были, превратимся, если нас к тому принудят, в кавалеров Фортуны и в рыцарей открытого моря!
– Рыцари открытого моря, да будет так! – молвил Тома. И на лезвии топора он поклялся первым, – он, Тома-Ягненок.
II
Таким образом, с самого своего возвращения на Тортугу Тома-Ягненок на своем «Горностае» снова взялся за каперство и снова начал пенить американские воды, подобно тому, как и прежде он это делал, ничуть не заботясь о том, переменились времена или нет…
Подобно ему, впрочем, продолжали каперствовать и шнырять по морю и все прежние флибустьеры, по крайней мере те, кто до этого времени «избег бесчисленных опасностей столь пагубной жизни», как-то: штормов, подводных камней, канонад, перемежающейся лихорадки и прочих удовольствий в том же духе, незаменимых для спешного отправления живых людей на тот свет. Эти отважные люди, живучие, как кошки, также очень мало заботились о повелениях, приказах и запрещениях, которые стремились навязать им короли европейских королевств. Твердо решив ими пренебречь, чего бы это им ни стоило, хотя бы перехода из их теперешнего положения корсаров на положение пиратов, они удваивали тем временем свою отвагу и энергию, как бы насмехаясь над этими далекими королями, столь самонадеянно желавшими распоряжаться Флибустой. Так что Тома от мыса Каточе и до Порт-оф-Спэйна и от Флориды до Венесуэлы встретил, одного за другим, всех тех, кого он знал в былое время, и много раз, для разных трудных предприятий, заключал он с ними союзы, подписывая договор или давая клятву на топоре. Все здесь были: уроженец из Дьеппа, пуще прежнего дородный и отважный; флибустьер с Олерона, все также приверженный к гугенотскому ханжеству; флибустьерка Мэри Рэкэм, которая по-прежнему не отставала от Краснобородого, хотя, как уверяли, много раз уже изменяла ему с венецианцем Лореданом, но все же продолжала плавать и сражаться с англичанином на его «Летучем Короле»; также и другие, которых Тома меньше знал или совсем не знал, но слава о которых достигла до его ушей. Это были: и француз Граммон, не так давно взявший приступом на Куманском побережье город Пуэрто-Кабельо, – завоевание, о котором Краснобородый отзывался одобрительно; и остендец по имени Ван Хорн, искусный мореплаватель; и голландец, или прикидывающийся таковым, называвший себя Лораном де Граафом, опытнейший артиллерист – словом, целиком вся Флибуста, которая, под угрозой скоро окончить жизнь по слишком уж миролюбивой воле слишком могущественных монархов, яростно торопилась жить, вдвойне и втройне насыщая эту жизнь доблестным и удалыми подвигами.
Настолько и столь удачно, что разные губернаторы и наместники королей Франции и Англии, хоть им и было дано их властителями строгое задание искоренять всякое незаконное каперство и подчинить всех корсаров миру, не могли не поддаться восхищению перед изумительной храбростью и неизменно торжествующей энергией тех самых авантюристов, которых им надлежало уничтожить. Так что губернаторы эти, наместники, долгое время уклонялись от исполнения данных им приказаний и даже начали снова втайне потворствовать Флибусте. Один из них, господин де Кюсси Тарен, даже до того дошел, что возвратил нескольким французским капитанам старые каперские свидетельства, которые сначала сам отнял у них. Он рассуждал, будучи, подобно покойному господину д'Ожерону, человеком сердечным и милостивым к храбрым людям, следующим образом: «Таким способом, ценой небольшого зла можно избежать зла горшего, так как, без сомнения, эти непомерно воинственные капитаны не преминули бы заупрямиться и начать войну со всякими поведениями и против всяких приказов. И, не имея возможности убедить их вовсе не вести войны, я предпочитаю, чтобы они вели ее в качестве корсаров, а не в качестве пиратов. Ибо таким путем я сохраню его величеству храбрых подданных, которым он будет иметь случай весьма гордиться в тот день, когда враги снова принудят его взяться за оружие».
Итак, значит, с апреля месяца 1679 года по май месяц 1682 года, Тома, каперствуя по старому своему обыкновению и грабя все встречные корабли, не разбираясь попусту в цветах их флагов и в их происхождении, взял на абордаж двадцать испанских кораблей, восемь голландских, три португальских, два остендских, один датский, пять других еще национальностей и три, не причислявших себя ни к какой национальности. К этим судам, считавшимся вражескими, и общее число которых доходило до сорока двух, надлежит добавить четыре судна, сочтенных вначале дружескими (три из них шли под английским флагом, а четвертый под французским), но с которыми, по разнообразным и прискорбным основаниям, «Горностай» вынужден был вступить в бой. Все это составило ценную добычу и было с выгодой распродано частью на самой Тортуге, частью на рынках Ямайки, частью на Сан-Доминго и Сен-Кристофе. В качестве своей призовой доли Хуана смогла выбрать себе по своему желанию множество драгоценных камней и жемчугов, которыми она не преминула до такой степени разукраситься, что стала скоро походить, благодаря драгоценностям, которыми она была вся покрыта, на саму Смуглянку из Макареньи – предмет ее самого страстного почитания.
Ибо Хуана, по-прежнему любимая своим любовником, если еще не больше, продолжала жить, надменная и безразличная, на «Горностае», который теперь заменял ей родину и на котором она поистине играла роль хозяйки и арматорши, оставляя на долю Тома лишь обязанности капитана или даже помощника.
Ей, Хуане, исполнилось только что двадцать лет. И возраст этот, равнозначный для женщин Андалузии двадцати пяти или тридцатилетнему возрасту наших француженок, – по той причине, что в южных странах более жаркое солнце заставляет скорее созревать всякое живое существо, – возраст этот довершал великолепный расцвет всех редкостных красот тела и лица, подобных которым Тома не видел никогда. По правде сказать, и без поэтического преувеличения Хуана за все время этих новых походов, бывших последними походами Флибусты, являлась столь блистательной и вожделенной всем взорам, ее созерцавшим, что скоро ей стал сопутствовать целый поток жгучих и диких страстей, поток, день ото дня все более бурный и широкий. И для того, чтобы удержать и подавить эти страсти, нужен был тот глубокий ужас, в который одно лишь имя Тома-Ягненка повергало теперь всю Америку, вплоть до самых бесстрашных авантюристов.
Сам же Тома, как бы грозен он ни был и как бы ни становился все более грозен по мере того, как возрастало число его сражений, из которых ни одно никогда не было проиграно, оставался все так же порабощенным своей любовницей и с каждым днем все больше покорялся ей телом и душой. Дело тут было не только в красоте, хотя бы безупречной. Было нечто получше – или похуже: Хуана, ставшая теперь более страстной, более падкой до любовных утех, – выйдя из детского возраста и став женщиной, подобно праматери Еве, после того, как змей ее умудрил, – увеличивала и укрепляла с помощью множества тайных и сладострастных ухищрений ту деспотическую власть, которую она давно уже утвердила над корсаром и которая с каждым днем становилась все более тираничной.
Так, например, как уже ранее упомянуто, на самом деле она командовала «Горностаем», вместо и взамен Тома, сама и единолично решая, что надобно сделать то, а не это, что надо лучше туда пойти, а не сюда, что надо погнаться за таким-то парусом, замеченном на зюйде, а не за таким-то, усмотренным на норде, одним словом, уступая руководство делами лишь в минуту сражения, – после того, как заряжены пушки. Луи Геноле, который никак не мог примириться с такими неудобными фантазиями, с трепетом ждал всегда, что она пожелает взойти еще ступенью выше и потребует в один прекрасный день руководства и управления боем.
Его предположение совсем не было столь невероятно. Ибо Хуана отнюдь не была из тех боязливых бабенок, которых звук пистолетного выстрела повергает в трепет или даже в обморок. Совершенно напротив: странная девушка нигде не чувствовала себя так хорошо, как в самой гуще яростнейшей свалки. И все могли видеть ее под дождем картечи, очень спокойно прогуливающейся в великолепном наряде по ахтер-кастелю, подставляя с презрением свою открытую грудь смертельным ласкам пуль и жадно вдыхая грубый запах пороха.
Помимо этих прогулок, подруга Тома совсем не показывалась из своей каюты, где все ее время протекало в примерках и прихорашивании, в ленивых мечтаниях и любовных делах. Ибо оба любовника, согласуя теперь свои взаимные и настойчивые желания, изнуряли друг друга, не зная ни отдыха, ни срока, яростно терзая свою плоть и кровь в похотливом исступлении, больше смахивающем на ненависть, чем на нежность. Нередко удивлялись матросы фрегата, видя, что их капитан спотыкается поутру, взбираясь по трапу, и торопится прислониться к поручням на мостике; тогда как мулатка – невольница Хуаны – улыбалась, замечая большие темные круги под влажными еще глазами ее госпожи…
Итак, три года и даже больше плавал «Горностай» таким образом, унося к тысяче случайностей и тысяче приключений своеобразное сочетание людей: остервенелых любовников, ко всему вокруг себя равнодушных, серьезного и набожного Геноле, имевшего рядом с ними вид святого, заблудившегося в аду, и несколько сот бравых малуанских молодцов, которые вначале были вольными корсарами и верными подданными короля, но вскоре снизились до Флибусты и продолжали, впрочем, снижаться и дальше, благодаря сражениям, которые они вели в мирное время против флагов всего мира, благодаря также тому, что в их состав все обильнее вливались подкрепления в виде авантюристов всех наций… так как злокачественная лихорадка и вражеский огонь беспощадно косили их ряды; и отовсюду, с английских, голландских и даже испанских земель, а не только с французской земли, приходилось Тома-Ягненку набирать своих новых товарищей…
III
И вот, когда прошли эти три года, без того, чтобы какой-либо из них был отмечен среди других чем-либо особо примечательным, в мае лета 1682 – го произошло событие, незначительное с виду, но чреватое пагубными осложнениями.
Действительно, к этому времени, Тома, возвращавшийся с килевания от кубинских Кай, заключил по всем правилам договор с некоторыми капитанами Флибусты, с тем, чтобы отправиться всем вместе на приступ города Пуэрто-Бельо, следуя в этом примеру английского авантюриста Моргана, который захватил его уже десять или пятнадцать лет тому назад и прекрасным образом обобрал его, продержавшись в нем целых десять месяцев под самым носом у президента Панамы, дона Хуана Переса де Гусмана. Столь славный пример достоин был подражания, и тут нельзя было не приобрести разом и славу и богатство. Действительно, Пуэрто-Бельо является главным торговым центром на берегу Атлантического океана для тех американских владений, которые природа отвернула, так сказать, от Европы, обратив их к Южному морю, называемому также Тихим. Сюда-то именно и свозится перед отправкой в Испанию на галионах католического короля весь этот чудесный груз золота и серебра, который Мексика и Перу каждый год извлекают из своих неисчерпаемых рудников.
Итак, указанный договор был подписан на острове Вака, – что было удобнее, чем на острове Тортуга, так как губернатор Кюсси, управлявший последним, несмотря на то, что его первоначальная строгость мало-помалу смягчилась, всегда старался тем не менее противопоставлять широким предприятиям флибустьеров бесчисленные препятствия и затруднения; и самое простое поэтому было действовать без его ведома. Местом встречи назначили якорную стоянку островка Старого Провидения, расположенного, как известно, мористее Никарагского побережья, то есть как раз у выхода из Пуэрто-Бельо. Когда все было таким образом условленно, – и весьма благоразумно, – Тома 19 мая поднял паруса, под покровительством святого Ива, память которого приходится на этот день, и направил курс прямо к месту свидания, убежденный, что найдет там, ожидающими его, почти всех своих Братьев Побережья, большинство которых ушло на три или четыре дня раньше.
И действительно, когда 21 мая, после всего лишь трехдневного, как нельзя более удачного перехода, «Горностай» прямо направился по фарватеру к якорной стоянке, там уже находилось два больших корабля, и тот и другой под белым флагом77
Флаг Флибусты был белый, в подражание французскому.
[Закрыть], и тот и другой более сильного типа, нежели малуанский фрегат. И Тома, беспечный по обыкновению, не сомневался в том, что эти два корабля принадлежат капитанам Лорану де Граафу и Ван Хорну, принимавшим участие в экспедиции и действительно командовавшим двумя довольно крупными судами. Так что он порядком был удивлен, и неприятным образом, когда оба мнимокорсарских судна, спустив свои белые флаги, подняли вместо них кастильское знамя и в ту же минуту вступили в бой. По счастью, осторожный Геноле, более предусмотрительный, чем его начальник, заподозрил хитрость и, под предлогом отдачи салюта, очень кстати велел открыть констапельскую и созвал к пушкам всю орудийную прислугу. Так что «Горностай» не замедлил ответить на огонь испанцев. Тем не менее, он все же оказался один, и в узком фарватере, совершенно не допускавшем маневрирования, против двух значительно превосходивших его противников. Это была ловушка, устроенная по специальному распоряжению президента Панамы, каковой сановник, совмещавший должность главного управителя в области гражданской и главнокомандующего всеми испанскими силами, расположенными в Перу, поклялся государю, своему королю, что он либо освободит Америку от Флибусты, либо погибнет при исполнении своей задачи. Предупрежденный через шпионов о недавно задуманном походе на Пуэрто-Бельо, он задумал помешать его выполнению, послав к островку Старого Провидения сильную эскадру и поручив ей разгромить или разогнать одного за другим всех корсаров, которые туда явятся. Так, де Грааф и Ван Хорн уже принуждены были спастись бегством от нескольких линейных кораблей. Так, Тома, которому еще меньше повезло, оказался вынужден выдерживать неравный бой против арьергарда той же эскадры, то есть против двух судов, вооруженных вместе шестьюдесятью шестью пушками, тогда как «Горностай» их имел, как известно, всего двадцать.
Все же для авантюристов не было ничего особенного в том, чтобы драться одному против троих или четверых. Тома уже десять раз выходил победителем и при худших обстоятельствах. Отнюдь не удивляясь и в данном случае, он просто принялся за свое ремесло корсара, и испанцы скоро увидели, что они были весьма неосторожны, атаковав такого врага, не имея возможности противопоставить ему целый флот. Тщетно боролись они, отчаянно давая залпы, не успев хорошенько навести орудия. Меткий огонь малуанцев рубил их, как капусту. Напрасно вопили они во все горло, выкрикивая яростные «ура!», чтобы себя подбодрить. Тем убийственнее была работа, совершавшаяся на борту «Горностая», что она была безмолвна, как того всегда требовал строгий Луи Геноле. Наконец, самый крупный из кастильских фрегатов, лишившись рангоута, потеряв возможность управляться, почти неспособный уже к сопротивлению, обрубил свои канаты и понесся по течению к подводным камням у островка, о которые и разбился, довершив таким образом свою гибель; а спутник его, оставшись один и сочтя сражение безнадежно проигранным, спустил свой желто-красный флаг и сдался.
Тут и случилось одно непредвиденное происшествие. Команда «Горностая» спустила уже шлюпку на воду и стала перебираться на борт испанца. Его шкафут весь был усеян ранеными и умирающими. Обычай велит в таких случаях приканчивать всех пленных, вышедших из строя, дабы по возможности облегчить, как и должно быть, заботы победителей. С этой целью малуанцы начали добивать раненых уже врагов, постепенно выкидывая трупы через абордажные сетки. Как вдруг, один из раненых, которого собирались прирезать, поднялся и, вырвавшись из державших его рук, поспешно бросился к ногам Тома.
– Senor capitan, – крикнул он на своем жаргоне, – no me mateis! Jo os dire la verdad!
А это была, слово в слово, та самая фраза, которую сказал перед захватом Сиудад-Реаля пленный мулат, послуживший, в конце концов, проводником. Тома, вспомнив это и к тому же заинтригованный этим словом, «verbad», означающим «правда», заподозрил какую-то тайну и захотел ее выяснить. Но на его прямой вопрос негр не отвечал ни слова, продолжая лишь обнимать ноги корсара, как бы заранее страшась того, что ему надлежало сказать. Негр этот был высокого роста и ранен был всего лишь мушкетной пулей в правую руку. Он трясся всем телом.
– К черту! – закричал Тома нетерпеливо. – Убейте его сейчас же, если ему нечего рассказывать! Эй! Подать сюда пистолет.
На этот раз негр заговорил, – и то, что он сказал, заставило всех вытаращить глаза; ибо, сначала выпросив себе пощаду ценой той правды, которую он откроет, он затем объявил, что его зовут Мохере, что по ремеслу он палач, – палач Панамы, – и взят он был на испанский корабль по личному желанию президента, который, нисколько не сомневаясь в том, что флот его одержит победу над флибустьерами, приказал не щадить таких разбойников и всех их повесить, а сеньора Ягненка выше всех остальных.
Матросы яростно кричали. Бесстрастный, хоть и побледневший сразу, Тома велел им замолчать. После чего, взглянув на все еще распростертого ниц негра-палача, сказал:
– Дарую тебе пощаду, дарую тебе даже свободу, но с тем условием, что ты отвезешь от меня письмо своему президенту, так как мне хочется дать ему знать о себе. Но только смотри получше на то, что здесь произойдет, чтобы дать ему верный отчет обо всем.
С этими словами он обнажил саблю, прекрасного закала и изумительно острую. Матросы, следившие взглядом за его движениями, увидели, что он подошел к люку. Здоровые и невредимые еще испанцы укрылись, как обычно, в глубине трюма.
– Все наверх! – скомандовал Тома.
Появился страшно испуганный испанец, и Тома ужасным ударом наотмашь снес ему голову. За первым последовал второй, и его голова тоже отлетела. Двадцать, потом еще сорок других поднялись один за другим, так как снизу они ничего не видели и не подозревали, какой им готовит прием по выходе из люка смертоносная сабля, обагренная кровью их товарищей, – и Тома, неутомимый, нанес двадцать, нанес сорок ударов. Наконец слетело пятьдесят три головы, – последние были скорее оторваны или отпилены, чем отрублены, но Тома все еще взмахивал, все с той же яростью, своей уже затупившейся, зазубренной и непригодной саблей. Но все было кончено, – последний пленник был мертв.
Корсары молча взирали на ужасную расправу. И как ни огрубели они, привыкнув к самой отчаянной резне, все же они побледнели от какого-то скрытого отвращения. Тем не менее, по знаку начальника, они без всяких возражений выкинули за борт все это изрубленное человеческое мясо. Потом один из них, бывший в свое время семинаристом или даже священником, как утверждали некоторые, и помнивший еще азы, приготовился писать, по приказанию Тома, письмо, которое негр-палач, единственный из всей вражеской команды оставшийся в живых должен был передать своему президенту. Ни у кого, понятно, из присутствующих для такого письма не было ни чернил, ни бумаги, ни пера. Но семинарист, недолго думая, живо смастерил себе из щепки перо и обмакнул его в разлитую по палубе кровь; и ни у одного писаря никогда не было ни такой большой, переполненной чернильницы, ни таких хороших красных чернил.
Что же касается бумаги, то матросы отправились поискать ее в сундуке у испанского капитана, также убитого; и как раз на патенте этого капитана семинарист и написал письмо, продиктованное Тома. И вот каковы были дословно выражения письма, которое президент Панамы счел нужным вручить королю Испании, «как ужасное доказательство наглости и зверства французских разбойников», и которое король Испании поместил впоследствии в свою королевскую библиотеку в Эскуриале, где всякий любознательный путешественник может его видеть и ныне.
«Мы, Тома, милостью Божией и его величества короля Франции, сеньор де л'Аньеле, а равно капитан Флибусты и Рыцарь Открытого Моря, господину президенту Панами желаем здравствовать.
Настоящим доводим до сведения Вашего, что флот Ваш, посланный к островку Старого Провидения, дабы разбить и перерезать нас всех до единого против всяких правил, законов и обычаев честной войны, сам был разбит и побежден нами в честном бою, как сможет то засвидетельствовать освобожденный нами невольник, коего отсылаем Вам с этим посланием.
А как невольник этот признался нам и рассказал, что состоит на жаловании у Вас в качестве палача, и как таковой, посажен на Ваше судно, чтобы выполнить тут свое ремесло палача – подло убивать и вешать за шею всех корсаров и флибустьеров, которых удалось бы Вашему флоту словить и взять в плен, если бы Бог ему даровал победу; и это вместо того, чтобы, с почетом относиться к упомянутым корсарам и флибустьерам, как подобает христианским врагам, то посему и по этой причине, мы сами собственными руками и нашей саблей обезглавили всех изловленных нами и взятых в плен испанцев с упомянутого Вашего флота. Сие, как справедливое возмездие и согласно воле Божиеи, который ради того дал нам победу и отнял ее у Вас, хотя Вы значительно превосходили нас и силой, и числом.
И как поступили мы при этой встрече, так будем поступать всегда и впредь при каждой предстоящей встрече, вознамерившись не давать Вам никогда пощады и перебить Вас всех, а также и Вас лично, если угодно будет Богу, подобно тому, как Вы вознамерились нас убить, что Вы и сделаете, по нашему разумению, если сможете. Но этого не случится, потому что никто из нас никогда не достанется живым в Ваши языческие лапы.
Да будет так, ибо такова наша воля.
Невзирая на сие, да будет с Вами Бог.
Тома-Ягненок».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.