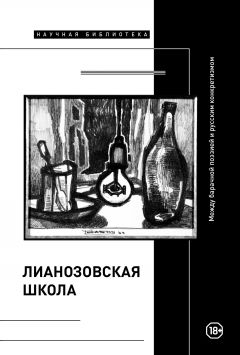
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Неудивительно поэтому, что опыт поэтической антропологии Кропивницкого в свете «Пепла» представляется развитием найденных Белым тем, приемов и поэтических ходов. Как и Белого, Кропивницкого в стихах конца 1930-х—1940-х годов интересует лиминальный мир, – мир населенный и простыми недалекими людьми, мыслящими по-другому, и социальными маргиналами, живущими аффектами, будь то желание выпить или отомстить, и отщепенцами, совершающими убийства и творящими насилие. Но одновременно этот мир (как будто из-за долгого изучения из позиции наблюдателя, а по сути, за отсутствием другого) вызывает симпатию своей простотой и бесхитростностью, своим чистым эмоциональным репертуаром (неслучайно исследователи регулярно отмечают симпатию автора к своим персонажам).
Отсюда достаточно много перекличек между стихами двух поэтов, идет ли речь о характерных проявлениях социальной маргинальности (см., например «Из-за угла» (1937), «Бандита» (1939), «Песню пьяницы» (1938) и другие стихи Кропивницкого, сотканные из тем и мотивов «Пепла»), о приеме многозначительно-трагического финального пуанта («Армячишко платан, / В валенке дыра… / Хрипло кроет матом… / Не найти двора…» – «Вечер ближе. Солнце ниже. / В облаках – огни. / Паренек, сверни – сверни же, / Паренек, сверни!»445445
Кропивницкий Е. 2004. С. 104; Белый А. 2006. С. 216.
[Закрыть]) или же о сходных аллегорических образах (стихотворение «Паук» у Белого и у Кропивницкого446446
Кропивницкий Е. 2004. С. 112; Белый А. 2006. С. 226–227.
[Закрыть]).
Итак, если «простота» поэтики Кропивницкого может объясняться закономерностями эволюции русской лирики, то амбивалентная модальность его стихов (необходимая как компенсаторный механизм простоты) восходит к символистской иронии Белого. Для осмысления окраинной жизни и ее представителей Кропивницкий обратился к поэтическим приемам начала века и пересобрал символистскую иронию и приемы стилизации автора «Пепла». Надо полагать, что у Белого Кропивницкий научился не только многомодальным высказываниям, но и поэтической антропологии. Рассмотренные на фоне «Пепла» социальные стихи Кропивницкого находят много тематических, мотивных, нарративных и стилистических перекличек (более подробное сопоставление – тема для отдельной работы; здесь же в скобках отмечу, что самая общая параллель с поэзией Одарченко оправдана не только «простотой» текстов, но и подчеркнутой макабрической иронией Одарченко, вероятно, также связанной со стихами Белого периода антитезы).
Стоит при этом подчеркнуть, что обсуждавшаяся полимодальность стихов Кропивницкого – базовый прием, который определяет как его природно-философскую, так и социальную поэзию; в свете этого приема разделение на тематические домены предстает условным и ничего не объясняющим (само разделение при этом, вероятно, тоже вдохновлено диспозицией текстов одного времени в «Пепле» и «Урне»).
Кропивницкий, таким образом, пересобрал характерные приемы модернистской лирики и переадаптировал поэтику Белого для своей поэтической системы. Однако пока мои рассуждения не объясняют, зачем ему это понадобилось. В самом деле, что это давало Кропивницкому?
Поэтический субъект и советская субъектность
Амбивалентная модальность не только компенсирует простоту текста – она избегает какой-либо определенности, а значит – маскирует истинные коммуникативные намерения говорящего/пишущего и скрывает его «Я». Если символистская ирония для Белого была особым способом разговора о сакральном, то Кропивницкому она (в переадаптированной форме) давала возможность весьма иронично сказать нечто, но одновременно и не сказать ничего определенного. Этот тип избегающего однозначных категоризаций, ускользающего высказывания необходимо связать с практиками субъективации в советскую эпоху.
Прежде всего, оговорюсь, что в рамках статьи мне представляется возможным рассматривать лирику Кропивницкого как практику самоконструирования и саморепрезентации. Пишущиеся в стол стихи мне кажется допустимым уподобить практике ведения дневников «для себя», которая в 1930-е годы была важна именно в плане формирования советского субъекта447447
См. подробнее: Хелльбек Й. Революция от первого лица: Дневники сталинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
[Закрыть].
Во-вторых, такая точка зрения подкрепляется тем, что феномен полимодальности проявлялся и в жизни поэта (судя по воспоминаниям о нем), и в его эго-текстах. То есть между лирическими текстами, бытовыми высказываниями и практиками саморепрезентации, по-видимому, не было существенного разрыва. См., например, поразительно амбивалентно-лукавое, осциллирующее между ироничным списком банальностей и списком издевательским, проговаривание своих эстетических позиций в поздней автобиографии 1977 года:
Любил все творчески новое и оригинальное. А пошлое, банальное и антихудожественное не любил. Любил природу, растения, цветы, добрых людей, талантливых людей, милых женщин. Все злое, вредное и жесткое, например, войну, борьбу, казни, козни, убийства и бездарных наглецов никогда не любил и не люблю. Любил Россию – ее природу, просторы, избушки и добрый ее народ. Свое стихотворное творчество строил на правде жизни и натуре – не как «должно быть», а как оно есть. <…> Считаю, что искусство должно быть красивым. <…> Считаю, что автор должен проявлять свое лицо, а не подражать. Считаю, что писать глупые стихи, рисовать дурацкие картины, сочинять идиотскую музыку не следует, так как это подло и мерзопакостно448448
Кропивницкий Е. 2004. С. 528–529.
[Закрыть].
Интонация приведенного фрагмента автобиографии мало чем отличается от интонационных структур стихов автора. Как мы уже могли убедиться, установка на полимодальность пронизывает поэзию Кропивницкого 1930–1940-х годов.
Среди сообщенных в автобиографии амбивалентных банальностей руссоистского толка449449
О «неистовом руссоизме» поэта пишет Ю. Б. Орлицкий в статье «Для выражения чувства…»: Стихи Е. Л. Кропивницкого // Новое литературное обозрение. 1993. № 5. С. 194.
[Закрыть] обращает на себя внимание настойчивое возвращение к подлинности: «правда жизни», отраженная в творчестве, необходимость «проявлять свое лицо». Как будто за этим рядом лукавых утверждений действительно проступает волнующий автора вопрос о его идентичности. Этот вопрос, очевидно, не имел и не имеет простого ответа, поскольку субъект стихов Кропивницкого как раз не проявляет свое лицо.
Здесь мне кажется важным вернуться к началу работы и напомнить о концепции М. Маурицио, который увидел в стихах поэта того времени ироничное отрицание официального дискурса, за которой иногда маячит призрак идеологической оппозиционности. На уровне тем, языка и различных поэтических элементов она, видимо, действительно каким-то образом проявляется, – Кропивницкий словно апроприирует соцреалистическую эстетику и, не принимая ее официальных реализаций, предлагает свою, более правдивую, версию соцреалистического письма. Говоря совсем просто, некоторые тексты Кропивницкого по своим формальным особенностям имитируют соцреалистические приемы, однако содержательно они, конечно, далеки от советского письма.
На уровне поэтического субъекта, на мой взгляд, как и на взгляд Маурицио, о политической оппозиционности речи идти не должно. О ней, напомним, резонно говорить в случае Сатуновского, в поэзии которого субъект предстает принципиально не-советским и то и дело подвергает сомнению официальный дискурс. Это происходит потому, что стихи Сатуновского сами выходят в поле политического и в нем, прямо или косвенно, но все же достаточно ясно, чтобы это считать, манифестируют разрыв с официальной идеологией и ее речевыми репрезентациями. Кропивницкий, однако, выбирает другую стратегию формирования «Я», а его стихи последовательно избегают однозначного политического измерения.
Вместо политической и эстетической оппозиционности мне представляется уместным говорить о более гибком и сложном сценарии самоконструирования и саморепрезентации.
Прежде всего, мне кажется важным подчеркнуть, что Кропивницкого не стоит воспринимать как прямого продолжателя модернистской традиции в сталинскую эпоху. Хотя выше много говорилось о влиянии Белого, очевидно, что речь идет не о наследовании поэтических принципов, а об их радикальной пересборке и трансформации. Субъект в поэзии Кропивницкого достаточно далек от обобщенного поэтического субъекта модернистской поэзии, его практически не волнуют эстетические категории, философские вопросы и трансцендентные сущности. Мир дан в своей ощутимой посюсторонней полноте, однако явления, стоящие за видимыми феноменами, субъекта стихов Кропивницкого не интересуют, – на них можно только намекнуть в многозначительном умолчании, указать, что они остались за рамками ироничного текста. Однако это можно списать на иллюзорность восприятия, словно читателю показалось, что в тексте есть что-то еще, хотя на самом деле в нем это не сказано.
Если пытаться изложить эти импрессионистические формулировки чуть более строго, можно сказать, что у Кропивницкого есть амбивалентная модальность, но, в отличие от Белого, нет сакрального / «идейно-символистского» смысла. Тот же «Пепел», в конечном счете, постигает неразгадываемую тайну истинной России, и за речевыми гримасами ужаса или смеха сам объект описания наделен сакральным смыслом. Подобного отношения к окраинам и ее обитателям у Кропивницкого мы не обнаруживаем.
Ирония поэта, соответственно, обращается не столько на изображенные в тексте предметы и явления, сколько на саму речь. Субъект Кропивницкого порождает высказывания, которые сами себя отрицают или, во всяком случае, сами себе до конца не верят.
Такие формы высказывания отличаются от большинства форм модернистского дискурса. Вместе с тем они неоднозначно соотносятся и с практиками советской субъектности. Согласно теории, предложенной в работах И. Халфина, Й. Хелльбека, О. Хархордина450450
Хелльбек Й. 2017; Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999; Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Издательство Европейского ун-та, 2016.
[Закрыть], «Я» советского человека исторически обусловлено. В своих практиках выстраивания идентичности и саморепрезентации каждый индивид проходит психологическую перестройку от капиталистического, «темного» мировоззрения и самовосприятия к социалистическому «свету». Процесс субъективации заключается, прежде всего, в приобщении к доминирующему официальному дискурсу, в выстраивании самого себя в соответствии с основными положениями господствующей идеологической системы, в осмыслении своего «Я» в ее координатах. Если проецировать теорию советской субъектности на поэзию Кропивницкого, то стоит признать, что его поэзия не вполне соответствует дискурсивным практикам людей, конструирующих советское «Я». Не вполне соответствует, но вместе с тем и не вполне противоречит, – эта амбивалентность мне кажется принципиально важной451451
Ср. с афористичной формулировкой В. Шубинского: «Это мир настолько советский, что почти уже не советский» (Шубинский В. 2018. С. 131).
[Закрыть].
Несоответствие, прежде всего, связано с иронией, которая плохо сочетается с предельной искренностью и серьезностью в дискурсивном самоконструировании советского субъекта. Вместе с тем ирония Кропивницкого последовательно выдает себя то ли за обличительную сатиру, то ли за не вполне ироничную наивность, заставляя темы текста двоится и ускользать. Так, у поэта встречаются стихи, которые вроде бы можно было бы категоризировать как «оппозиционные». См., например, стихи 1939 года452452
Кропивницкий Е. 2004. С. 108.
[Закрыть]:
По витринам – из картона
Хлеб и сыр, и колбаса.
Понаделано их тонны,
Разбегаются глаза.
Эти яства – тоже – проба —
Ну-ка кинь-ка на весы!
Ну-кась, выкуси, попробуй
Деревянной колбасы!
Это стихотворение напрашивается прочитать в духе сатиры на советское изобилие и бытовое благополучие, как и увидеть в нем авторское несогласие с мнимым изобилием, однако такое интерпретационное усилие разбивается о тему текста, который, в конечном счете, сообщает именно что о муляжах для витрины (автор в таком случае оказывается не столько сатириком, сколько скорее наивным графоманом, допустившим неуклюжую экспрессию, но в целом как бы восхищающимся, пусть и до смешного нелепо, как изобилием производственным, так и устройством мира, в котором нельзя съесть деревянной колбасы).
Контрастный пример, стихотворение 1940 года453453
Кропивницкий Е. 2004. С. 119.
[Закрыть]:
Виртуоз на счетах он. И
В канцелярии почёт
За такую бойкость счет.
Виртуоз на счетах он. И
Дома тихо. И иконы.
И уют. И серый кот.
Виртуоз на счетах он. И
В канцелярии почёт.
Текст (теоретически) может быть прочитан как сатирическое изобличение вредителя, если не врага народа, который своими махинациями подрывает советскую экономику. Неслучайно дома у него на стены иконы (хотя много ли он наворовал, если дома только уют и серый кот?). Вместе с тем обличительный дискурс зияет отсутствием самого политического обличения, и герой стихов может оказаться действительно мастером своего дела, заслужившим уважение трудового коллектива; что же касается его быта, то он, изображенный скорее с симпатией, может сообщать о том, что человек, живущий даже в таких не вполне модернизированных бытовых условиях, способен быть членом советского общества. Этот план, конечно, тоже ироничный, но уже не подразумевает изобличительной сатиры.
В этой связи интересно обратить внимание на манифестарный текст 1937 года454454
Там же. С. 94.
[Закрыть]:
Я поэт окраины
И мещанских домиков.
Сколько, сколько тайного
В этом малом томике.
Тусклые окошечки
С красными геранями.
Дремлют Мурки-кошечки.
Тани ходят с Ванями.
Под гитару томную
У ворот встречаются.
– Митьку били втемную… —
Месяц улыбается.
Как и другие стихи, этот текст амбивалентен. С одной стороны, субъект вроде бы признается в своей симпатии к мещанской окраинной жизни и ее обитателям, и если бы текст сообщал это более эксплицитно, он бы перешел в политическую плоскость. Однако линия симпатии контрастно осложнена элементами советского официального письма: это и типизация (Тани ходят с Ванями), и обещание изобличения (сколько тайного в этом малом томике), и наделение говорящего субъекта объективным внеположным взглядом благодаря сравнению со светом месяца (сам концепт света очень показателен и важен для официального дискурса), благодаря чему субъект способен увидеть за тихой мещанской повседневностью совсем другую сущность людей и разоблачить ее. В последней строке стихов и вовсе напрямую вводится тема иронии (месяц улыбается), которая коннотативно распространяется на весь текст, но опять же, ее характер остается двойственным.
Таким образом, видно, что стихи Кропивницкого за счет их полимодальности не вполне встраиваются в идеологический дискурс и не вполне соотносятся с официальными практиками письма. Наиболее системно амбивалентная, ускользающая установка субъекта логичным образом проявляется в лирических текстах с «Я» как доминирующей инстанцией, а смысловой фокус таких текстов смещается с субъектности на окружающий мир.
Ролевая поэзия, на первый взгляд, более пряма и последовательна в своих высказываниях от лица простого человека. Резонно предположить, что в случае с моделированием / описыванием чужого сознания Кропивницкий чувствовал меньшую стесненность, – за устройство чужого сознания автор вроде бы ответственности не несет. На полях отмечу, что потребность говорить от первого лица и реализация этой потребности в ролевых стихах кажется симптоматичной. Даже при небольшой психологизации в этом видна сублимация: слова и речевые практики нуждаются в воплощении, однако прямое воплощение опасно и потому возникает окольный путь – путь ролевой лирики.
Однако тексты с субъектностью вымышленных персонажей хотя и больше оперируют категорией «Я», все равно последовательно реализуют общий для Кропивницкого принцип ироничной полимодальности. См., например, стихотворение «Любовь плотника» (1940)455455
Кропивницкий Е. 2004. С. 118.
[Закрыть]:
Специалистом я не даром
Числюсь 10 лет.
С конопатчиком Макаром
Не гулять ей – нет.
Поплюю себе на руки
И возьму топор.
Заработаю на брюки —
То-то: я хитер!
Появлюсь изрядным франтом
Прямо в самый сок.
Выйдет Симка – косы с бантом,
Золото серёг.
Я возьму ее под ручку,
В пылком сердце жар.
Посмотри, какую щучку
Я поймал, Макар!
Как и в других примерах, рассказанная здесь история (вместе с продемонстрированным сознанием) может прочитываться двояко, колеблясь между историей о профессионале, который в свободное от работы время пытается наладить свою личную жизнь, и историей о несознательном человеке, который вместо трудовой жизни небдительно захвачен мещанскими интересами. Оба прочтения совершаются в области смешного, осциллируя между сатирическим тоном и доброй иронией. И вновь текст не выходит в политическую плоскость, оставляя под вопросом принадлежность к официальному дискурсу.
Итак, «Я» Кропивницкого, проявляясь в тексте иронично, последовательно избегает политического измерения, прямых высказываний и каких-либо оценок. В этом можно видеть особую жизненную философию, но не стоит забывать, что эта философия стала последовательно воплощаться в слове именно в сталинский период. В основном словесная репрезентация Кропивницкого обходит доминирующие зоны официального дискурса и его рефлексов в письменных практиках самоконструирования советского человека (сознательность, история, коллектив, политика, аффектированность и т. п.), однако напрямую их и не отрицает, не выходя в план политического, в котором и можно продемонстрировать свою причастность или непричастность к идеологии. Поэтому если пытаться ответить на вопрос, где в ситуации конца 1930-х – начала 1940-х локализуется поэтическая речь Кропивницкого, то стоит либо говорить, что она может быть расположена как внутри, так и вне советского дискурса, либо считать (и это, надо полагать, будет более точным ответом), что она расположена ровно на границе между официальным советским дискурсом и дискурсом антисоветским (напомним, что в последней зоне расположена поэтическая речь Сатуновского). В каком-то смысле поэзия Кропивницкого того времени – это сама граница, мембрана, чутко реагирующая на все то, что находится с разных сторон от нее. Представляется также, что эта граница в речевом плане напрямую связана с амбивалентной иронией (если не является ей).
Так во взаимоналожении трех разных областей – эволюционной развилки русской поэзии, в которой напрашивался путь «опрощения» стиха, пересборки приемов модернистской поэтики Белого и переадаптации его символистской иронии и, наконец, осцилляции между признанием и отторжением официального дискурса – сформировалась поэтика Кропивницкого, влияние которой распространяется на русскую поэзию и сегодня.
Валерий Шубинский
ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТИКИ
ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ И АНДРЕЙ НИКОЛЕВ
1
Одна из самых увлекательных тем истории русской поэзии XX века – судьбы людей, которые в антропологическом и языковом смысле в основном сформировались до 1917 года, но не успели (или не вполне успели) к этому времени сформироваться творчески. Причем речь не о «гениях». Не о титанах: не о тех, кто по определению стихийно создает для себя уникальную модель существования.
Модели же, предложенные временем, были, собственно, таковы.
Первая – самоосуществление в качестве, скажем так, раннесоветского поэта. Речь о соединении языкового и культурного мышления, самосознания, оптики, звука, укорененных в высоком модернизме, с большей инструментальностью и более четкой социальной ангажированностью. Пропорции тут могут быть разные и личные ходы разные, но в общем – более или менее понятно, о чем речь: это путь Багрицкого, Сельвинского, Луговского, раннего Тихонова.
Вторая – попытка остаться мастером-неоклассиком, демонстрирующим техническое совершенство и блеск на фоне нового варварства. В эмиграции это оказалось, в общем, невостребованным (после Ходасевича по меньшей мере), но в СССР небольшой общественно-государственный спрос на такую службу был, и поэты состоялись, в том числе и в официальной печати. Шенгели – практически без жертвы личными смыслами, дыханием и звуком (но его и печатали меньше других). Антокольский – без попытки сохранить дыхание (которое и было слабым) и смыслы (за которые не стоило и держаться), но человечески достойно и без деградации. Всеволод Рождественский – с деградацией быстрой и безнадежной, примерно до того же уровня, что и Тихонов, то есть до нуля. Во всяком случае, вакансии были быстро заняты. Дальше (с начала 1930-х) этот путь был возможен только в подполье и полуподполье. К счастью для личностей и талантов оставшихся социально невостребованными, но внутренне сохранными поэтов – от Тарковского до Щировского и до Сергея Петрова.
Третий путь – попытка прорыва к новому варианту свободного языка через авангардные практики. Здесь ставки были очень высоки, но и риск высок. В конечном счете это выходило только у гениев, например, у Хармса или Введенского – им удавалось обрести в дадаистской «бессмыслице» новое звучание старых слов. Другим – даже Поплавскому – в общем, нет. Обэриуты актуализовали (и сделали возможным для других, для тех, кто следовал за ними, например, для Павла Зальцмана) еще один путь – лирико-метафизической полупародии. Где-то совсем поблизости проходила линия Оболдуева и его круга, о которой еще надо размышлять.
Наконец, четвертый (или пятый) вариант: аристократическая небрежность и вяловатость, скольжение по грани банальности, полное исчезновение всех наиболее «высоких» уровней модернистской поэзии: символистской мистики, акмеистического культа гармонии, футуристических дерзаний, замена всего этого персональными элегическими чувствами – при совсем не по-аристократически серьезном отношении к последним. Это путь «парижской ноты». (Не столько Иванова и Адамовича, сколько их учеников, таких, как Штейгер или Червинская. Читая этих поэтов, внезапно чувствуешь, насколько теряет свое горькое обаяние трепетный пустоцвет старой культуры, зощенковский Мишель Синягин или вагиновский Локонов, вместе со своей советской беззащитностью).
Это все присказка. Нас, собственно, интересуют те, кому ни один из этих путей не подошел.
2
Андрей Егунов (Николев) был выходцем скорее из круга Кузмина, а не Гумилева. Это очень важно. Для «Жоржиков» (и даже для Вагинова, всего полгода походившего в «гумилятах») поэтическая форма была все-таки результатом труда, плодом мастерства. Для Кузмина и его круга – неким имманентным свойством личной речи. Георгий Иванов мог припустить вожжи, сделать речь менее формально напряженной, более расслабленной, это было в его воле. Николев, как и Кузмин, мог лишь иронически остранить изощренную игру языка и ритма, но по сути она не зависела от поэта и не могла никуда деться, о каких бы пустяках речь ни шла.
Точнее: то, что Иванов не говорил ни о чем выше посюсторонней «судьбы человека», уже означало трагедию и жертву. «Пустяки» же были либо ширмой для экзистенциального «подтекста» (в духе чеховского диалога) – либо знаком последнего поражения: «распадаются слова и не значат ничего». «Пустяки» николевской поэзии заведомо ничего вне себя не означают:
В мокром снеге доски прели,
пахло далью и навозом,
под заглавием Беспечность
стала выходить газета,
посвященная вопросам.
О как просто все узнали,
что в сегодняшнем апреле
облака не перестали
размножаться в бесконечность,
чтобы сохранилось это (294)456456
Здесь и далее стихотворения Андрея Егунова даются по следующему изданию: Николев Андрей (Егунов Андрей А). Собрание произведений / Под ред. Г. Морева и В. Сомсикова. Вена, 1993. (Wiener Slawistischer Almanach. Sb. 35). – с указанием страницы в круглых скобках после текста.
[Закрыть].
Но – знача ничего – они значат всё; от «метафизики» остается не тема, не «содержание», не пафос, а поэтический язык, чистые конструкции сознания и синтаксиса, в которых смысловой вакуум является зоной порождения сверхсмыслов.
Ты приоткрыл свои уста,
в них оказалась пустота (279).
Сама по себе исходная «пустяковость», дурашливая идилличность (лишь один-два раза в текст проникают упоминания о «залпах тысячи орудий» и жалобы на «соотечественников немусикийских»), форма случайной дневниковой записи, стишка на случай (иногда ничтожный), но неуместно совершенного и этого совершенства стесняющегося, – это, конечно, и защита от времени и места, способ избежать любого, дружественного или враждебного, контакта с ними. Насколько сознательная – вопрос; единственное сохранившееся (и напечатанное при жизни) прозаическое сочинение Николева – роман «По ту сторону Тулы» – это как раз описание (очень необычное по форме, модернистское и потому несколько закамуфлированное) искренней и неудачной попытки утонченного аутсайдера стать советским писателем. В дни войны Николев то ли по своему выбору, то ли силою вещей попробовал себя в роли культурного администратора на оккупированной территории – видимо, с тем же (не)успехом. Можно предположить, что какие-то социальные претензии у него все-таки были. Но хочет того автор или нет, а стихи сами выбирают форму своего существования. И эта форма такова, что не оставляет места ни для социальных реалий, ни для любования «культурой», ни для сколько-нибудь тяжеловесной метафизики, ни, наконец, для личной элегичности.
Можно очень подробно разбирать то, как стихотворение, изначально посвященное ежеутреннему посещению огорода, приходит к такому финалу:
И хлещет свет,
и смерти нет,
гуляем промежду грядок,
и мне тогда
сплошное «да»
весь этот небесный порядок (С. 286).
А можно задуматься о том, что строки «Я полюбил и раннее вставанье» (С. 282) написаны, судя по дате (1947), в лагере – и можно представить себе, что это за вставанье и ради чего. Вообще лагерными годами датируются самые безмятежные стихи Егунова.
Как много в мире есть простого
обычным утром в пол-шестого!
Бог, этот страшный Бог ночной,
стал как голубь, совсем ручной:
принимает пищу из нашей руки,
будто бывать не бывало былой тоски… (С. 277)
В приведенном выше стихотворении про огород и огуречные грядки очень важно ощущение родства с растительным (не животным даже, не природным в широком смысле) миром – которое ведет к «розановскому» (и глубоко противному духу тридцатых годов) отождествлению природного, биологического «порядка» с «небесным». В другом месте – обращение к адресату любовного стихотворения: «ты земля, и я земля» (С. 282). Земля и растение – самое пассивное, самое малое, самое невинное и невменяемое. Это – то, чему не может предъявить счета никакой социум; но оно же – в силу отсутствия у него собственного эго, истории, голоса – обладает связью с высочайшим, глобальным, божественным, которое тем больше, чем менее называемо:
Я живу близ большущей речищи,
где встречается много воды,
много, да, и я мог бы быть чище,
если б я не был я, и не ты.
О играй мне про рай – на гитаре
иль на ангелах или на мне —
понимаешь? ну вот и так дале,
как тот отблеск в далеком окне (С. 281).
Мы говорим здесь о поэтике Николева так, как сложилась она к «Елисейским радостям». В более ранней (1918–1933) «Беспредметной юности» прямо сказано о поражении (социальном и экзистенциальном) и показан механизм сведения мистерии к «разговору о пустяках» и одновременно к пасторали – которая в «Елисейских радостях» вновь становится мистерией.
3
Евгений Кропивницкий, в отличие от Егунова, не принадлежал ни к какому из «высоких» кругов классического Серебряного века. Его учителя – Арсений Альвинг и Филарет Чернов – авторы третьего ряда. Его корни – массовая дилетантская постсимволистская лирика, унаследованный им лирический язык – общий язык периферии раннего модернизма, звук – общий, воздух – общий. Что изначально не было общим? Вот ранние стихи Кропивницкого:
Печально улыбнуться:
Прощайте, господа!
Заснуть и не проснуться
Уж больше никогда.
И кануть в вечность мира,
И больше уж не быть.
А звездная квартира
Была и будет жить (С. 512)457457
Здесь и далее стихотворения Евгения Кропивницкого даются по следующему изданию: Кропивницкий Е. Л. Избранное: 736 стихотворений + другие материалы / Сост., коммент. И. Ахметьева. Предисл. Ю. Орлицкого. М.: Культурный слой, 2004, – с указанием страницы в круглых скобках после текста.
[Закрыть].
Даже без опущенного нами последнего четверостишия, где вся немудреная метафизика уж совсем разжевывается, этот текст выглядит образцом наивной поэзии – очень милой, но чуть-чуть на грани пародии («звездная квартира», через десятилетия перекликающаяся с рубцовской «звездной люстрой»). В других стихах этого периода Кропивницкий ближе к «новокрестьянским поэтам», но не к Клюеву и Есенину, а к Орешину или Ширяевцу, с их эстетизированной этнографией.
Но вот как звучит голос поэта 22 года спустя, в 1940 году:
Мне очень нравится, когда
Тепло и сыро. И когда
Лист прело пахнет. И когда
Даль в сизой дымке. И когда
Так грустно, тихо. И когда
Все словно медлит. И когда
Везде туман, везде вода (С. 50).
Перед нами утонченнейшее мастерство, причем той же линии, что и мастерство Николева – вообще это стихотворение мог бы написать он. Что же произошло? Просто взросление художника? Или, когда из этого воздуха ушло все обусловленное временем его появления, все «содержание», вся лексика – в нем обнаружились некие уникальные стихостроительные возможности?
Да, все это ушло, но что же тогда осталось? Синтаксис? Интонация? Ощущение невозможности говорения о чем-то вслух? Но о чем же? Ощущение особого пространства и за словами? Слишком обще.
Но это что-то есть, и если Николев не заполняет его ничем (то есть заполняет всем мирозданием), то Кропивницкий идет по совершенно неожиданному пути. Он вводит в стихи и делает «содержанием» самое «немусикийское», что есть вокруг, – быт советских социальных низов.
Тут важно понять, что это за низы. Это не «мужики» – это мещане. Всякий советский человек мещанин (в неуничижительном смысле): не барин же, не купец и уже не крестьянин. Но мещанство мещанству рознь. Герои Кропивницкого (и последующих лианозовцев, особенно Холина) – это даже не герои Зощенко и Олейникова, наивно тянущиеся к «культуре» и в ужасе осознающие ее репрессивную природу. Это просто люди, борющиеся за физическое существование. Это те жители барака, которых потом описывали Андрей Сергеев и Асар Эппель.
В каком-то смысле эти низовые люди были самыми свободными существами в советском социуме, потому что они никак по существу не были вовлечены в государственно-идеологическую жизнь. Их не за что было поймать в ментальном смысле. Ср., возможно, самый удачный из ранних текстов Кропивницкого (1919):
Окрест осенние болотца.
Земля родная тут.
Бредут, хромая, два уродца,
Из древности бредут.
От древней Руси, от убогой
Отстали и бредут.
Бредут далекою дорогой —
Земля родная тут (C. 516).
В финале «уродцев» расстреливают из пулемета. Но жесткость сюжета смягчается сентиментально-эстетическим любованием «древней, убогой» Русью, которое в контексте 1930–1950-х годов совершенно невозможно. Но барачный обитатель сталинских времен так же нищ и беззащитен, как «калика перехожий» и в этом смысле почти так же волен и свят.
Если уж вспоминать про Олейникова, то «барачному» миру Кропивницкого принадлежит разве что «неблагодарный пайщик»: «когда ему выдали сахар и мыло, он стал добиваться селедки с крупой»458458
Олейников Н. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. Л. Я. Гинзбург; Биогр. очерк, сост., подгот. текста, примеч. А. Н. Олейникова. СПб., 2000. С. 115.
[Закрыть]. Не из принципа, а потому, что селедка с крупой тоже нужна.
Всё нужно всем, всё нужно всем:
Калоши, брюки нужны всем;
Подвязки, юбки и носки,
Кровати, лампы нужны всем.
И чай, и сахара куски,
И керосин – всё нужно всем.
И так до гробовой доски —
Всё нужно всем, всё нужно всем (С. 140).
(Внимание: еще одна газелла, как и «Мне очень нравится…»; это вообще характерная для Кропивницкого стиховая форма.)
Но в результате эти вещи, которые не избавляются от своей функциональности, не превращаются в обэриутские фарлушки или в храмовую утварь, а, наоборот, существуют как предметы минимально необходимого каждодневного потребления, приобретают монументальную значимость именно в своей серьезной функциональности.
Граждане, располагайтесь
По-хозяйски там и тут!
Эх, хорош земной уют!
Хороши земные вещи:
Керосинки, лампы, клещи (С. 394).
Потребитель же, обыватель же обретает ту невинность, то блаженство, которым у Николева обладают растение и земля (и уподобивший им себя человек). Человек-растение – это радикальнее, чем олейниковский человек-насекомое.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































