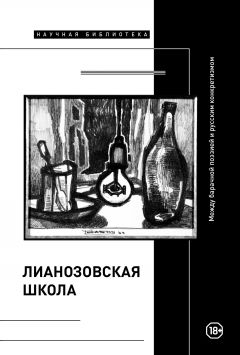
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
неужели нельзя линию тверже вести?
В. Некрасов
Искусство Оттепели, безусловно, отличается от искусства периода Перестройки, когда у неофициального круга поэтов и художников появляется возможность обрести общественный статус и выйти в публичные пространства. При этом в полемике лианозовских поэтов с художниками московского концептуального круга отчетливо проявляются две противоположные концепции искусства: анархистская и институциональная. Этика анти-искусства лианозовцев: свобода творчества, экспрессивность, самовыражение и реализм как верность материалу. Московской концептуализм исследует структуры и границы репрезентации. Взаимодействие этих двух моделей на рубеже 1960–1970-х годов – это время невероятной творческой свободы, когда полем эксперимента становятся общепринятые границы визуальных и текстовых медиа. В приложении к предмету-объекту, тексту-объекту и акционному объекту с комментарием вопрос «что это: литература или визуальное искусство?» оказывается совершенно несущественным. В 1980-е годы, когда начинается пересборка локальных художественных контекстов в логике институций, возникает проблема выбора. И если круг московского концептуализма легко осваивает языки и коды институциональной репрезентации, то лианозовцы остаются хранителями традиции свободного племени и утопии неотчужденного искусства в отчуждающем контексте уже не тоталитарной идеологии, а нарождающейся арт-индустрии. Логика отношения к своей деятельности как к производству художественного продукта неприемлема для «стоящих на своем», отстаивающих место своей свободы поэтов лианозовского круга.
Клавдия Смола
«ЛИАНОЗОВО» КАК МУЛЬТИМЕДИАЛЬНЫЙ АРТЕФАКТ
Метонимическое сообщество
Пространственная метонимия в заглавии художественной группы, журнала или даже субкультуры, конечно, не была в 1950-х годах новой в истории русской культуры. Такие топографические названия, как «Лианозово», «Обводный канал», «Малая Садовая», «Газаневщина» (дворцы культуры им. И. И. Газа и «Невский»), «Сайгон» (кафе) или еще у́же – «37» (номер квартиры), стилистически отсылают к атмосфере «интимной публичности» литературных салонов и кружков прошлых веков, демонстрируя нередко принцип уютной случайностности самоописания. В ситуации советского андеграунда это заглавие интересно тем, что отражает характер подпольного сосуществования, семиотику встреч и, что еще важнее, неразрывность творчества и жизненного мира. «Лианозово» стало одним из первых объединений неофициальной советской культуры, продемонстрировавших уникальное слияние, если не тождество, образа жизни, материального окружения и художественной активности. И это делает его особенно интересным для сегодняшней гуманитарной науки.
Действительно, ближайший вещественный, социальный и коммуникативный контекст культурной продукции все чаще изучается сегодня как фактор, определяющий семантику и поэтику ее артефактов. Так, бытовые дефициты обществ позднего коммунизма стали одним из излюбленных полей исследования для культурологов и литературоведов. В их поле зрения попадает с этой точки зрения и неофициальная культура Восточной Европы: прекарная материальность сам– и тамиздата, его непрофессиональная, плохо финансировавшаяся продукция оказывается неотъемлемым компонентом «эстетики деформации»307307
Kind-Kovács F.; Labov J. Introduction. Samizdat and Tamizdat Entangled Phenomena? // Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Transnational Media During and After Socialism. Eds. Friederike Kind-Kovács, Jessie Labov. New York, 2013. P. 9.
[Закрыть] или – в случае магнитиздата – «семантики шума»308308
Horne B. The Bards of Magnitizdat: An Aesthetic Political History of Russian Underground Recordings // Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Transnational Media During and After Socialism. Eds. Friederike Kind-Kovács, Jessie Labov, NY, 2013. P. 183.
[Закрыть]. По мере того как в последние два десятиления на первый план выходил целостный, контекстуальный и во многом объектно ориентированный взгляд на «вторую» культуру, возрастало и внимание к явлениям, уводящим от чистого производства «несоветских» артефактов к нонконформистским инфраструктурам и быту309309
Такой сдвиг стал в первую очередь результатом антропологического поворота в гуманитарных науках: быт, источники знания (информационный «климат»), коммуникация, публичные сферы и материальность ставят в центр человека как производителя культуры, процесс ее «делания» и при этом многое объясняют в самом результате – искусстве, философии и литературе.
[Закрыть].
«Лианозово» задает сразу несколько – ставших впоследствии основными – парадигм андеграунда вплоть до конца 1980-х годов. Оно использовало как дефициты, нищету и вещность своего окружения, так и прагматику своей устной «инфраструктуры» в качестве художественного метода. «Лианозово» позволяет проанализировать само явление (не всех, но многих) неофициальных сообществ как систему разделяемых кодов, общего культурного бэкграунда, похожего отношения к адресату художественного послания и совместно заселяемых физических пространств. Ограниченность сферы андеграунда имела свою сильную сторону: она способствовала как усилению и плотности обмена, так и включению коммуникативного быта в эстетику310310
См. об этом подробнее в: Smola K. Community as Device: Metonymic Art of the late Soviet Underground // Russia – Culture of (Non-)Conformity: From the Late Soviet Era to the Present / Klavdia Smola, Mark Lipovetsky (Ed.) // Special Issue of the Journal «Russian Literature». 2018. Vol. 96–98. P. 13–50.
[Закрыть]. Соседство или – в терминах поэтики – принцип пространственной метонимии (жизне-)творчества были и условием, и результатом социального и культурного герметизма, когда встречи, культурная продукция и ее рецепция совпадали во времени и пространстве311311
Хотя художники и литераторы андеграунда со второй половины 1960-х годов могли все чаще черпать знания и вдохновение из западных источников, привозимых в СССР дипломатами и учеными либо продававшихся в магазинах книг социалистических стран, многие художественные и поведенческие особенности андеграунда отсылают к базовым условиям «закрытого» существования: это фантазматичность, сращение автора и произведения или авторефлексивность в ситуации отсутствия публичности и самомифологизации. См.: Гланц T. Авторство и широко закрытые глаза параллельной культуры // Новое литературное обозрение. № 6 (100). 2009. С. 405–423; Ельшевская Г. Несколько гениев в ограниченном пространстве: к истории одного самоощущения // Новое литературное обозрение. № 6 (100). 2009. С. 424–441.
[Закрыть]. Или, когда критика артефакта публикой – невольно избранной, как правило, профессиональной и минимальной по своему составу – вливалась в процесс формо– и смыслопорождения, а последние становились зеркалом «корпоративной» авторефлексии.
Генрих Сапгир не раз отрицал существование «Лианозова» как направления или школы: «Никакой „лианозовской школы“ не было. Мы просто общались. <…> Это не была группа. Был учитель и были ученики. <…> Он учил нас жизни. <…> Это было содружество, куда приезжали все <…>»312312
Цит. по: Шраер М., Шраер-Петров Д. Генрих Сапгир – классик авангарда. 3-е изд., испр. [Б. м.]: Издательские решения, 2017. С. 70–73.
[Закрыть]. Такие высказывания, типичные для многих нонконформистов, противоречат попыткам искусствоведов выстроить парадигму аналогий в мире горизонтальных связей. Сапгир настаивал, скорее, на концепции творческой богемы, объединяющей людей в пределах социальной ниши, не (обязательно) предполагая художественное сходство. Частое отсутствие общих программ у подпольных кружков, особенно до середины 1960-х годов, подтверждает это: «Это была среда знакомых и знакомых знакомых, в которой практиковалось частное литературное сочинительство»313313
Савицкий С. Андеграунд. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 53.
[Закрыть]. Тем не менее, (тоже метонимическое) определение «барачная поэзия» – несомненный факт коллективного самоописания. Дружба, а порой и семейное родство участников «Лианозовского кружка» стало средой зарождения общей эстетики у таких разных художников и поэтов, как Ян Сатуновский, Игорь Холин, Всеволод Некрасов, Оскар Рабин, Генрих Сапгир и Евгений и Лев Кропивницкие. При этом в живописи сходств было значительно меньше, чем в поэзии. Будучи в 1950-е годы характерным примером ранней фазы искусства советского андеграунда, художники «Лианозова» с запозданием (пере-)открывали для себя табуированные, часто схожие лишь своей несоветскостью стили прошлого и в этом смысле могли быть вполне всеядны, а потому и различны: «<…> на показах картин в Лианозово зрители могли видеть <…> критический реализм, абстракцию, сюрреалистические фантазии и просто ‘безыдейную’ живопись»314314
Андреева Е. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва—Ленинград 1946–1991. М., 2012. С. 134. О гетерогенности художественных стилей «Лианозова» см. также: Hänsgen S. Am Rande der Metropole. Moskauer Kulturszenen von Lianozovo bis Apt-Art / Forschungsstelle Osteuropa (Hg.): Samizdat. Alternative Kultur in Zentral– und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre. Bremen: Ed. Temmen, 2000. S. 158–166.
[Закрыть]. Нагляднее всего это описывает Лев Кропивницкий:
Привычно предполагать, что «группа» составляет единое целое. <…> «Лианозовская группа» иная. Беспредметность и фигуративность, эмоциональность и рассудочность, резкая активность и мудрая созерцательность, абстрактность, экспрессионистичность, сюрреалистичность. Это был большой диапазон315315
Кропивницкий Л. 1956 // «Другое искусство». Москва 1956–76: К хронике художественной жизни / Сост. Л. Талочкин и И. Алпатова М.: СП «Интербук», 1991. С. 28–29.
[Закрыть].
Виктор Тупицын называет «Лианозово» «неокоммунальным» сообществом вне эстетического консенсуса («neocommunal body, but in a voluntary and noncoercive way»)316316
Tupitsyn V. Museological Unconscious: Communal (Post)modernism in Russia. Cambridge: The MIT Press, 2009. P. 35.
[Закрыть], в котором тем не менее присутствовал ряд перекличек. Популярная в советологии последних лет метафора коммуналки (и шире: коммунального сосуществования) отсылает в данном случае не столько к пространственным реалиям жизненного мира при коммунизме, то есть случайностности соседства, сколько к принципу идейной коммуны – это был в каком-то смысле поздний антоним раннесоветских домов-коммун, антипролетарское, минималистическое воплощение идеи обобществления быта. Подпольные содружества позднесоветского андеграунда, формы которых во многом предвосхитило «Лианозово», как раз и творили общий творческий быт в мировоззренчески разделяемом пространстве. Но не только. У одной из субгрупп лианозовцев география превратилась в коллективный топос (хронотоп) аутсайдерства. Пусть и открытая для посещений, но эстетически вполне замкнутая, хотя и не однородная среда порождала в этом случае артефакты, ставшие «продуктом» общего коммуникативного горизонта и взаимных влияний.
Интерсубъективность творчества в среде андеграунда была новым контекстом «литературного быта»: «<…> в одни эпохи журнал и самый редакционный быт имеют значение литературного факта, в другие такое же значение приобретают общества, кружки, салоны»317317
Эйхенбаум Б. О литературе. M.: Сов. писатель, 1987. C. 433–434.
[Закрыть]. Тыняновская «домашняя семантика» или эйхенбаумовская «литературная домашность»318318
Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 279; Эйхенбаум Б. Мой временник. Маршрут в бессмертие. M.: Аграф, 2001. С. 83–87.
[Закрыть] стали мотором семантизации соседства в ситуации несвободы, тропом смежности коммунального пространства. Как и в литературных кружках романтизма, взятых Тыняновым в качестве примера, здесь определенные приемы приобретают новое, системное значение: дружеское послание становится у лианозовцев (и не только) жанровым знаком отграничения от идеологически замусоренного «вне»; вульгаризмы оборачиваются политическим жестом, эстетическим протестом против полированного лингвистического официоза и его искаженным зеркалом; автобиографизм и бытовая исповедальность – ответом на коллективизм тавтологических культурных знаков. Наконец, насыщенная той или иной стилистической семантикой интермедиальность – многочисленные параллели между лирикой и картинами в кругах «Лианозова», «Арефьевцев», «Алефа» или «Газаневщины» – образует альтернативную форму диалогизма, исторически присвоенного и одновременно фактически аннулированного мультимедиальным Gesamtkunstwerk тоталитаризма.
В контексте позднего коммунизма (начиная с постсталинизма второй половины 1950-х) кружки неофициальной культуры интересны как «квази-институции» (по выражению Дмитрия Пригова), занимавшие промежуточную позицию между профессиональными объединениями «наверху» и салонами прошлых веков. Подпольный обмен текстами и артефактами, продукция сам– и тамиздата и, наконец, множество не– и полулегальных коммуникативных ниш были органами альтернативной публичности и ставили поэтому под вопрос «западное» деление общества на публичную и частную сферы319319
Ср. о недостаточности такого разделения в применении к советскому обществу в целом в: Voronkov V., Wielgohs I. Soviet Russia // Dissent and Opposition in Communist Eastern Europe. Origins of Civil Society and Democratic Transition / Eds. Detlef Pollack, Ian Wielgohs. Burlington, USA 2004. P. 111–114; Alber I., Stegmann N. Einleitung. Samizdat und alternative Kommunikation // Samizdat und alternative Kommunikation // Samizdat and Alternative Ways of Communication / Eds. Ina Alber and Natali Stegmann. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2016. Vol. 65, № 1. S. 6–9.
[Закрыть].
Интермедиальная семиотика (не только) бараков
Станислав Савицкий уже применял синкретический подход к искусству андеграунда, когда писал одновременно о его «возвышенном дилетантизме», приватности его литературных практик и риторики, коллективном творчестве друзей, незавершенности и жанровой гибридности произведений320320
Савицкий С. 2002. C. 89–103.
[Закрыть]. Еще раньше, в начале 1990-х годов, Георг Витте и Сабине Хэнсген (под псевдонимами Гюнтер Хирт и Саша Вондерс) проанализировали «Лианозово» и более поздние группировки андеграунда как экспериментальные содружества, основанные на взаимодействии следующих методов: устность и фрагментарность творчества; диалог между образом, текстом и голосом; приемы авторефлексии, в целом метапозиция по отношению к собственному искусству, и практики самоархивации, ставшие составляющей групповой эстетики321321
См. Hirt G., Wonders S. (Eds.). Vorwort // Lianosowo. Gedichte und Bilder aus Moskau. Mit Tonkassette und Fotosammlung. München: Edition S-Press, 1992, S. 16–23. Русский перевод этой статьи см. в настоящем издании.
[Закрыть].
Действительно, «Лианозово» можно изучать как систему внутренних интертекстуальных и интериконических указателей – от взаимных цитат и «мемуарной поэзии»322322
Шраер М., Шраер-Петров Д., 2017. С. 90.
[Закрыть] до поэтической реконструкции бесед, споров и рифмованных отзывов на делающееся hic et nunc искусство. В силу ее профессионального состава медиальный диалогизм группы был наиболее интенсивен и многообразен именно на пересечении иконических, или пикториальных знаков, с одной стороны, и вербальных – с другой. С формальной точки зрения, мы находим здесь чуть ли не все виды диалога живописи и поэзии, классифицированные теорией интермедиальности последних десятилетий: фигуративную поэзию, нео-леттризм, экфразис, включение текста в визуальный артефакт, создание мультимедиальных объектов, которые можно читать и разглядывать одновременно, и т. д. Лианозовский семиотизм выражался в особом внимании к эстетическому коду и феномену знакового переноса, что было, несомненно, зеркалом более универсальных процессов 1950–1960-х годов, а именно (пост-)структуралистского поворота в гуманитарном и художественном знании.
В целом (интер-)медиальная (интер-)семиотика интересна, конечно, прежде всего там, где эстетическое высказывание, или, по-другому, семантика формы переводится из одной знаковой системы в другую. Оге А. Ханзен-Лёве называет этот вид переноса – трансфер эстетического значения – трансфигурацией (в отличие от «транспозиции» и «проекции»): когда, например, пространственная композиция картины отображает «а-перспективное языковое мышление» примитивистского текста, художественной архаики авангарда323323
Hansen-Löve A. A. Intermedialität und Intertextualität: Probleme der Korrelation in Wort– und Bildkunst: Am Beispiel der russischen Moderne // Dialog der Texte. Hamburger Kolloquium zur Intertextualität / Hg. von W. Schmid und W.-D. Stempel. Wien, 1983. (Wiener Slawistischer Almanach. Sb. 11). S. 304.
[Закрыть]. Принципиальная – хотя по определению всегда неполная – переводимость иконических знаков в вербальные и наоборот, – как раз и была центральной чертой творческой коммуны «Лианозово». Действительно, влияние неоавангардной поэтики минимализма и конкретизма лианозовских лириков, неоднократно исследовавшейся филологами324324
О «конкретизме» поэтов «Лианозова» см.: Сухотин М. Конкрет-поэзия и стихи Всеволода Некрасова // Памяти Анны Ивановны Журавлёвой: Сб. статей. М.: Три квадрата, 2012. С. 646–647; Кулаков В. Поэзия как факт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 79–83, 157–160; Айзенберг М. Точка сопротивления // Оправданное присутствие: Сб. статей. М: Baltrus; Новое издательство, 2005. С. 19–24; Маурицио М. Маргинальная (суб)культура в творчестве А. Родионова // Имидж, диалог, эксперимент – поля современной русской поэзии / Ред. Х. Шталь и М. Рутц. Мюнхен, Берлин, Вашингтон: Verlag Otto Sagner, 2013. С. 374–375.
[Закрыть], на характер медиальных связей внутри группы до сих пор изучено мало325325
Юрий Орлицкий детально, но изолированно от живописной эстетики «Лианозова» исследует графические эксперименты Некрасова: Орлицкий Ю. Заметки о поэтике Всеволода Некрасова // Полилог. № 3. 2010. С. 72–85.
[Закрыть]. То же можно сказать и об обратном случае медиального перевода: влиянии неопримитивизма лианозовской живописи на стихи326326
Я называю здесь только одну из многих, может быть наиболее яркую эстетику в пределах кружка (неопримитивизм).
[Закрыть]. Так, статика, «одновременность» картины как вида искусства, но особенно примитивистской, по сравнению с (чаще всего линейно) разворачивающимся в процессе чтения текстом переводится в поэзии Некрасова, Сапгира и Холина в статичный же жест называния, номиналистичную симультанность предметов и (фрагментов) фраз, а часто и в плоскостную графику стихотворения, в котором нет начала, середины и конца. Во многих барачных стихах поэтов школы Евгения Кропивницкого не просто доминирует парадигма нелинейного перечисления-нагромождения, как это часто свойственно лирике как ненарративному жанру, но вообще отсутствует или сведена до минимума синтагматика синтаксиса. Эта отмечавшаяся не раз черта лианозовских текстов327327
«Плоскостную», нелинейную форму текстов Некрасова особенно наглядно показвает Михаил Павловец, сравнивая их со стихами-карточками Льва Рубинштейна, см.: Павловец М. «Листки» Всеволода Некрасова и «карточки» Льва Рубинштейна – два подхода к одному принципу организации поэтической книги // Полилог. № 3. 2010. С. 17–18.
[Закрыть] обусловливает пикториальный и нередко мифический характер текста: пробелы в значении, изначально свойственные живописи, но ставшие приемом в архаике модернизма – зритель тракует картину сам, в ней нет «объяснения» – воспроизводится в поэтическом минимализме с помощью а-грамматизма, пустот и повторов и приводит порой к ситуации чистой, как бы а-семантичной смежности знаков328328
Похожие выводы о поэтике Некрасова см. в докладе Владимира Библера, который щедро цитирует рассуждения самого поэта о визуальном характере своих стихов. Говоря о пустотах, повторах и вариативности лирики Некрасова, Библер добавляет: «В этой поэтике единство пространства подчеркнуто не ритмом, не рифмой, но самим расположением строк и слов» (Библер В. Поэтика Всеволода Некрасова // Библер В. Замыслы. Кн. 2 М.: РГГУ, 2002. С. 992).
[Закрыть]:

2 Некрасов В. «квартал…» // Некрасов В. Стихи из журнала. М.: Прометей, 1989. С. 7.
Более подробное сравнение этой тексто-поэтики со стилистикой лианозовской живописи, воспринявшей с конца 1950-х традиции западного абстрактного экспрессионизма и сюрреализма и во многом противопоставлявшей себя не только социалистическому, но реализму вообще, потребовало бы как филологической, так и искусствоведческой экспертизы.
Как известно, личность Рабина была предметом вдохновения для многих поэтов, составлявших круг «Лианозово» или просто посещавших его. Александр Арефьев ценил Рабина больше как интегральную фигуру художественного подполья, нежели как художника; говоря о его влиянии на окружение, он даже пишет о «цепной реакции»329329
Газаневщина. СПб., 2004. С. 95.
[Закрыть]. Этот – опять-таки метонимический, коммуникативный – троп интересно проследить на примере одного интермедиального эпизода.
Визуальную природу многих барачных стихов можно заметить в любопытных случаях версификации цвета и линий/форм Рабина. Поэты переводили картины Рабина в текст не только на уровне темы, то есть реальности московских окраин, но и формально, воспроизводя с помощью синтаксически незавершенных стиховых структур фрагментарную эстетику рабиновских изображений с их а-перспективной предметностью. И наоборот, плоскостная изолированность раннеконцептуальных символических объектов Рабина – обрывков газеты, остатков еды, удостоверений, формирующих первый план, – были иконическим эквивалентом сапгировских и некрасовских анти-синтагм, «культяпок» строк, обрывков фраз. Если «маркером» исторического авангарда было овеществление фактуры слова и буквы через их визуальную изоляцию, их «осамовление», например, на рисунке артбука, то лианозовцы – поставангардисты и прото-соцартисты – соединяли этот прием с изоляцией слова или текста как реди-мейда – на полотне и бумаге. Конечно, таким же образом отражались друг в друге антиэстетика рабиновских пейзажей и низкая, бытовая лексика барачной поэзии.
Если сравнить четыре стихотворения, посвященных Рабину, особенно явственна становится интерсубъективность, порождавшая союз языковой и визуальной поэтики330330
Прием посвящения был, как известно, одним из излюбленных текстуальных маркеров лианозовской дружбы, но далеко не всегда становился проводником индивидуальной интермедиальной поэтики. Так, Холин посвящает Илье Кабакову, Рабину, Эрнсту Неизвестному, Е. Кропивницкому и другим ряд очень похожих, если не аналогичных стихотворений: это, скорее, сигналы чистой метонимии дружбы и единомыслия, сигнатура нонконформистской поруки (ср. «Другое искусство». 1991. С. 268–269).
[Закрыть]. Это «Рабин: бараки, сараи, казармы…» Сатуновского, «Художник-сюрреалист» Владимира Нестеровского, «Детство» Сапгира и его же «Париж» (оба – из книги «Сонеты-89»). Все тексты прямо «называют» знакомство или дружбу авторов с Рабиным, упоминая последнего или в паратексте (у Нестеровского и в «Париже» Сапгира в посвящении «О. Рабину» / «Оскару Рабину») или в самом стихотворении: у Сатуновского три раза («Рабин: бараки, сараи, казармы / <…> / Рабин: распивочно и на вынос. / Рабин: Лондон – Москва»)331331
Сатуновский Я. Рабин: бараки, сараи, казармы… // Сатуновский Я. Стихи и проза к стихам / Сост., подг. текста и комм. И. Ахметьева. М.: Виртуальная галерея, 2012. С. 135.
[Закрыть], в «Детстве» Сапгира один раз («Мы шли и шарили глазами подростки – я и Оскар»)332332
Сапгир Г. Детство // Сапгир Г. Складень. М.: Время, 2008. С. 259.
[Закрыть]. В тексте Сатуновского биографическая аллюзия дополнительно зашифрована в последней строке «Рабин: Лондон – Москва». Это стихотворение, датированное 1963 годом, отсылает к факту знакомства Рабина с владельцем лондонской живописной галереи Эриком Эсториком в первой половине 1960-х и к планам выставки его картин в Лондоне, которая и состоится в 1964 году. Так как к тому времени выставка была только в проекте, эта строка могла быть не больше чем эхом разговоров в кругу Рабина, то есть результатом «приватного» знания; на «приватность» указывает и посвящение «Оскару». Маркером общего коммуникативного пространства является также (хотя и не так очевидно) мимикрия официозного поношения в адрес художника в стихотворении Нестеровского: «Он рисует – злодей! – / Полусгнивший труп, / <…> // Надо, гада, давно / Посадить в тюрьму!»333333
Нестеровский В. Художник-сюрреалист // Газаневщина. СПб., 2004. С. 95.
[Закрыть]. Однако эти горизонтальные «смычки» – вплоть до фамильярности поругания – лишь трамплин для создания диалогической поэтики на границе между живописью и словом. Так, у Сатуновского и Нестеровского экфразис картин Рабина становится знаком медиального присутствия «барачной культуры» в тексте, а принцип ut pictura poiesis явлен в заимствовании мимесиса советского быта не из самой реальности, а с полотна:
Рабин: бараки, сараи, казармы.
Два цвета времени:
Серый
и желто-фонарный.
Воздух
железным занавесом
бьет по глазам; по мозгам.
Спутница жизни – селедка.
Зараза – примус
<…>334334
Сатуновский Я. 2012. С. 135.
[Закрыть]
Он рисует – злодей! —
Полусгнивший труп,
Натюрморт из грудей
И салат из губ.
Он художник-садист,
Он чертей созвал,
У натуры, как лист,
Ногу оторвал.
Посмотри, как орет
Девица-краса:
Что-то лезет ей в рот,
В каше волоса.
<…>335335
Нестеровский В. 2004. С. 95.
[Закрыть]
Оба поэта пересоздают образы Рабина изнутри круга единомышленников, каждый со своей, но неизменно родственной Рабину антиэстетикой, причем Нестеровский – с точки зрения советского художественного канона и газетной риторики (так сказать, озвучивание рабиновской газеты «(Не)правды»). Сатуновский же передает позицию зрителя картины, оглушенного увиденным: «Воздух <…> бьет по глазам; по мозгам». Более всего именно здесь фрагментарные образы Рабина отражаются в а-синтагмах строк, (почти) отказывающихся от синтаксиса, а «Зараза – примус» становятся «знаком <советского> низа», используя выражение Бахтина. Именительный падеж – бараки, селедка, примус – передает намеренно упрощенный номинализм барачной школы. Строчка «Два цвета времени:» – это метаиконический прием (здесь: простой индексикальный указатель на цветовую гамму картины перед глазами) и вместе с тем интерпретация: лаконичная заметка о значении (цвета) Рабина для эпохи советской империи знаков.
Если стихотворение Сатуновского – программа, признание в «единомыслии инакомыслия» и перформативный знак принадлежности, то у Нестеровского все совсем по-другому. На картины Рабина в его рифмованной сатире смотрит полуобразованная масса, возмущающаяся уродством: «Посмотри, как орет / Девица-краса». Пятисложник (здесь чередующийся с анапестом) использовался в русской поэзии с XVIII века для стилизации народных песен, например, у Алексея Кольцова или Алексея К. Толстого. Этот фольклорный метр передает у Нестеровского глас народа советского извода, проклятие в адрес «злодея» от декадентского искусства, то есть имитирует травлю нонконформиста. Автор обращается к метрической памяти читателя, как бы цитируя известные пятисложные строки «Косаря» Алексея Кольцова «Раззудись, плечо! / Размахнись, рука!». Фольклор присутствует также в эпитете «Девица-краса» и в суеверном «Он чертей созвал» (намек на демонизацию инакомыслящих, или здесь: инакотворящих). В этой версификационной «историографии» видится горькая ирония преемственности, выливающаяся в народный приговор:
Нестеровский не принадлежал к узкому кругу «Лианозова», он был не столько другом, сколько наблюдателем, поэтому, вероятно, и перспектива, которую он воссоздает, более отдаленная, включающая публичное пространство восприятия. С другой стороны, мимикрия советской травли на «других» советского режима – распространенный прием остранения и во внутренней системе отсылок «Лианозова», особенно у Сатуновского.
В «Детстве» Сапгира, напротив, демонстрируется интимное «мы»: персонажи «Оскар и я» находятся в абсурдном мире как бы фотографических снимков и обрывков фраз советского городского быта:
Топография дружбы с Рабиным, на первый взгляд, вполне миметична – это Москва, «на углу Садово-Самотечной и Котельнической». Но этот мимесис лукав: Садовая-Самотечная улица и Котельническая набережная в Москве не пересекаются. Массимо Маурицио пишет о «вливании» в сапгировскую Москву «множества реальностей в одно общее измерение и смывании точной границы между сном и явью, бредом и рациональным восприятием окружающего мира»338338
Маурицио М. Московский (под)текст в поэзии Генриха Сапгира: к постановке вопроса // Полилог. № 2. 2009. С. 72.
[Закрыть]. Кажущаяся топографическая синтагма Москвы оборачивается парадигмой перечисления сходного; топонимы взаимозаменяемы, они встречаются или соседствуют не в реальности города, но в ряду обозначающих текста: клочков дискурсов. Узнаваемость, мемуарность, «домашность» (по Эйхенбауму), таким образом, обманчивы: строка «Мы шли и шарили глазами подростки – я и Оскар» окружена реди-мейдами, клише услышанных фраз. Эта любимая особенно Сапгиром, Некрасовым и Холиным и неоднократно анализировавшаяся339339
Кулаков В. 1999. С. 304–305; Махонинова, А. Документальное творчество Сапгира // Полилог. № 2. 2009. С. 171–172.
[Закрыть] техника заемной полифонии, с которой первый экспериментирует, например, в цикле «Голоса», нагружена здесь интермедиальной семантикой. Остраненное – так как данное вне контекста, в качестве артефакта – украденное слово сливается с иконическими знаками Рабина. Помещенные рядом с «Совинформбюро» и «после длительного сопротивления» слова «водка» и «черняшка» отсылают не к реальности, но к известным полуколлажным рабиновским объектам – бутылке водки, яичной скорлупе, скелету рыбы и черному хлебу на сером снегу. Идеологизмы же «Совинформбюро» и «после длительного сопротивления» – словесные эквиваленты советского паспорта и газеты: изолированные, полностью лишенные реализма фетиши (классические примеры – картины «Композиция с газетой» или «Натюрморт с рыбой и газетой „Правда“»). Сапгир переносит визуальную семиотику Рабина в текст, лишая разделяемую с другом карту Москвы ожидаемой мемуарной причинности, пространственности и перспективы. Точно так же строка «Мы стояли в снегу перед чернеющей часовней» – цитата-экфразис рабиновского черного на (серо-)белом340340
Помимо серого цвета, который стал одной из ведущих иконических метафор барачной школы, символом социального низа, контраст черного и белого также часто встречается в ее стихах, но передает менее программную и контекстуально более подвижную семантику. Интересно одно высказывание Некрасова: «<…> шестидесятые – благословенные, окаянные, какие угодно – это и есть первым делом Лианозово – чернуха оно, или не знаю – лебединый стан <…> Благословенная чернуха. Аминь» (Некрасов В. Лианозовская чернуха // Другое искусство. 1991. С. 259). В этой авторефлексии черно-белое передает диалектику времени и всего андеграундного (со-)существования. Непрямолинейно смыкается с этим начало стихотворения Некрасова «Свет свет / Темнота», тоже посвященного Рабину, или строка «На ночь – / Молоко с луной» из стихотворения «Утром у нас» (таких примеров немало).
[Закрыть].
Раннеконцептуалистская стилистика текстуальных, квази-центонных – и напрямую включающих текст, буквы, слова – картин Рабина находит в «Детстве» соответствие в таком же дискурсивном, «дюшановском» слове Сапгира. Любопытно, что заем готового вначале был у Рабина, как свидетельствует Лев Кропивницкий, буквальным: «Прежде Рабин практиковал наклеивание готовых этикеток на написанные им бутылки, но потом отказался от этого. Их заменили нарисованные, скопированные почти буквально»341341
Кропивницкий Л. 1958 // Другое искусство. 1991. С. 48.
[Закрыть]. Анализируя коллажность «Лианозова», Алена Махонинова говорит о «речевых объектах», об «абсолютном овеществлении» слова у Сапгира: «<…> сами слова и высказывания постепенно становятся конкретными объектами. Как если бы Сапгир их вырезал из чужого потока речи, склеивал в абсолютно другом порядке»342342
Махонинова А. Документальное творчество Генриха Сапгира // Полилог. № 2. 2009. С. 172.
[Закрыть]. Неслучайно мысль о зарождении московского концептуализма в бараках Лианозова варьируется во многих работах343343
См.: Janecek G. The Roots and Development of Russian Conceptualist Poetry: From Vs. Nekrasov to L. Rubinstein // New Zealand Slavonic Journal Vol. 45, No. 1 (2011), pp. 1–22 (ср. также новую монографию Янечека: Janecek G. Everything Has Already Been Written (Studies in Russian Literature and Theory). Evanston, IL, 2018); Tupitsyn V. Museological Unconscious: Communal (Post)modernism in Russia. Cambridge 2009, p. 37; Hirt G., Wonders S. (Eds.). Vorwort // Lianosowo. Gedichte und Bilder aus Moskau. Mit Tonkassette und Fotosammlung. München, 1992. S. 15.
[Закрыть]. Так, Владислав Кулаков не раз писал о постмодернизме и соц-арте «Лианозова», в том числе и так: «Это, конечно, не значит, что соц-арт Пригова или картотека Рубинштейна – только повторение пройденного; <…> но не надо им приписывать то, что сделано другими, у них собственных заслуг достаточно»344344
Кулаков В. 1999. С. 41.
[Закрыть]. О присутствии в сознании лианозовцев тех или иных художественных парадигм времени говорят порой и воспоминания друзей: Михаил Рогинский рассказывает, как на выставке в «Клубе любителей живописи» 1964 года услышал от Сапгира впервые, «что то, что я делаю, – русский поп-арт»345345
Рогинский М. 1965 // Другое искусство. 1991. С. 128.
[Закрыть].
«Детство» – только один из примеров синтетического неоавангарда и одновременно протоконцептуализма барачной поэзии. Заимствуя из авангарда начала XX века технику коллажа, визуальности и обособленности буквы/слова/строки, а также описанной выше одновременности текста-картины, или картины-текста, поэты и художники «Лианозово» вовсе не авангардны в ином: как отмечал Владислав Кулаков, они демонстрируют «регистрационное, невмешательское» отношение к «речевой форме»346346
Кулаков В. 1999. С. 169.
[Закрыть] и таким образом исследуют не сам заимствованный материал, но его контекст.
В своем позднем стихотворении «Париж», посвященном Рабину, Сапгир как будто в память о «Лианозове» претворяет в слово антиэстетику уже парижских пейзажей художника:
«Париж» – диалогическое эхо барачного синкретизма, отдающееся в новой геополитической обстановке и в другом биографическом контексте, уже вне живых «синтаксических» связей дружеского сообщества: «блестящая дешевка / «Макдоналдс» вылез как из-за кулис / <…> Париж мочою пахнет».
Заключение
Проанализированные здесь примеры – лишь отрывок из многоуровневой системы перекличек в текстах и картинах «Лианозова» активного периода его существования, с середины 1950-х до середины 1970-х годов. Этот еще мало изученный, развивавшийся во времени Gesamtkunstwerk – сеть миметических ссылок (предметы, места, лица), цитат, общих сменявших друг друга претекстов и стилистик. Резервуар индивидуально-коллективных приемов, задававших, но и воспринимавших на протяжении двадцати лет рождение новых нонконформистских эстетик. И отражавших в конечном счете динамику советского андеграунда в течение его первых двух десятилетий.
Именно поэтому вряд ли можно говорить о единстве внутреннего диалогизма «Лианозова», скорее – именно о серии диалогов, так как в круг входили и в нем сообщались, как было сказано, очень разные по манере авторы-(пост)модернисты. Так, к Рабину Сапгир, Холин, Сатуновский и Некрасов были более всего близки постольку, поскольку разделяли с ним экзистенциалистский, проникнутый абсурдом и фрагментарностью взгляд на мир. Но при этом, в отличие от более позднего соц-арта, и частым присутствием рядом с реди-мейдами авторского, лирического голоса-взгляда. В качестве лианозовского диалогического единства проще всего изучать постмодернистское барачное братство – эту программную вывеску группы, легенду раннего, но смотрящего в концептуальное будущее художественного подполья, – но в его пределах были и совсем другие контакты и события на пересечении живописи и поэзии и шире – иконизма и символизма знаков. Достаточно вчитаться в стихотворение Некрасова «Красный-ах-что-платок»348348
Некрасов Вс. Лианозово. М.: Век ХХ и мир, 1999. С. 14.
[Закрыть], посвященное Лидии Мастерковой, или в его же «Тихо»349349
Lianosowo. Gedichte und Bilder aus Moskau. Mit Tonkassette und Fotosammlung. München, 1992. S. 168.
[Закрыть], посвященное Владимиру Немухину, или «Колина луна»350350
Некрасов Вс. 1999. С. 8.
[Закрыть], посвященное Николаю Вечтомову, чтобы увидеть другие, еще/уже совсем не барачные нити лианозовского интермедиального полотна. И здесь более всего – именно художественную ностальгию, ретроутопию формы: «регрессивное» движение к классическому авангарду – кубизму, экспрессионизму или, как в случае ссылок на Вечтомова, сюрреализму351351
Сборник «Лианозово» (см. прим. 1 выше) – своего рода пост-рефлексия Некрасовым группы как коллективного артефакта (и многого другого, сложившегося в искусстве последующих десятилетий). Некрасов представляет в начале книги исключительно плотный «каталог» интермедиальных и интертекстуальных приемов в своих стихах: свидетельств былого перформативного общения.
[Закрыть].
Повторюсь, «Лианозово» было одним из первых «контекстуальных сообществ» советского андеграунда. Его жизненный мир и коммуникативные практики стали средой для рождения новой «домашней семантики», ставшей, тем не менее, универсальным художественным явлением.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































