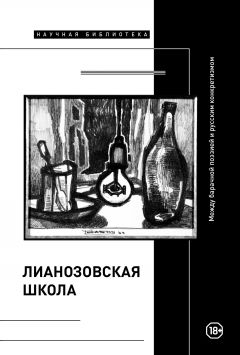
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Данила Давыдов
«ЛИАНОЗОВО» И ПРИМИТИВИЗМ
При попытке описать эстетическую специфику творчества «лианозовцев» обращение к понятию «примитивизм» кажется неизбежным. Однако эта неизбежность при анализе текстов, авторских стратегий, даже форм репрезентации «Лианозова» в социокультурном пространстве проблематизируется.
С одной стороны, «Лианозово» во многом конструируется как эстетическая целостность извне собственно лианозовского круга и во многом позже собственно того периода, когда можно было говорить о сколь-нибудь целостном сообществе. Сам групповой характер «Лианозовской группы» периодически дезавуировался ее основными представителями – начиная с известной объяснительной записки Е. Л. Кропивницкого («Лианозовская группа состоит из моей жены Оли, моей дочки Вали, моего сына Льва, внучки Кати, внука Саши и моего зятя Оскара Рабина»178178
Цит. по: Кулаков В. Поэзия как факт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 11.
[Закрыть]), которую нельзя считать исключительно примером безупречно-издевательского ответа на официозный обвинительный дискурс, но следует, думается, воспринимать во многом всерьез, – и заканчивая рядом позднейших реплик Генриха Сапгира, Всеволода Некрасова и др., например:
Ни Мытнинская, ни Долгопрудненская группа не известны, или во всяком случае у нас идет речь о Лианозовской. Так ведь? А она была тогда и не группа, не манифест, а дело житейское, конкретное. Хоть и объединяла авторов в конечном счете чем-то сходных. Но прекратилась естественно и, в общем, безболезненно с переменой конкретных обстоятельств: мест проживания179179
Некрасов Вс. Лианозово. 1958–1998. М.: Век ХХ и мир, 1999. С. 39.
[Закрыть].
И если исторически представление о «лианозовцах» как группе сложилось уже окончательно и вряд ли может быть пересмотрено, то общность их эстетики ощущается скорее интуитивно, нежели на уровне четких дефиниций (отсюда неизбежные попытки многих последующих интерпретаторов дробить лианозовский круг по тем или иным параметрам, включая даже и оценочные характеристики значимости того или иного автора). «Лианозово» предстает тем самым витгенштейновским групповым портретом рода, в котором обнаруживаются «семейные сходства», однако общность черт не может быть распространена ни на одного из членов семьи.
С другой стороны, и сам термин «примитивизм» понимается совершенно по-разному. Будучи в литературоведении до самого последнего времени маргинальным, этот термин так или иначе обыкновенно интерпретируется по аналогии с его определением в искусствоведении, философии культуры, антропологии, лингвистике. Самым важным, по нашему мнению, при разговоре о примитивизме оказывается его неразрывная, хотя и не всегда эксплицированная, связь с примитивом, трактуемым как творчество-артефакт, принципиально внеположенный профессиональной среде и, следовательно, правилам поведения в ней.
Однако при следующем уровне анализа примитив оказывается существующим лишь постольку, поскольку существует профессиональное поле:
В артистическом поле, достигшем высокой ступени эволюции, нет места для тех, кто не знает истории поля и всего, к чему она привела, начиная с определенного, совершенно парадоксального отношения к историческому наследию. «Наивные» художники, названные так из-за их неосведомленности в логике игры, на самом деле создаются и «освящаются» в качестве «наивных» самим полем180180
Бурдье П. Поле литературы // Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2005. С. 410.
[Закрыть].
В этом смысле примитивизм оказывается своего рода инструментом поля, который легитимирует присутствие в нем не только «наивных» авторов, но и принципов «наивной» поэтики, реальных или воображаемых. Примитивизм предстает своего рода «сверхстилем», а потому может соотноситься с самым широким спектром эстетических практик – от максимально актуальных, определяющих «дух эпохи», до относительно маргинальных. Являясь инструментом легитимации примитива в профессиональном поле, примитивизм оказывается в то же время полностью зависящим от примитива как от механизма «непроизвольного порождения» стилевых стратегий; можно сказать, что до примитивизма примитив как таковой существовал исключительно в качестве артефакта, вступая лишь в случайные культурные связи181181
Приведем пример такой случайности: «Допустим, что член какого-либо коллектива создал нечто индивидуальное. Если это устное, созданное этим индивидуумом произведение оказывается по той или другой причине неприемлемым для коллектива, если прочие члены коллектива его не усваивают – оно осуждено на гибель. Его может спасти только случайная запись собирателя, когда он переносит его из сферы устного творчества в сферу письменной литературы <…> непризнание и неприятие современников может ограничиться отдельными чертами, формальными особенностями, единичными мотивами. В таких случаях среда на свой лад перелицовывает произведение, а все отвергнутое средой просто не существует как фольклорный факт, оно оказывается вне употребления и отмирает» (Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 370–371). Впрочем, и письменное, но приватное, не подразумевающее читательской рецепции, также в большей части случаев утрачивается.
[Закрыть], примитивизм же, будучи вторичен по отношению к примитиву, создал контекст его восприятия. Возможно, и понимание примитива и примитивизма как феноменов «близнечных», рождающихся одновременно, так как один без другого не может существовать, – не обязательно в области реальной художественной практики, но безусловно в области общих эстетических представлений; впрочем, это уже связано с проблемой выделения примитива как самостоятельного феномена и далеко от нашей темы.
Понимаемый таким образом (а мы настаиваем именно на таком понимании), примитивизм описывается уже иной философской метафорой: не «семейным сходством», а «ощупыванием слона» из известной притчи про слепцов, каждый из которых, ощупав ту или иную часть тела слона, сделал далеко идущие – и при этом совершенно нерелевантные выводы о том, что слон собой представляет. Желая найти черты примитивизма, который может проявлять себя на самых различных уровнях, в поэтике группы, свою эстетическую общность никогда не облекавшей в манифест, мы не можем не столкнуться с почти непреодолимыми трудностями. Исследователи обыкновенно избегают, даже используя понятие «примитивизм», применять его к «лианозовцам» в целом, ограничиваясь отдельными (и вполне определенными) авторами. Проще всего было бы пройтись по именам как «основных» «лианозовцев», так и авторов их круга, указывая на степень соотношения того или иного автора с примитивизмом (как это обычно и делается в обзорных работах, затрагивающих интересующих нас авторов). Мы не выбираем легких путей и попытаемся посмотреть на отдельные части слона по очереди, надеясь (возможно – тщетно) в конечном счете собрать животное целиком. Поэтому нам придется отказаться от логически последовательного следования от уровня к уровню «лианозовского» метатекста, как по идее следовало бы. Одни пункты нашего анализа могут не противостоять даже другим, а просто принадлежать к совершенно иной системе координат. Это, конечно же, методологически чудовищно, но ничего иного мы придумать не можем.
Самым очевидным – и самым, пожалуй, исследованным оказывается собственно план содержательный, тот самый материал, который дал второе название «Лианозовской школе» – школа «барачной поэзии»; здесь, понятное дело, контаминируются каламбурная отсылка к барокко и реалии подмосковных барачных поселков с присущим им бытом. Заложенное в такой игре столкновение высокого с низким получает, по общему мнению, наиболее явственную реализацию в поэзии и изобразительных работах Евгения Кропивницкого. «Барачная» эстетика также обыкновенно приписывается Игорю Холину, Генриху Сапгиру первых его книг. Из лианозовских художников с этой же эстетикой явственно соотносятся работы Оскара Рабина и Валентины Кропивницкой, но не других художников этого круга182182
Чтобы не возвращаться к данному аспекту, сразу же отметим: творчество большей части художников-«лианозовцев» с примитивизмом (который в искусствоведении вполне общепризнан и связан с множеством вполне конкретных черт, многократно описанных) практически никак не пересекается. Работы Николая Вечтомова, Лидии Мастерковой, Владимира Немухина и даже очень особняком стоящего Льва Кропивницкого можно соотнести скорее с постэкспрессионизмом разной степени абстрактности.
[Закрыть].
Поэтика Евгения Кропивницкого в ее классической форме формируется в конце 1930-х годов:
Е. Кропивницкий открывает для своей поэзии новый мир – современность, взятую в ее повседневном, бытовом ракурсе. И этот ракурс оказывается совершенно органичным для поэта, для его манеры «печально улыбаться». Затаенная ирония выходит на первый план, мощно актуализируется совершенно новой образностью183183
Кулаков В. 1999. С. 15.
[Закрыть].
Ранние стихи Кропивницкого уже содержат тот посыл, который затем сформирует поэтику Кропивницкого, однако носят характер более абстрактный:
Мне будни серые страшны,
Сдирание с живого шкуры,
И человечьи авантюры,
Мне будни серые страшны,
Что мракобесом свершены.
Я на сие гляжу понуро…
Мне будни серые страшны,
Страшны с живых сдиранье шкуры
В иных случаях они соотносятся скорее с «персонажной» поэзией (см. ниже).
Поэтика Кропивницкого «основного» периода творчества (вторая половина 1930-х – 1970-е годы) постоянно интерпретируется именно как примитивистская185185
См., напр.: Васильев И. А. Русский поэтический авангард ХХ века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. С. 184; Орлицкий Ю. Б. Стратегия выживания литературы: Евгений Кропивницкий // Кропивницкий Е. 2004, С. 12.; Кулаков В. 1999. С. 17 и др. Полностью данной теме посвящена содержательная диссертация (Бурков О. А. Поэзия Евгения Кропивницкого: примитивизм и классическая традиция: Дисс. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2012), с подавляющим большинством положений которой мы вполне солидарны.
[Закрыть]. Тематический ряд неразрывно связан со стилистическим; так, постоянное обращение Кропивницкого к твердым формам (триолет, секстина, сонет) деавтоматизирует их с помощью тематического наполнения низовым материалом. «Вторжение быта и иронии способствует своего рода стилевому снижению, «одомашниванию» традиционных высоких форм, их семантической деформации»186186
Орлицкий Ю. Б. 2004. С. 9.
[Закрыть]; исследователь отмечает «намеренное смешение высокого и низкого, бытового и философского»187187
Там же.
[Закрыть] как одну из доминант поэтики Кропивницкого. Смешение высокого и низкого происходит не только в отношении «взлома» возвышенного поэтического статуса твердых форм, но и в целом на уровне столкновения речевых пластов, подчас выступающих как остраняющий прием: «Без коварства. Без затей / Кормят матери детей. / Ах как много у грудей / Присосалося детей // Дети нежутся, сосут. / О, младенчества сосуд! / Цвет их кожи нежно бел, / Чуть коснешься – покраснел…» («Младенчество», 1948; С. 305); «Покойника приятно видеть – / Он отстрадал, и вот он прах – / Ему не надо ненавидеть / И чувствовать тоску и страх. // Не надо уж ему бороться, / Испытывать земную боль. / Он никогда не улыбнется / На остроумья злую соль» («Покойник», 1978; С. 423); «Вот и январь, опять январь / И новый год опять. / И граждане опять, как встарь, / Почли его встречать. // Коньяк, портвейн, мадера, ром – / Опять, опять как встарь. / Да, новый год – январь притом, – / Как встарь – опять январь…» («Новый год», 1953; С. 360). Мы сознательно взяли примеры (которые можно множить и множить), не вполне или совсем не совпадающие с собственно «барачной» лирикой Кропивницкого, вроде хрестоматийного «У забора проститутка, / Девка белобрысая. / В доме 9 – ели утку / И капусту кислую. // Засыпала на постели / Пара новобрачная. / В 112 артели / Жизнь была невзрачная. // Шел трамвай. Киоск косился. // Болт торчал подвешенный. / Самолет, гудя, носился / В небе, словно бешеный» (1944; С. 131). Именно здесь в наибольшей степени проявляется то свойство, которое делает поэтику Кропивницкого шире «барачной», позволяя соотнестись с совершенно иными регистрами примитивизма.
Ю. Б. Орлицкий отмечает, анализируя один из текстов поэта:
С точки зрения литконсультанта советской газеты, стихотворение это – в самом прямом смысле графомания. Но, похоже, Е. Кропивницкий ничуть не боялся этого ярлыка, напротив, словно бы постоянно провоцировал своего вероятного критика на его приклеивание к собственной литературной репутации188188
Орлицкий Ю. «Для выражения чувства…»: Стихи Е. Л. Кропивницкого // Новое литературное обозрение. № 5. 1993. С. 188.
[Закрыть].
Действительно, для Кропивницкого архаическая лексика, «неуклюжие словечки», будто бы просто заполняющие метрические пустоты, да и собственно набор метрических ореолов, очевидным образом восходящих к символизму и даже к «малым» поэтам досимволистской эпохи (например, к Константину Фофанову), наконец, нескрываемая сентиментальная интонация – все это вполне сознательный набор художественных средств, применимых ко всякому материалу (в том числе «барачному»). Но суть примитивизма Кропивницкого именно в ориентации на «стертые» поэтические линии, которые даже в годы его ранних публикаций в разного рода второстепенных дореволюционных изданиях могли восприниматься на фоне разного рода постсимволистских течений как незамысловатая архаика. Однако остраняющая, сознательная работа Кропивницкого с этим рядом позволяет его видеть внутри вполне значимой, хотя обыкновенно и забываемой постсимволистской поэтической линии, а именно «сатириконовской» – именно в ней остраненно-ироническое и сентиментальное начала находят максимально яркое выражение (здесь же мы обнаружим и параллели с ролевой лирикой).
«Сатириконовцев» обыкновенно не соотносят с примитивистской поэтикой – хотя бы потому, что наиболее известен среди этой группы авторов Саша Черный, в самом деле не вполне имеющий отношение к данному вопросу: и ирония, и снижение высокого – вполне для него характерные черты, но нет деформации формы, тех подчернутых, сознательных «неправильностей», что кажутся необходимым признаком примитивизма. Но такие авторы, как Петр Потемкин или Валентин Горянский, в примитивистском контексте прочитываемы без всякой натяжки.
С другой стороны, для Евгения Кропивницкого важной предстает фигура поэта Филарета Чернова (1877–1940), полностью встроенного в парадигму «стертой» традиции позднего постромантизма, отчасти пропущенного через декадентские фильтры189189
А с другой стороны, явственно демонстрирующего девиантную поведенческую модель, характеризующую в массовой культурной мифологии «подлинного», «стихийного» поэта.
[Закрыть]: «…Кто слыша крик новорожденных / Не содрогается душой / За них, невинно обреченных / Принять великий плен земной?» (1916; С. 253)190190
Цит. здесь и далее по публикации: Чернов Ф. Из сборника «В темном круге» // Новое литературное обозрение. № 5. 1993. С. 252–255) с указанием страниц в скобках. См. также отдельное издание: Чернов Ф. В темном круге. Рудня; Смоленск: Мнемозина, 2011.
[Закрыть]; «…Ты ушел от меня в бесконечность, / Ты забыл, ты оставил меня. / Не зажжет эта страшная вечность / Путеводного в сердце огня» (1920; там же); «…Я чувственно смотрел, я чувственно алкал, / Я слушал чувственно, не утончая слуха, / Я грубо чувствовал, я грубо постигал, / В твою земную плоть не проникая духом» (1926; С. 234). Кропивницкий в своем мемуаре о Чернове подчеркивает «силу», «подлинность» и т. д. этого поэта; характеристика поэтики Чернова дается из констатации его субъективно-лирической установки: «Сущность его поэзии заключается в глубине его „Я“. Объективность им воспринимается как нечто синтетическое, и на долю его анализа падает его „Я“. В анализе своего „Я“ Чернов неистощим – он в этом своем „Я“ усматривает все новые и новые грани и оттенки»191191
Кропивницкий Е. 2004. С. 595.
[Закрыть]. Бессознательность попадания Чернова в некий «стиховой поток» также вполне осознается и подчеркивается Кропивницким: «Филарет Чернов редко кому подражал, он боялся подражания, но часто, почти независимо от себя, он как бы имитировал настроения и звучанья таких поэтов, которых любил и которыми увлекался»192192
Кропивницкий Е. 2004. С. 596.
[Закрыть] (чуть выше Кропивницкий приводит список авторов, таким образом «отражаемых» у Чернова: Блок, Есенин, Клюев, Фет, Тютчев, Лермонтов и «даже» Надсон). Парадоксальность фигуры Чернова в ее не вполне ясном статусе: никак не сознательный примитивист, но и не примитив (пусть во многом самоучка, но все же – человек культуры), Чернов мог бы быть назван оценочно «эпигоном», но мы воздержимся от такого определения. Перед нами скорее представитель своего рода «вневременной», не соответствующей господствующей эстетической парадигме культуры, сохраняющей (пускай и в «стертом» виде) некоторые ценности «поэтического возвышенного». Для Кропивницкого, возможно, именно это (помимо очевидного человеческого влияния) было поводом считать Чернова значительной фигурой, делавшей в некоем «поточном» варианте то же, что Кропивницкий делал осознанно и отрефлексированно.
Нельзя не отметить у самого Кропивницкого и акцентирование тех черт символистской поэтики, которые можно интерпретировать в контексте примитивизма (при этом должны учитываться преимущественно Блок и Сологуб, как раз относившиеся к наиболее важным для Кропивницкого авторам). Уже отмечалось:
Взыскуя простоты, Блок апеллировал к детскому и первобытному. Ребенок или дикарь – это традиционные культурно-антропологические персонификации вожделенного рая наивности, к которому стремится вернуться обремененный грузом культуры европеец. Смещение субъектной перспективы литературного слова к подобным персонификациям и ведет к наивной поэтике193193
Абашев В. В. Блок и «наивное письмо» // Славянские чтения. Вып. III. Даугавпилс; Резекне, 2003. С. 135
[Закрыть], —
именно эти черты (пусть и второстепенные) символистской поэтики (а не, скажем, теургические или демонические) Кропивницкий учитывал в качестве ориентира.
Обыкновенно принято говорить о том, что схожий материал Евгений Кропивницкий рассматривает доброжелательно, в то время как другой важнейший для «барачной лирики» автор, Игорь Холин, подходит к нему с максимальной, ледяной нейтральностью:
Видно, что «барачный» Холин целиком вышел из Кропивницкого. Но даже в процитированном выше194194
Процитировано стихотворение Кропивницкого «Полночь. Шумно. Тротуар…» (1938).
[Закрыть] стихотворении Е. Кропивницкого, отличающемся особой синтаксической лапидарностью, все равно, конечно, ощущается характерная мягкая интонация – «печально улыбнуться». Холин же совершенно непроницаем. Он не улыбается, не иронизирует. Он информирует, «доводит до сведения»195195
Кулаков В. Указ. соч. С. 18–19.
[Закрыть].
Эта трактовка может быть, с нашей точки зрения, дополнена и отчасти скорректирована таким соображением: Кропивницкий остраняет материал, делая «низкий» быт неожиданно поэтическим (и, одновременно «высокие» поэтические формы приземляя до бытового уровня); сама остраняющая ирония позволяет увидеть комизм, а за ним и сентиментальность обыденности. Холина же можно соотнести с так называемой «поэтикой неостранения»:
Если остранение показывает обыденное как незнакомое, заново, то неостранение – это отказ признать, что незнакомое или новое необыкновенно, причём сам этот отказ признать необыкновенность часто приобретает вопиющие формы и уж, во всяком случае, никогда не бывает эстетически нейтрален196196
Меерсон О. «Свободная вещь»: Поэтика неостранения у Андрея Платонова. 2-е изд., испр. Новосибирск: Наука, 2001. С. 8.
[Закрыть].
Обыденность не просто в ее сниженности, но в извлечении самой квинтэссенции ужаса обыденной «барачной» жизни предстает притом у Холина само собой разумеющейся. Примитивистскому методу неостранение даже в большей степени соответствует, нежели остранение. Законным образом здесь присутствует и деформация «нормативного» высказывания, не могущая не восприниматься как проблематизирующая ситуацию случайное vs. намеренное (по сути дела, воспроизводящей на одном из возможных уровней оппозицию примитив vs. наив): именно Холин из всех «лианозовцев» (помимо не вполне «лианозовца» Эдуарда Лимонова, о котором речь впереди) в наибольшей степени воспринимается как максимально «сращенный» со своим материалом.
В этом смысле вызывает интерес дискуссия, развернувшаяся вокруг фигуры Холина между двумя яркими молодыми аналитиками левых взглядов. По мысли Алексея Конакова,
Интерпретация стихов И. Холина в качестве конгломерата желающих машин, расположенных на всенародном теле без органов, может быть полезной, если вспомнить о важном различии: у французских авторов таким телом был капитал, в то время как у Холина им является реальный социализм. Известно, что изданный в 1972 году «Анти-Эдип» был расценен общественностью как поспешно подхваченное знамя парижской революции 1968-го, как ее теоретическая апология и присяга на верность ее идеалам. Это воистину радостная и романтическая книга, дерзко мечтающая о совершенно новом способе счастливого человеческого общежития вне капитализма. Но ведь ровно о том же самом пишет в своих стихах Холин. Что же мы видим: машинные метафоры оборачиваются изматывающим трудом, свободное производство желания – перманентной похотью, социалистический коллективизм – грязью и ужасом барачного существования, а перекодирование потоков происходит преимущественно в пивной.
И далее:
Ассоциации роботизированных людей в холинских стихах способны производить лишь ссоры, драки, скандалы, преступления и похоть. Но не выявляет ли такая позиция довольно правое мировоззрение поэта?197197
Конаков А. Песня о Холине // Colta.ru. 2014. 17 июня. https://www.colta.ru/articles/literature/3576-pesnya-o-holine. В более поздней работе исследователь кардинально пересматривает отношение к холинскому субъекту: «Подробное, скрупулезное, тщательное описание бараков позволяет Холину проанализировать материальные предпосылки своего собственного письма и осознать свою собственную антропологическую ситуацию. Ее следствия парадоксальны: всеми порицаемый, многократно обруганный, никогда не любимый барак оборачивается вдруг пространством свободы, уникальным местом, в котором только и способна развиваться человеческая жизнь, практически не ощущающая чудовищного давления „авторитетного дискурса“» (Конаков А. Игорь Холин: Твердая кость «авторитетного дискурса» // Вторая вненаходимая: Очерки неофициальной литературы СССР. СПб.: ТрансЛит, 2017. С. 24), существенно приближаясь к позиции Г. Рымбу (и, соответственно, нашей).
[Закрыть].
В ответе на эту статью Галина Рымбу подчеркивает:
Любой поэтический текст можно прочитать политически. Позиция же самого Холина по отношению к жителям барака объясняется не отстраненной критикой мрачного и смутного единого пролетарского тела, а тем, что он-то как раз полностью отождествляет себя с этим телом. Холин в его устранении «авторского я», которое позже проявится в пародийно-нарциссической игре, сам становится телом абортированной пролетарки, распластанной посреди барака, становится и дерьмом, в котором она лежит. Обратная сторона этой тотальной иронии и жестокого объективизма – это ужас, горечь по отношению к угнетенному народу, угнетенному в результате «великой революции» пролетарию, распиханному по баракам и все же существующему в своей ужасной витальности198198
Рымбу Г. Вспомнить Холина // Colta.ru. 2014. 3 июля. https://www.colta.ru/articles/literature/3753-vspomnit-holina.
[Закрыть].
Действительно, сближение авторского «я» и «я» персонажного у Холина максимально: несмотря на гротескность и афористический «черный юмор» многих холинских текстов, они не становятся отделенными от субъекта высказывания в его слиянном единстве (затекстовый автор / внутиритекстовый автор / персонаж): «Отдалась начальнику, / Теперь такая мода. / Нельзя допустить / Появленье приплода. / Аборт не удался, / Не попала куда следует спица. / Мать предложила задушить, / Когда народится» (С. 46)199199
Здесь и далее поэтические тексты Игоря Холина цитируются по: Холин И. Избранное. М.: Новое литературное обозрение, 1999, – с указанием страницы в круглых скобках.
[Закрыть]; «Работал слесарем на заводе МОСШТАМП / Ремонтировал штамп. / Кто-то по ошибке / Включил рубильник… / Раздавило, как муху. / Остался один напильник» (С. 34); «Обозвала его заразой. / И он, как зверь, за эту фразу / Подбил ей сразу оба глаза. / Она простила, но не сразу» (С. 23).
Но и здесь опознание примитивистского метода оказывается вовсе не обязательно связанным с «барачной» тематикой. Холин ровно таким же способом напрямую соотносит персонажей и лирического субъекта в цикле «Комическое», который, вроде бы, должен восприниматься исключительно пародийно, как своего рода деконструкция модных в ту эпоху мотивов: «Неудача / Иванов / Получил на Луне / Дачу / Лается / На чем свет / Куда только смотрит / Московский совет / Это не ракета / А кляча / В понедельник / Попала / В магнитное поле / В среду / Увязла в космической пыли / В субботу / Опоздал на работу» (С. 72). Наконец, в цикле «Мой дом» неостранение невыносимого бытия достигает максимума, хотя, вроде бы, вовсе изымается из какого-либо явного тематического ряда200200
За исключением разве что очевидно не предусмотренных автором антиутопических ассоциаций.
[Закрыть]: «Несчастный / Мне тебя жалко / Тебя погладили по головке / Как ты допустил это / А главное / Как я мог / Пожалеть тебя» (С. 138); «Мама / Кто произнес это слово / Я / Вы с ума сошли / Вы забыли / Что в нашем обществе / Это слово / Находится / Под величайшим запретом» (там же), – возникающий в последнем тексте диалог выводит нас на уже косвенно затронутую проблему субъектности.
Однако прежде нужно отметить собственно стилистическое качество холинского текста, максимально мимикрирующего под «непрофессионализм», но уже даже не графомана (как у Кропивницкого), а просто анти-(или а-)поэтического актора, не осознающего собственно поэтической функции языка. На внешнем уровне это выражается в бедности словаря, метрической выхолощенности (до чистого акцентного или говорного стиха), тавтологичности рифм, ее необязательности и т. д. Этот «бедный язык», конечно, стоит воспринимать как самостоятельный элемент создания «антипоэтической» поэтики. На более глубинном уровне такой тип письма нередко прочитывается как единственно возможная форма «бедной» речи в «бедном мире»; впрочем, А. Конаков подчеркивает вполне «позитивную» речевую установку Холина:
Выразительные средства поэзии Холиным не изгонялись, но скорее перераспределялись: метонимии отдавалось предпочтение перед метафорой, сдержанной инструментовке – перед густой аллитерацией и проч. Установка же на отказ от романтических излишеств, на скромность и простоту вообще была магистральным трендом советской послевоенной поэзии в диапазоне от Б. Пастернака до М. Исаковского. Холин, однако, сумел четко понять таящуюся здесь опасность: постепенное и повсеместное сползание этой простоты в песенность – модус, как правило, резко ограничивающий свободу авторского высказывания и подменяющий его рядом стандартных схем. Собственно, знаменитую отрывочность, фрагментарность, лаконичность холинских стихов, их ритмические перебои и шероховатости <…> можно трактовать именно в качестве перманентной профилактики такого неосознанного «сползания»201201
Конаков А. 2014.
[Закрыть].
С этим трудно не согласиться; однако работа (с необходимыми поправками) Холина в русле текущей советской поэзии может быть «вчитана» сейчас, но вряд ли в момент собственно писания текстов. Представление о Холине как об одном из авторов в ряду иных, кто стремился к «простоте» письма, вступает в явное противоречие с разницей контекстов, в которых существовали, с одной стороны (при всем их различии) Пастернак или Исаковский, а с другой – Холин и другие «лианозовцы». Здесь, пожалуй, скорее была бы возможна аналогия между поэзией «лианозовцев» и Бориса Слуцкого (особенно если мы обратимся к его неопубликованным в советское время, т. е. в прямом смысле слова неподцензурным текстам), вообще очень важная (чего стоят хотя бы многократно отмеченные переклички Слуцкого и Яна Сатуновского202202
См., напр.: Гринберг М. Вычитывая Слуцкого // Крещатик. 2008. № 3. https://magazines.gorky.media/kreschatik/2008/3/vychityvaya-sluczkogo.html; Гринберг М. «Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево»: Поэтика Бориса Слуцкого / Пер. с англ. А. Глебовской. Бостон: Academic Studies Press; СПб.: БиблиоРоссика, 2020.
[Закрыть]). Однако Слуцкий, при всей своей ориентации на официальную литературную ситуацию, прозаизировал, «приводил к простоте» свои тексты, ориентируясь на левоавангардистские установки своей ранней молодости; таким образом, он никак не совпадал с отмеченной Конаковым послевоенной тенденцией в официальной советской поэзии (гораздо более ограниченной, нежели полагает исследователь), но не был близок и «лианозовским» ориентирам в авангардной традиции.
Субъект поэтической речи в примитивизме по определению не может быть одномерен, хотя именно одномерность автор-примитивист и старается, как правило, продемонстрировать. Чем более это удачно получается, тем в большей степени мы можем говорить о сложности субъектной организации текста. Соответственно лирический субъект, маска, персонаж – этими уровнями не исчерпываются возможности примитивистской игры в приближение к и удаление от «я» говорящего. Как мы видим, возможны и диалогические «расщепления» внутри текста, совершенно не обязательно указывающие на характер диалога (внутренний или внешний).
Разнообразная работа с тонкими оттенками субъектности характерна для Генриха Сапгира. Собственно, к «барачной поэзии» Сапгир имеет отношение скорее биографическое, нежели концептуальное: в ее рамках возможно рассматривать только поэму «Бабья деревня» (1958) и некоторые стихотворения из книги «Голоса» (1958–1962); в дальнейшем Сапгир обращается к этому пласту эпизодически, часто аллюзивно или автоцитатно. Значимость Сапгира для «барачной» традиции во многом обусловлена неоднократно отмеченной силой воздействия заглавного стихотворения книги, в котором возникает доведенная до предела «голая» жизнь; характерно, однако, что уже здесь принцип построения текста диалогический, реплики реагирующих на ситуацию свидетелей даны максимально безоценочно и лишь финальная строфа (с четырехкратным повторением строки «Что он – кричит или молчит?») переводит текст на метауровень. Таким образом, даже в этом образцовом стихотворении, построенном на отображении «голой жизни» максимально примитивистскими средствами (несколько варьирующиеся повторы, создающие, впрочем, пространство определенного смыслового различения, выраженного вроде бы тавтологическими средствами), материал сталкивается с эстетической рефлексией, располагающейся на нескольких уровнях.
Принципиальный диалогизм Сапгира, впрочем, не стоит сводить к бахтинскому понятию; он предстает лишь формой (и не самой частотной у Сапгира) разного рода трансформаций субъекта говорения, границы которого каждый раз устанавливаются заново, но, во всяком случае, как правило оказываются формами репрезентации имплицитного автора.
При этом одной из распространенных субъектных трансформационных форм у Сапгира оказывается роль «наивного» произносителя / наблюдателя / действователя. Одной из форм такого рода «наивного» субъекта предстает ребенок. «Детское» вообще может считаться явлением смежным с «наивным», «примитивным»203203
Обзор литературы на эту тему неисчерпаем. Сошлемся лишь на собственную работу: Давыдов Д. Дети-поэты и детское в поэзии: нонсенс, парадокс, реальность // Арион. Журнал поэзии. 2002. № 3. С. 103–107.
[Закрыть], о чем следует вести совершенно иной разговор. К тому ж в случае «лианозовцев», которые почти все так или иначе публиковались со стихами для детей, эта проблема обретает дополнительное измерение. Во всяком случае, вопрос грани между «детским» и «взрослым», кажется, осознавался разными авторами-«лианозовцами» по-разному. Так, Всеволод Некрасов в последней прижизненной книге «Детский случай» (2008), по сути дела концептуирует неразрывность «детского» и «взрослого»; в то же время для Сапгира – наиболее признанного автора для детей среди всех «лианозовцев» – «детское» творчество являлось не вполне «настоящим»: «Помню, поэт Борис Слуцкий говорил мне: „Вы бы, Генрих, что-нибудь историческое написали. Во всем, что вы пишете, чувствуется личность. А личность-то и не годится“. Он и для детей мне посоветовал писать, просто отвел за руку в издательство»204204
Андеграунд вчера и сегодня // Знамя. 1998. № 6. С. 189.
[Закрыть].
Возвращаясь к сапгировскому «взрослому» творчеству, отметим: «Ребенок» у Сапгира скорее входит в ролевую зону субъектности, нежели представляет собой полноценную форму субъекта (как это бывает у некоторых куда более последовательных примитивистов – от Ксении Некрасовой до Олега Григорьева). Это не всегда сознается. Так, Д. П. Шраер-Петров и М. Д. Шраер называют среди доминант сапгировского творчества «примитивизм, синтез наивно детских и взрослых перспектив, остранение за счет создания детской точки зрения»205205
Шраер М. Д., Шраер-Петров Д. П. Генрих Сапгир: Классик авангарда. [1-е изд.]. СПб.: Изд-во Дмитрия Буланина, 2004. С. 46.
[Закрыть]. Называя при этом в качестве примера книгу Сапгира «Дети в саду» (1983), исследователи не учитывают именно смещенности позиций внутри текста, где «детская» субъектность – лишь одна из возможных: так, в известном стихотворении «Дурочка» ребенок и внешние по отношению к нему акторы уравнены и, более того, грань между ними не вполне возможно провести:
смотр не дыша
на ленивый ша
нета плывет
скаливаясь ра
– вот ака! Вот!
ба отобра
«мы ведь ей добра»
окость-жест в крови
тельность прояви
и целостную картину формирует лишь раздробленный на различные «голоса» имплицитный автор.
И, следовательно, в этом контексте ребенок в качестве квазисубъекта ничем не отличается от прочих (поэтому речь о «детскости» «взрослых» стихов Сапгира – тем более в примитивистском ракурсе – можно вести лишь метафорически). Недаром ставшая манифестарной книга «Голоса» (и по сей день многими расценивающаяся как максимально «лианозовская» у Сапгира207207
См., напр.: «Скажу сразу: для меня Сапгир – Сапгир 1959 года, т. е. „Радиобреда“, „Обезьяны“, „Икара“ и всей подборки № 1 „Синтаксиса“. Сапгир максимальный и, как никто тогда, доказательный. Время было такое – такого потом уже не было. И Сапгир был герой именно этого времени. В поэзии. Точнее – в стихе. Что и было важно» (Некрасов В. Сапгир // Великий Генрих. М.: РГГУ, 2003. С. 233).
[Закрыть]) насыщена множеством мгновенно меняющихся позиций квазисубъектов и даже безликих акторов. Сам Сапгир говорил о настигшем его тогда «прозрении формы»: «Я вдруг услышал современность, со всех сторон услышал, в разговорах на улице»208208
Сапгир Г. Взгляд в упор [интервью] // Кулаков Вл. 1999. С. 326.
[Закрыть], однако сводить эту поэтику к своего рода «диалогическому гиперреализму было бы опрометчиво». Осколки потенциальных «я» со своим одномерным («наивным») мнением складываются здесь в своеобразный транссубъектный орнамент, при котором собственно индивидуальность акторов не важна, а важен сам процесс перехода фокусировки от одного актора к другому, поэтому перед нами не полифония «равноправных» голосов, а создание весьма рафинированных композиций, состоящих из квантов наивного говорения. Предельным случаем здесь оказывается цитируемый самим автором в разговоре с Вл. Кулаковым текст «Разговоры на улице», но это общий принцип: «…Наклонился конвоир, / Офицер, / Санитар. / …еще живет. / …нести / Разрывается живот, / Вывалились внутренности. / Сознания распалась связь… / Комар заплакал, жалуясь / Вьется и на лоб садится, / Не смахнуть его с лица…» («Смерть дезертира»; С. 26); «Заскрежетали стульями, / аплодисменты, звон бокалов… / Ударили в колокола! / Бегут с кольями.. / – Вышибай колом из рам / Этот срам! / в окна, в двери / Экскурсовод вопит: „Горю!..“ / – Реализм, хрю, хрю… / – Растерзали экскаваторы…» («Муж и жена»; С. 48).
Гетероморфность, характерная для ряда книг Сапгира, сама по себе может выступать индикатором примитивистской поэтики постольку, поскольку акцентируется именно как «неправильная» поэтическая речь. В случае Сапгира этот стиховой прием может быть рассмотрен и в таком ракурсе, но в этом случае надо учитывать целую традицию гротескных поэтических нарративов безусловно примитивистского толка, построенных на гетероморфности стиха, начиная, как минимум, с ряда текстов Петра Потемкина и книги Алексея Крученых «Говорящее кино» (1928)209209
Подробнее см. нашу работу: Давыдов Д. «Говорящее кино» Алексея Крученых и «Голоса» Генриха Сапгира: сопоставительные заметки // Вестник Университета Российской академии образования. № 1 (27). 2005. С. 115–122.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































