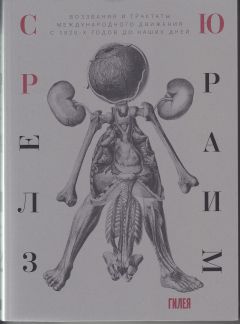
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ: в настоящее время это и есть жизнь человека, чей гений не в состоянии спасти его родину, человека, к которому все повернутся спиной, чью жизнь безнаказанно разрушат и кого лишат последнего слова и способа выражения, которого самым возмутительным образом повергают в отчаяние на потребу грязной обывательнице, полной ненависти, и во имя самого вопиющего лицемерия, которое только можно вообразить. Собачья жизнь. Когда на карту поставлен брак, священный союз, для закона гений – ничто. Собственно, для закона гений всегда ничто. Но отметая любопытство толпы, нечистоплотные козни адвокатов и всё это постыдное выставление напоказ личной жизни, которое только само тускнеет в собственном жутком свете, нынешние злоключения Шарло выявляют его истинный удел – удел гения. Лучше всех произведений они метят жизненные роли и ценность жизни. Внезапно становится понятным смысл того таинственного авторитета, которым несравненная сила выражения наделяет вдруг человека. Сразу понимаешь, какое место в мире на самом деле занимает гений. Он полностью захватывает человека, превращая его в понятный всем символ и добычу для рыщущих во мраке скотов. Гений призван указать миру моральную истину, которую вселенская глупость пытается заслонить и уничтожить. А значит спасибо тому, кто на гигантском экране, там, на западе – на горизонте, где одно за другим закатываются солнца, – заставляет ожить тени великих реалий человечества – реалий, быть может, неповторимых, высоко нравственных, тех, что дороже всего на земле. Сама эта земля уходит у вас из‑под ног. Спасибо за все ваши жертвы. Мы преклоняемся перед вами в благодарности и заявляем о готовности беззаветно вам служить.
Максим Александр, Луи Арагон, Арп, Жак Барон, Жак-Андре Буаффар, Андре Бретон, Жан Каррив, Робер Деснос, Марсель Дюамель, Поль Элюар, Макс Эрнст, Жан Жанбах, Камиль Гуманс, Поль Хореман, Юджин Джолас, Мишель Лейрис, Жорж Лембур, Жорж Малкин, Андре Массон, Макс Мориз, Пьер Навиль, Марсель Нолль, Поль Нуже, Эллиот Пол, Бенжамен Пере, Жак Превер, Реймон Кено, Ман Рэй, Жорж Садуль, Ив Танги, Ролан Тюаль, Пьер Юник
Пятидесятилетие истерии (1878–1928)
Мы, сюрреалисты, настаиваем на необходимости отметить пятидесятилетие истерии, величайшего поэтического открытия XIX века, что в особенности актуально сегодня, когда факт раздробленности самого понятия истерии ни у кого, кажется, не вызывает сомнений. Нам бесконечно дороги молодые истерички, идеальный пример которых предлагает нам анамнез восхитительной X. L. (Огюстины), поступившей в Сальпетриер1 под наблюдение доктора Шарко 21 октября 1875 года в возрасте 15 с половиной лет – а потому нас совершенно не занимают вымученные отрицания реальности органических расстройств, изничтожая которые, медики рассчитывают покончить с истерией как таковой. Подобные попытки вызывают лишь сожаление. Г-н Бабинский2, самый блестящий из умов, когда‑либо обращавшихся к данной проблеме, осмеливался утверждать в 1913 году: «Когда искреннее, глубинное переживание сотрясает душу человека, места для истерии не остаётся». И это ещё не самый прискорбный факт. Помнит ли Фрейд, стольким обязанный Шарко, о временах, когда, по дошедшим до нас свидетельствам, интерны Сальпетриер, путая свой профессиональный долг с любовными позывами, с наступлением ночи приглашали больных к себе или разделяли с ними ложе в их палатах? Затем для нужд медицинской профессии, правоту которой здесь поддержать просто нельзя, они терпеливо описывали якобы (sic) патологические страстные позы, которые были им (и остаются нам, чисто по‑человечески) столь ценны. Полвека спустя жива ли ещё школа Нанси3? Помнит ли обо всём этом доктор Люи4, если ещё не умер? Куда подевались наблюдения Нери5 за землетрясением в Мессине? Где те зуавы, которых «торпедировал» этот Реймон Руссель от науки – Кловис Венсан6?
После множества определений истерии, сменявших друг друга вплоть до наших дней – в античности её считали божественной, в Средние века адской, от «луденских одержимых» до флагеллантов церкви Богоматери Слёз (да здравствует г-жа Шантелув!), определений мистических, эротических или попросту лирических, определений социальных и научных, – как легко бросить в ответ: «Истерия – болезнь сложная, принимающая разные формы и определению не поддающаяся» (Бернхейм). Те, кто видел прекрасный фильм «Ведьмы»7, наверняка помнят почерпнутые на экране – или в зале – сведения куда живее, нежели те, что они узнали из книг Гиппократа, Платона8, у которого матка скачет по организму подобно прыткой козочке, Галена9, у которого коза уже успокоилась, и Фернеля10, в XVI веке вновь пустившего её вскачь – он чувствовал, как у него под рукой матка поднимается к желудку; у них рога этого Зверя росли, росли, пока не превратились в дьявольские. Потом уже улизнул сам дьявол, и его наследие расползлось по позитивистским теориям. Кризис вокруг истерии раздут до таких размеров, что заслоняет саму истерию с её бесподобной аурой, с её четырьмя периодами – от третьего захватывает дух, точно от самых выразительных и невинных живых картин, вплоть до его такого естественного разрешения в нормальной жизни. К 1906 году классический образ истерии становится неузнаваемым: «Истерия – патологическое состояние, проявляющееся в виде расстройств, которые у некоторых пациентов можно с поразительной точностью воспроизвести посредством внушения и которые способны исчезать исключительно под влиянием убеждения (контрсуггестии)» (Бабинский).
Мы видим в этом определении лишь один из преходящих этапов становления истерии. Породившее его диалектическое движение идёт дальше своим чередом. Десять лет спустя истерия пытается избавиться от прискорбной личины питиатизма11 и вернуть себе свои права. Врач удивлён. Он пытается отрицать то, что ему более неподвластно.
Итак, в 1928 году мы предлагаем новое определение истерии:
Истерия – это более или менее непоправимое психическое состояние, характеризуемое разложением связей между субъектом и моральным миром, от которого, по его мнению, он практически зависит, и существующее вне какого‑либо систематического бреда. В основе этого психического состояния лежит потребность во взаимном обольщении, объясняющая чудесные случаи исцеления, поспешно списываемые медиками на внушение (или контрсуггестию). Истерия – не патологическое явление и может со всех точек зрения расцениваться как высшее средство самовыражения.
Луи Арагон, Андре Бретон
1930‑е
Белград, 23 декабря 1930 года
Целый мир – против целого мира.
Мир бесконечной диалектики и динамической конкретизации – против мира кладбищенской метафизики и статичной, окаменевшей абстракции. Мир освобождения человека и несокрушимости духа – против мира принуждения, унижения, морального и иного оскопления. Мир неудержимого бескорыстия – против мира обладания, покоя и конформизма, жалкого личного счастья, заурядного эгоизма и всех мыслимых компромиссов.
Такое непримиримое противостояние двух плоскостей существования человека вынуждает каждого из нас, невзирая ни на что, без скидок и без пощады, занять нравственную позицию. Речь идёт не просто о факте, а об определяющем факторе.
Этот конфликт – не абстрактное внутреннее противопоставление существования сиюминутного и вневременного, не дилемма или антиномия из разряда чисто теоретических спекуляций: в таком случае он сводился бы к попыткам избежать предметных и жёстких столкновений, оставляя всё без изменений, требуя от человека лишь смирения и принятия пресловутых вечных границ его природы. Мы же не готовы согласиться априори с такими пределами: их ничем не оправданное установление – один из способов подавления тех, кому ещё не дано раз и навсегда испробовать всё, что доступно человеку. И точно так же мы отвергаем возможность смирения человека перед лицом переворота, успешного или провалившегося, его капитуляции, до или после произошедшего. Те, кто на всё это соглашается, просто обманывают сами себя, плутая на окраинах рушащегося мира, или же для них стала окончательно немыслимой любая непокорность, они ослеплены всем тем пессимизмом, что охватывает человека, любой ценой стремящегося жить целостно – или не жить вообще. Мы ни на мгновение не можем разделить это неразрывное единство человека сиюминутного и вечного.
В этом смысле проблема человека и его жизни в обществе состоит для нас не в антитезе человека в общем и социума как такового – подобные абстракции не для нас, – а в противоположении некоего человека, человека современного, и определённого общества, сегодняшнего. Тем самым упомянутый конфликт раскрывается для нас в конкретном столкновении, в точно известных обстоятельствах – и игнорировать это осознание мы не можем. Проблема укореняется в сфере некоторых существенных событий: именно там она выражается в настоящее время самым определённым и решительным образом, именно там она, вне всякого сомнения, разрешается сейчас и будет однажды решена окончательно. Её разрешение неотвратимо ведёт к экстремальному выбору – к изменению самих условий, вызвавших её появление. Если, вместе с тем, при более глубинном анализе этот конфликт может показаться нам неистощимым, объяснение тому следует искать лишь в неохватности и неделимости человека, общего знаменателя Вселенной.
И мы не считаем, что описанное противостояние разворачивается в какой‑то узкой – будь то даже экономической – области, оставляя нетронутыми и непогрешимыми так называемые трансцендентность и независимость духа и мысли по отношению к социуму. Мы не верим в существование неподвижных или изолированных систем, как не приемлем мы и возможность автономного функционирования конкретных способностей человека – хотя и полагаем необходимым методологический детерминизм в специфических областях его деятельности, единственно позволяющий избежать путаницы, ибо смена и смещение центра тяжести и точки опоры были бы безнравственными и непростительными. Где бы и когда бы то ни было, если речь идёт об истинном преображении и подлинном действии человека, для нас он должен отдаваться ему целиком и полностью, поскольку единственный моральный критерий реальных достижений человека – это тотальная трансформация всего комплекса взаимоотношений в мире.
Такое нравственное мерило, которое мы в особенности выделяем для себя и которое продолжаем считать в высшей степени определяющим, не зависит от какого‑то раз и навсегда зафиксированного разграничения добра и зла, но обусловливается процессом диалектического становления и формированием человека, подрывающим в своём развитии заведённый порядок вещей. Исходя из основополагающих, инстинктивных и по определению необоримых потребностей личности, этот моральный принцип стремится – и неотвратимо влечёт нас за собой в этом устремлении, со всё крепнущим осознанием целостности и неделимости окружающей сложной и противоречивой реальности, – к абсолюту предельной (но предел этот неизменно обновляется) идеи свободы. Усвойте раз и навсегда: ответ мы готовы держать лишь перед таким революционным моральным детерминизмом.
Общий смысл различных аспектов, форм и перспектив нашей деятельности, как и единство наших личных характеристик, не вписываются в рамки какой‑либо заранее продуманной и статичной теоретической системы или предопределённой искусственной гармонии, призванной обобщить и примирить всё на свете. Это единое значение, однородность и согласованность наше действие обретает исключительно в своём диалектическом развитии, подчиняющем его революционному процессу морального детерминизма. А потому, задавая в этой декларации нравственную позицию сюрреализма в настоящий момент и в данных обстоятельствах, мы подчёркиваем внешнее отличие и внутреннее единение всех наших действий и манифестаций – рассмотренные по отдельности и статично, они, возможно, не всегда раскрываются в своей истинной и целостной логической прогрессии. Сюрреализм представляет собой активное и деятельное сопоставление, очевидную координацию некоторых методов и учений, нарушающих сложившееся представление о мире, а также личных примеров отрицания существующего мироустройства и частного стремления к тотальному и бесповоротному самовыражению. Такое согласование не имеет ничего общего с требованием подгонки характеристик или с поиском формулы, разжёванной для всех и каждого: речь идёт о драматическом опосредовании и, в этом диалектическом «взаимопроникновении» противоположностей (Durchdringung der Gegensätze1), в подобной дедукции всех возможных последствий, – об изведении, безапелляционном и окончательном уничтожении огнём всего того, что не встраивается в механизм конкретного и вселенского становления.
Мы неотрывно прикованы к несгибаемым рычагам этого механизма (возможно, те рычаги – мы сами или даже все люди на планете), затянуты в грозную и своенравную моральную машинерию становления, с каждым мгновением всё яснее осознающую свой динамический момент, – и каждой клеточкой нашей плоти обязаны неустанно отвечать на её таинственные и судьбоносные указания, которые не прощают и не отпускают.
Все потенциальные формы нашего самовыражения, наших наваждений из этого и других миров, низвергающиеся в стальную пасть диалектики: от неукротимой пульсации бунта до неотвратной тяги к таинственно мерцающему слепому пятну ментальной сетчатки, где, растворяясь во вневременном, в конечном итоге сотрутся (и где уже исчезают сейчас) все противоречия, – являют собой лишь разные воплощения этой потребности ответить.
Скрежет зубовный, отвращение и длинные белые перчатки. Испытывать тошноту и отрицать – человечество, трагически обманутое, стреноженное падшей, предлагающей себя на каждом углу мыслью и ангельским лицемерием формул-шор («царство моё не от мира сего», её одной достаточно, чтобы заклеймить гнусность приторговывающих духом), тянет за собой карнавальную повозку-катафалк, а вокруг неё ливрейные марионетки и учёные таксы припрыгивают под звуки баюкающей музыки, призванной оглушить и отупить нас, чтобы мы не разглядели в этом натужно триумфальном пёстром кортеже похороны эпохи, давно умершей и мумифицированной, отлакированной зияющей пустотой человеческих жизней – но всё время держать перед глазами постоянство чуда и полноту самореализации. Числить своими предтечами маркиза де Сада, Гегеля и Лотреамона, не забывая про Вапу, Вайферта и Вельмар-Янковича2. Пребывать в постоянной одержимости логикой свободы, исступления и бесконечности, но помнить: «курить запрещено», «наружу не высовываться», «стойте справа», «не входить». Отстаивать демонстративный скандал, провокацию, разложение нравов и требовать от каждого слова и каждого поступка самой базовой и неуклонной серьёзности и честности. Отлупить Р. Драинаца3 и бодрствовать в самом сердце сна, жить реальностью грёзы. Отринуть всю эту мерзкую и прекрасную изящную словесность и писать стихи. Не находить в себе сил вырваться из неподражаемой тьмы Тотальной Проблемы и юмора, этого юмора, выкованного на наковальне пессимизма. Жить непоправимым отчаянием и горькой надеждой на социальную предопределённость. Всё это. Всё это. И остальное тоже.
Человеку давно пора присвоить себе права, а не просить о них. На пути к конкретизации личности – идеальному синтезу нашей тотальной неуступчивости – становится понятно: сталкиваясь со всем, что может помешать или воспрепятствовать этому становлению, наш бунт должен неизбежно стать неотложным, яростным и разрушительным действием. Сколь бы абсолютной и недостижимой ни казалась эта ограниченная цель – а раскрывается она лишь на пути к ней, неизменно обновляясь в самом этом продвижении, – столь же неотвратимо наше стремление к ней приобретает всё более ясный, точный и накалённый характер нутряного протеста против того, что систематически отвращает человека от его глубинной, грозной и подлинной моральной сути. И всё это в конечном итоге ставит нас перед необходимостью полного переустройства мира, участие в котором мы считаем сегодня нашим единственным призванием. На этом пути, ведущем человечество либо к кристаллизации его предназначения, либо к погибели, мы готовы повиноваться тем единственно действенным указаниям, что диктуются заданными и материальными условиями такого переворота и исключают всякую случайность, моральную неустойчивость и подмену интеллектуальных приоритетов.
Исходя из самых базовых требований личности, вдохновляясь бешеным и беспощадным дуновением свободы и инстинктов человека, лежащим у истоков всякого бунта, мы понимаем, вместе с тем, что всякое абстрактное – то есть индивидуальное – решение сегодня просто немыслимо, поскольку для нас истинный бунт никогда не останавливается на уровне своего сиюминутного выражения, где он неизбежно вырождается в безобидный, не угрожающий никому и ничему рефлекс. Подчиняясь своей внутренней диалектике, бунт должен, углубляясь в свою природу, отыскать свои корни и своё конкретное, точечное выражение, каковое состоит не только в отрицании всего сложившегося в мире комплекса отношений, но и в уничтожении самих условий, его в действительности спровоцировавших, и в его непосредственных причинах, не обязательно заметных. Такое углубление заставит его вписаться в сеть предельно масштабных отрицаний – куда более действенную, – и работать в плоскости диалектического материализма над созданием системы преобразования реальных условий существования – системы, перед которой не устоит ничто. Мы тоже верим, что «философы лишь различным способом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»4.
Полностью осознавая положение человека в мире и то, сколь сложное переплетение отношений из этого вытекает, – а также какие решающие детерминанты обусловливают само это осознание, – мы убеждены, что есть лишь одна пограничная диалектическая точка зрения и единственная моральная деятельность – та, что отвечает детерминизму становления, – и потому готовы довести решение каждой проблемы до конца, а каждое действие – до его финальных возможных следствий. Мы знаем, что бунт есть выражение и сознание, причина и следствие описанного нами конфликта, в котором мы обречены участвовать, и понимаем, таким образом, что иного выбора у нас нет, и если мы не добьёмся в этом конкретных и бесповоротных результатов, оправдания нам не будет.
Оскар Давичо, Милан Дединац, Ване Живадинович-Бор, Живанович-Ноэ, Джордже Костич, Душан Матич, Коча Попович, Петар Попович, Александр Вучо, Джордже Йованович
Не ходите на Колониальную выставку
Накануне 1 мая 1931 года и в преддверии открытия Колониальной выставки французская полиция похищает Тао, студента из Индокитая. Кьяп1 заманивает его при помощи подмётных писем и сфабрикованных документов. По истечении времени, необходимого, чтобы подавить какое бы то ни было смятение, становится ясно, что этот арест, представленный как мера превентивная, был лишь началом общей кампании репрессий в Индокитае[5]5
Мы сочли своим долгом снять с этого манифеста подписи наших зарубежных товарищей.
[Закрыть]. В чём же преступление Тао? Он состоял в Коммунистической партии, которая действует во Франции на совершенно законном основании, и однажды позволил себе выйти к Елисейскому дворцу на демонстрацию протеста против казни сорока аннамитов2.
Возмущение, которое вызвал во всем мире смертельный приговор Сакко и Ванцетти, ни к чему не привело. Нет у нас никаких гарантий и того, что Тао, отданный на произвол военного трибунала и судилища мандаринов, ещё жив. Лучшей прелюдии к венсенской выставке в 1931 году придумать сложно.
Идея колониального разбоя (слово яркое, но, увы, недостаточно сильное) зародилась в XIX веке, но как и многие другие, пока не получила широкого распространения. Мы воспользовались деньгами, которых у нас оказалось в избытке, чтобы послать в Африку и Азию корабли, лопаты и мотыги, благодаря чему там стало возможно заработать себе на жизнь, и это жалованье мы теперь охотно представляем как подарок туземцам. Чего же более естественного, говорим мы, если труд этих миллионов новых рабов в свою очередь одарил нас золотыми горами, осевшими в подвалах Банка Франции? Но то, что столь чудовищный обмен основан на принудительной (да пусть бы даже и свободной) работе, что люди, чьи нравы мы пытаемся узнать при помощи редко когда бескорыстных свидетельств и которых позволительно считать менее развращёнными, чем мы сами (и это ещё мягко сказано) – а скорее так и знающими больше нашего об истинном предназначении рода человеческого, познания, любви и счастья, – люди, от которых нас отличает лишь статус белых (мы называем их цветными, тогда как сами мы поразительно бесцветны), в 1914 году под стальной пятой европейской металлургии надрывали животы во имя едва заметного надгробного памятника на братской могиле (и это, если не изменяет память, было идеей Франции, отвечало расчётам Франции) – так вот, всё это позволяет нам по‑своему отметить торжественное открытие Колониальной выставки, заклеймив всех ревнителей подобного промысла как низменных стервятников. Но что такое лишняя пляска смерти для всяких там Лиотэ3, Дюменилей4, Думеров5, заправляющих делами в сегодняшней Франции с её задранными в канкане крахмальными юбками?! Так, несколько дней назад на парижской улице нам довелось видеть новёхонький – ещё не разорванный – плакат, где ответственным за резню в Индокитае называли Жака Дорио6.
Догма неприкосновенности национальной территории, к которой апеллируют для придания этим убийствам морального оправдания, основывается на игре слов, которая не позволяет забыть о том, что в колониях – территориях заморских – не проходит и недели без очередной расправы. Присутствие на торжественной трибуне в ходе открытия Колониальной выставки президента Республики, императора Аннама, архиепископа Парижского и многочисленных чинуш и солдафонов, тогда как напротив возвышались павильоны миссионеров, а также «Ситроена» и «Рено», ясно продемонстрировало соучастие буржуазии как класса в зарождении новой и в особенности нетерпимой идеи: «Великой Франции». Именно для её увековечения и были возведены павильоны экспозиции в Венсенском лесу. Нужно привить гражданам метрополии сознание собственников, которое поможет им без содрогания слышать эхо отдалённых залпов – а радующие глаз ландшафты Франции, уже заметно облагороженные в довоенные годы песенкой о бамбуковой хижине7, сейчас необходимо обогатить перспективой минаретов и пагод.
Кстати, не будем забывать и о великолепной афише, призывавшей записываться в колониальную армию: сладкая жизнь, негритянки с большими титьками, сержант в ладно скроенном холщовом мундире красуется в коляске, которую тянет местный рикша, – вот они, приключения, карьерный рост.
Собственно, во имя рекламы тут не останавливаются ни перед чем: туземный вождь лично встанет зазывалой у входа в эти картонные дворцы. Ярмарка ведь международная, и вот уже колониальная эпопея – дело всей Европы, как утверждалось в инаугурационной речи – становится делом само собой разумеющимся.
И пусть не обижаются потерявшая всякий стыд Социалистическая партия или умильно-иезуитская Лига защиты прав человека, но требование различать хорошие и плохие способы колонизации – это уже чересчур. Пионеры национальной обороны под знамёнами капитализма, с омерзительным Бонкуром8 во главе, могут гордиться венсенским Луна-парком. Те же, кто отказывается когда бы то ни было встать на защиту буржуазных отечеств, сумеют противопоставить их пристрастию к пирушкам и к эксплуатации позицию Ленина, который ещё в начале века первым признал в колонизированных народах союзников мирового пролетариата.
В ответ на речи и казни требуйте немедленного вывода из колоний всех поселенцев и суда над генералами и чиновниками, ответственными за зверства в Аннаме, Ливане, Марокко и Центральной Африке.
Андре Бретон, Поль Элюар, Бенжамен Пере, Жорж Садуль, Пьер Юник, Андре Тирион, Рене Кревель, Арагон, Рене Шар, Максим Александр, Ив Танги, Жорж Малкин









































