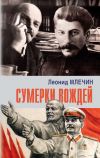Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 5"
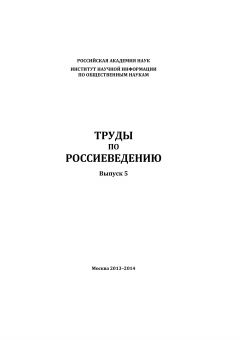
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Признание многозначности социальных категорий и условности границ между ними – характерная черта современной зарубежной историографии Первой мировой войны. И историки-русисты также склонны считать, что тогда размывались гендерные дихотомии, происходила «феминизация» публичной сферы. Первая мировая война явилась, по выражению Питера Гатрелла, «моментом истины, когда принятые понятия о гендерных ролях и границах подверглись тяжкому испытанию» (7, c. 199). В условиях массовой мобилизации мужчин женщины заняли их место не только в крестьянском хозяйстве, но и в экономике в целом. Они вступили на новую для них территорию публичности, активно взаимодействуя здесь с государством – прежде всего в лице чиновничества. Гатрелл отмечает определенную «феминизацию» политического дискурса 1914–1918 гг., указывая, в частности, на возрастание в политической риторике удельного веса понятий о «домашнем». Прежняя историография видела здесь лишь «эпическое» и сосредоточивала все внимание на вопросах государственного переустройства и революционных устремлениях.
Как социальный историк и специалист по миграциям населения, Гатрелл связывает усиление «семейного» компонента в политическом дискурсе с конкретным жизненным опытом – прежде всего с появлением огромного количества беженцев, которых необходимо было как-то обустроить, дать работу, пищу и кров. Исследователь подчеркивает вклад женщин, которые занимались этой незаметной работой, оставаясь при этом по-прежнему в тени. По мнению Гатрелла, необходимо серьезно изучать тему «гендер и война», причем не только такие «самоочевидные», по его словам, аспекты, как медсестринское дело, но и модели поведения мужчин на рабочем месте и на фронте, стратегии выживания пленных и беженцев и многое другое (7, c. 210–211).
Нет никаких сомнений в том, что реалии Первой мировой войны представляют собой настоящую кладезь для женской истории. Однако зарубежная русистика занималась этим крайне мало. В монографии американской исследовательницы Лори Стофф «Они сражались за родину» (20) рассматривается участие женщин в боевых действиях – феномен для того времени исключительный, особенно если учесть его масштабы. К 1917 г. в России, по статистическим данным, было не менее 6 тыс. женщин-солдат, что несопоставимо с остальными воевавшими державами. В какой-то степени этому способствовали женское движение, разворачивавшееся в России в начале ХХ в., давняя традиция участия женщин в войнах (в частности, в 1812 г.). Но главную роль сыграли не социокультурные факторы, а конкретные обстоятельства.
Описывая события, сопутствовавшие созданию летом и осенью 1917 г. в России (впервые в мире) отдельных женских воинских подразделений, Л. Стофф отмечает, что это был абсолютно новый способ использования женщин в войне. Он нарушал все традиционные гендерные нормы. Такое, по мнению исследовательницы, могло произойти только при наличии определенных условий, которые сложились к тому времени: тяжелое положение на фронтах и необходимость влить новые силы в измученную войной армию, а также наступившие после Февральской революции политическая анархия и развал общества (20, c. 1–2).
Стофф считает, что создание особых женских частей – социальный эксперимент, предпринятый главным образом в пропагандистских целях. Женщины должны были своим примером вдохновить мужчин и поднять их моральный дух, а также и пристыдить, если те уклонялись от выполнения своего патриотического долга – защиты родины. Предположение автора подтверждается и тем, с какой готовностью журналисты, фотографы и кинооператоры распространяли сведения о русских женщинах-солдатах буквально «от Петрограда до Нью-Йорка». Симптоматично, что после Октябрьской революции женские боевые подразделения почти мгновенно исчезли (20, c. 3–4).
В монографии Л. Стофф отмечается, что поначалу женщины участвовали в боевых действиях «в индивидуальном порядке». Они шли на фронт добровольно, причем большинство из них выдавали себя за мужчин. Многие хотели находиться рядом со своими мужьями, кто-то искал приключений, кто-то стремился реализовать себя в активной роли солдата, а кого-то толкало на такой поступок и личное горе. Тем не менее, пишет Стофф, женщины шли на фронт в основном из патриотических побуждений, что напрямую связывает их участие в войне с проблемой гражданства (citizenship).
По мнению автора, история женских боевых подразделений в России в годы Первой мировой войны позволяет не только «вернуть» женщин в историю и добавить новые штрихи к широкой панораме событий, но и поставить под вопрос исключительно «маскулинное» понимание войны, пересмотреть общепринятые представления о социальной роли женщин. Во время войны женщины все активнее участвовали в экономике, занимались благотворительностью, ухаживали за ранеными. Границы между полоролевыми функциями, между понятиями о том, что пристало настоящей женщине, а что является прерогативой мужчин, размывались. Исполняя мужскую роль защитника, женщины бросали прямой вызов традиционным гендерным концепциям патриотизма и гражданства. Результат, как пишет автор, был в лучшем случае двойственным. Далеко не все принимали такие «неженские» роли, разделяли энтузиазм в отношении женского патриотизма. В любом случае, существование женских боевых частей в годы Первой мировой войны было явлением временным, реакцией на острую ситуацию. После окончания кризиса началось «возвращение к нормальности». На первый план снова выдвинулись традиционные мужские и женские роли (20, c. 3).
Трактовка Л. Стофф отражает ту линию в зарубежной историографии Великой войны, которая склонна акцентировать стабильность, а не изменения. В рамках другого направления, сосредоточенного на изучении стереотипов женственности, напротив, подчеркивается возникновение в годы войны и межвоенный период новых черт и даже моделей фемининности. Так, американская исследовательница Аллисон Белцер выделила четыре модели идеальной итальянской женщины, сформировавшиеся в первой четверти ХХ в.: donna brava (хорошая женщина) – функционирует в пределах семьи и ставит интересы своих близких выше собственных; donna italiana (итальянская женщина) – политически активная патриотка, для которой интересы государства превыше всего, даже в ущерб семье (тип, возникший в годы Первой мировой войны); donna nuova (новая женщина) – социально и экономически независимая, самостоятельная, в послевоенные годы ненадолго ставшая одним из идеальных женских типов. На смену новой женщине пришел иной идеал, активно насаждавшийся пришедшим к власти «гипермаскулинным» режимом Муссолини, – donna fascista. Этот тип соединял в себе традиционные черты «хорошей женщины», современные качества «новой женщины» и преданность государству итальянской патриотки военного времени (3, c. 2–7).
Схожую эволюцию можно предположить и в России/СССР. В монографии по истории моды упоминаются дискуссии о том, следует ли отказаться от западной моды в пользу русского народного костюма, который в 1910-е годы был распространен в среде националистически настроенных женщин высшего общества (17, c. 230). Здесь, равно как и между представительницами средних классов, активно трудившимися на благо общества в многочисленных комитетах, и следует искать патриотически настроенную «русскую женщину» военного времени. Черты «новой женщины» мы видим у пишбарышень и телефонисток, фабричных работниц, «запустивших» Февральскую революцию, у юных большевичек и представительниц артистического мира, а «жены-общественницы» 1930-х годов подозрительно напоминают женский идеал муссолиниевской Италии. Конечно, не следует повторять все (часто весьма спорные) построения зарубежных историков гендера. Речь идет о том, что как западная русистика, так и отечественная историография Первой мировой войны пока далеки от такого уровня обобщений. В нашей литературе можно встретить лишь немногочисленные описания деятельности в годы Первой мировой войны женщин-благотворительниц в той или иной провинции, биографические материалы о медицинских сестрах, о патриотическом и духовном служении представительниц императорской фамилии. Безусловно, эти работы делают важное дело, вводя в научный оборот массу фактов. Можно предположить, что в какой-то момент количество перерастает в качество, и женский опыт будет осмыслен в более широком контексте – например, в категориях патриотизма, нации и гражданственности.
Эти темы до сих пор чрезвычайно популярны в историографии Западного фронта. В русистике первые шаги в этом направлении были сделаны Мелиссой Стокдейл. В статье, опубликованной в ведущем американском историческом журнале, она рассмотрела тему женского патриотизма и перспективы обретения полного гражданства теми, кто его не имел (19). Война, пишет М. Стокдейл, предоставила такую возможность и женщинам, которые выполняли патриотический долг и жертвовали собой для родины наравне с мужчинами (19, c. 82).
К российскому материалу пока не была применена актуальная для историографии Западного фронта проблематика «национализации фемининности» (разные аспекты включения женщин в публичную сферу и государственное строительство). Зато была исследована проблема «национализации маскулинности» в России первой четверти ХХ в. (18). Монография американского историка Дж. Санборна имеет исключительное значение для понимания места Первой мировой войны в истории России, но практически неизвестна нашим специалистам. Между тем в этом серьезном и глубоком исследовании национально-государственного строительства в России вскрыт механизм формирования солдата-гражданина в эпоху национализма, показана роль гендерных концептов семьи, родства, братства в создании нации. В центре внимания автора находится армия, которая в условиях всеобщей воинской повинности, а затем тотальной войны играла ведущую роль в сплочении нации. Насилие, по убеждению Санборна, является главной, можно сказать, системной чертой нации (и национализма). Насилие, как военное, так и государственное, тесно увязывается Санборном с процессом выковывания в огне войн и революций начала ХХ в. идеала «настоящего мужчины».
Тема «гендер, национальная идентичность и война» исследуется зарубежными историками чаще всего на примере катаклизмов начала ХХ в. Тема насилия занимает в этих исследованиях ведущее место. В зарубежной русистике, помимо замечательной книги Санборна, пока имеется лишь одно монографическое исследование такого рода. Это уже упоминавшаяся работа Карен Петроне, посвященная памяти об «империалистической» войне в СССР до 1941 г. В ней переплетаются категории гендера, этничности и класса; концепты героизма, патриотизма, религиозной идентичности анализируются в тесной связи с формированием нового советского идеала мужественности (точнее, множества новых типов советской маскулинности). В книге постоянно фиксируются сходства и различия советского и западноевропейского дискурсов о Великой войне. Автора поразило, насколько открыто и нелицеприятно говорится о насилии на войне в мемуарной литературе советских лет. В мемуарах показано разрушающее воздействие военного насилия на душу и тело человека, наконец, на его мужественность. Петроне отмечает «количество, качество и разнообразие» подходов к теме «германской» войны в советском дискурсе межвоенных лет, глубину проникновения в психический и физический мир солдата, серьезность анализа «лица войны» (15, c. 199).
В зарубежной русистике давно уже стало общепризнанным мнение: тогда как в европейской культуре межвоенного периода мифологизация Великой войны занимала центральное место, в СССР это событие оставалось за рамками официального мифотворчества, сосредоточенного на Октябрьской революции и Гражданской войне. Этим обычно и объясняется «исчезновение» Первой мировой из исторической памяти народа. Однако это мнение базировалось главным образом на анализе официальных источников. И только с привлечением литературно-художественных и мемуарных материалов, где государство было «вынесено за скобки», а в центр внимания поставлен человек, выяснилось, что память о Первой мировой в СССР долго была жива и удивительно многообразна. Ее вытеснил на обочину лишь опыт Великой Отечественной войны.
Память является сегодня, пожалуй, важнейшей темой зарубежной историографии Великой войны. Та «особая ситуация», которая сложилась с этой темой в России, требует глубокого и разностороннего изучения. Здесь многое можно было бы сделать, но для этого необходимо изменить систему координат. Для большинства наших историков точкой отсчета, ведущей творческой силой, а зачастую и единственным «творцом» российской истории остается государство. Именно поэтому у нас так востребована традиционная политическая история (давно отправленная на свалку мировой исторической наукой), сильны позиции не менее традиционного варианта социальной истории, оперирующей «людскими массами». Тема исторической памяти тоже исследуется «сверху вниз»: основное внимание уделяется государственной политике, а люди («население») выступают в качестве объекта правительственных усилий (cм., например: 2).
Характерная для нашей историографии «одержимость государством» отражает, собственно говоря, состояние общества в целом. Государство и властные структуры представляются сегодня высшей ценностью, а интересы людей, их чаяния, трудности и беды считаются чем-то незначительным. Такие категории, как «индивидуальные интересы», «частные права» и т.п., почти испарились из публичного дискурса. «Частное», «индивидуальное» исчезает и из обихода – их заменяют «общие интересы», единые взгляды, с помощью которых устанавливается «диктатура большинства». Можно ли в таких условиях ожидать от историков обращения к аналитическому аппарату мировой науки, строящемуся «вокруг» человека, «завязанному» на частном, индивидуальном, – вопрос скорее риторический.
Список литературы
1. Асташов А.Б. Пропаганда на русском фронте в годы Первой мировой войны. – М.: Спецкнига, 2012. – 400 с.
2. Сенявская Е.С. Память о Первой мировой войне в России и на Западе: Исторические условия и особенности формирования // Великая война: Сто лет / Под ред. М.Ю. Мягкова, К.А. Пахалюка. – М.;СПб.: Нестор-История, 2014. – С. 251–270.
3. Belzer A.S. Women and the Great War: Femininity under fire in Italy. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010. – 282 р.
4. The Cambridge history of the First World War: 3 vols. / Ed. by Jay Winter J., Charles J. Stille Ch. J. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2014.
5. Cohen A.J. Imagining the unimaginable: World war, modern art, and the politics of public culture in Russia, 1914–1917. – Lincoln: Univ. of Nebraska press, 2008. – 420 р.
6. Fuller W.C., jr. The foe within: Fantasies of treason and the end of imperial Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – 304 р.
7. Gatrell P. The epic and the domestic: Women and war in Russia, 1914–1917 // Evidence, history, and the Great War: Historians and the impact of 1914–18 / Ed. by Braybon G. – N.Y.: Berghahn books, 2003. – P. 198–215.
8. Gatrell P. A whole empire walking: Refugees in Russia during World War I. – Bloomington: Indiana univ. press, 1999. – 318 р.
9. Gender and war in twentieth-century Eastern Europe / Ed. by Wingfield N., Bucur M. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – 264 р.
10. Hagen M. von. War in a European borderland: Occupations and occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918. – Seattle; Washington D.C.: Univ. of Washington press, 2007. – XII, 122 p.
11. Holquist P. Making war, forging revolution: Russia’s continuum of crisis, 1914–1921. – Cambridge (Mass.), 2002. – 384 p.
12. Lohr E. Nationalizing the Russian empire: The campaign against enemy aliens during World War I. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – 272 p.
13. Lohr E. The Russian Press and the ‘Internal Peace’ at the Beginning of World War I // A Call to Arms: Propaganda and public opinion in newspapers during the Great War / Ed. by Paddock T. – Westport, Connecticut: Praeger, 2005. – P. 91–114.
14. Norris S.M. A war of images: Russian popular prints, wartime culture, and national identity, 1812–1945. – DeKalb: Northern Illinois University Press, 2006. – 277 p.
15. Petrone K. The Great War in Russian memory. – Bloomington: Indiana univ. press, 2011. – 406 p.
16. Reynolds M.A. Shattering empires: The clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 1908–1918. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – XIV, 303 p.
17. Ruane C. The empire’s new clothes. A history of the Russian fashion industry, 1700–1917. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – 256 p.
18. Sanborn J. A. Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905–1925. – De Kalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – 288 p.
19. Stockdale M. «My death for the Motherland is happiness»: Women, patriotism, and soldiering in Russia's Great War, 1914–1917 // American historical review. – Wash., 2004. – Vol. 109, N 1. – P. 78–116.
20. Stoff L. They fought for the motherland: Russia’s women soldiers in World War I and the revolution, (1914–1920). – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2006. – 304 p.
21. Stoff L. The «Myth of the war experience» and Russian wartime nursing during World War I // Aspasia. – N.Y.; Oxford, 2012. – Vol. 6. – P. 96–116.
Образ врага в сознании русских и немцев в годы Первой мировой войны (сводный реферат)
1. Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. – 287 с.
2. Сергеев Е.Ю. «Иная земля, иное небо…»: Запад и военная элита России (1900–1914 гг.). – М.: [Б/и], 2001. – 282 с.
3. Engelstein L. «A Belgium of our own»: The sack of Russian Kalisz, August 1914 // Kritika. – Bloomington (Ind.), 2009. – Vol. 10, N 3. – P. 441–473.
Энгельстайн Л. «Наша Бельгия»: Разорение Калиша, август 1914 г.
4. Jahn H.F. Patriotic culture in Russia during World War I. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 1995. – XVI, 229 p.
Ян Х.Ф. Патриотическая культура в России во время Первой мировой войны.
5. Jahn P. «Zahrendreck, Barbarendreck»: Die russische Besetzung Ostpreußens 1914 in der deutschen Öffentlichkeit // Verführungen der Gewalt: Russen u. Deutsche im Ersten u. Zweiten Weltkrieg / Hrsg. von K. Eimermacher, A. Volpert; Unter Mitarb. von G. Bordjugow. – München: Fink, 2005. – S. 223–241.
Ян П. «Царское дерьмо, варварское дерьмо»: Русское вторжение в Восточную Пруссию в 1914 г. и немецкая общественность.
Взаимодействие государств и наций неизбежно формирует у их представителей определенный набор суждений и стереотипов друг о друге. Эти представления, в свою очередь, влияют на дальнейшие отношения. В конфликтных ситуациях, особенно в периоды войн или военных опасностей, представления о другой стране, ее народе принимают форму образа врага. В последние годы эта тема довольно активно изучается в рамках исторической имагологии – относительно молодой научной дисциплины, функционирующей на стыке истории, социологии, психологии, этнологии, конфликтологии, культурологии и т.д. Рассмотрим некоторые отечественные и зарубежные работы, в которых анализируется образ врага в сознании русского и немецкого обществ накануне и в годы Первой мировой войны.
Монография Е.С. Сенявской (Институт российской истории РАН) (1) посвящена восприятию союзников и противников России и СССР в российском/советском обществе в XX в. и хронологически охватывает период с Русско-японской войны 1904–1905 гг. до войны 1979–1989 гг. в Афганистане. Автор опирается на довольно широкий круг источников – как официальные документы военного ведомства, разведки, пропаганды, так и источники личного происхождения, произведения литературы и искусства, данные устной истории и др.
Помимо анализа конкретно-исторического материала книга содержит и пространный теоретический раздел, посвященный самому понятию образа врага. Сенявская определяет его как «представления, возникающие у социального (массового или индивидуального) субъекта о другом субъекте, воспринимаемом как несущий угрозу его интересам, ценностям или самому социальному и физическому существованию, и формируемые на совокупной основе социально-исторического и индивидуального опыта, стереотипов и информационно-пропагандистского воздействия. Образ врага, как правило, имеет символическое выражение и динамический характер, зависящий от новых внешних воздействий информационного или суггестивного типа» (1, с. 20). Критикуя упрощенные трактовки образа врага как искусственной, сугубо идеологической конструкции, автор настаивает, что это явление имеет более сложную природу и возникает в результате наложения искусственных образов, насаждаемых пропагандой, на уже существующие у людей стереотипы, а также на объективный опыт взаимодействия с неприятелем.
Источники, характеризующие представления участников Первой мировой войны о противнике, автор подразделяет на три основные группы: пропагандистские материалы и пресса; боевые донесения и доклады; свидетельства личного происхождения. Пропаганда пыталась навязать населению определенный, заранее разработанный образ врага, однако оперировала чаще всего слишком абстрактными понятиями (славянство, братья-сербы, честь России, слава русского оружия и т.п.). Основную массу населения страны (а значит, и личного состава армии) в то время по-прежнему составляли крестьяне, по большей части неграмотные или малограмотные, которым такие абстракции были просто непонятны. Неудивительно, что эти клише положительного отклика, как правило, не вызывали, хотя со временем пропагандисты и пытались более гибко подстроиться под особенности мышления своих читателей. Боевые донесения и доклады, напротив, отличались аналитическим характером и были основаны на данных разведки, на опыте непосредственного взаимодействия с противником. Источники личного происхождения позволяют понять представления и настроения людей, сопоставить их с теми конструктами, которые продвигались официальной пропагандой. Письма, дневники и воспоминания фронтовиков отражают их персональный фронтовой опыт и восприятие ими тех вражеских солдат, с которыми им приходилось сражаться.
Анализ всех этих источников показывает, что в сознании русских военнослужащих и гражданского населения сосуществовали два фактически независимых образа врага, которые автор характеризует как «глобальный» и «бытовой» (1, с. 71–72). Первый из них включал общие представления о государствах-противниках, был крайне негативным по содержанию и отличался известным постоянством; в определенной степени он сохранился и после окончания боевых действий. Германия и ее союзники представлялись жестокими и коварными агрессорами, ответственность за развязывание войны целиком и полностью возлагалась на них. «Бытовой» образ врага, формировавшийся в результате непосредственных контактов с неприятелем в бою, с военнопленными и гражданским населением оккупированных русскими территорий, отличался большей гибкостью. Образ врага-чудовища, характерный для первых месяцев войны, сменился более адекватным образом врага-человека, а ненависть и презрение в позиционный период нередко уступали место сочувствию, особенно по отношению к рядовым солдатам противника: как и русские фронтовики, они вынуждены были нести на своих плечах всю тяжесть войны, смысл которой становился для них все более туманным.
Автор отмечает также, что дегуманизация образа неприятеля в Первую мировую войну не достигла такой крайней степени, как во Вторую. Если в 1914–1918 гг. оценки немцев на личностно-бытовом уровне были хотя и негативными, но «менее эмоционально окрашенными, более нейтральными, часто даже беззлобными и просто ироничными», то в 1941–1945 гг. несравнимо более жестокое поведение оккупантов на советской территории привело к тому, что в сознании советских людей закрепились образы врага-машины, врага-зверя (1, с. 105).
Союзники Германии – Австро-Венгрия и Турция – воспринимались как второстепенные противники. При оценке австро-венгерской армии учитывался ее многонациональный состав. Наиболее опасным противником русские считали венгров – по боеспособности они превосходили австрийцев, но уступали германским войскам. Австрийцы как противник на первых порах вызывали известное уважение. Впоследствии, однако, отношение к ним стало более жестким: они, как и немцы, применяли химическое оружие; имели место и преступления против мирного населения на оккупированных ими территориях. К славянским народам Австро-Венгрии русские относились с симпатией, как к своим угнетенным сородичам, тем более что среди них были сильны антиавстрийские настроения. Из военнопленных чехов и словаков в 1917 г., уже при Временном правительстве, был сформирован Чехословацкий корпус, сыгравший годом позже важную роль в развязывании Гражданской войны.
Армия Турции была еще более неоднородной в этнокультурном плане, чем Австро-Венгрии, поэтому и отношение русских к военнослужащим турецкой армии было более дифференцированным. Симпатию вызывали армяне и ассирийцы, как христианские народы, к тому же подвергавшиеся жестоким репрессиям со стороны турок. Мусульман-курдов, напротив, считали «дикими азиатами», еще и потому, что, несмотря на свое не слишком дружественное отношение к туркам, они принимали широкое участие в боевых действиях против русских войск и отличались особой жестокостью, которая провоцировала ответные ненависть и насилие. К туркам же относились скорее с уважением – как к «культурной», почти европейской нации, несмотря на то что правительство Османской империи считалось давним и непримиримым врагом России, а российская сторона не отказывалась от своих планов расчленения Турции и захвата проливов. Со временем на турецком (Кавказском) фронте, так же как и на австро-германском, среди солдат стала накапливаться усталость от войны. В этих условиях турки, подобно немцам и австрийцам, все чаще воспринимались как такие же люди, которые против своей воли использовались в качестве «пушечного мяса» ради чуждых им интересов и целей.
В книге немецкого историка Хубертуса Ф. Яна (4) анализируется эволюция русского патриотизма на протяжении Первой мировой войны. Ян расценивает истощение патриотического энтузиазма в 1915–1916 гг. как один из факторов, обусловивших крушение монархии в 1917-м. Предметом исследования являются прежде всего патриотические мотивы в массовой культуре (или, в терминологии автора, «патриотическая культура»). По мнению Яна, она в гораздо большей степени отражает настроения широких слоев населения, нежели философско-публицистические произведения и официальная пропаганда, поскольку обращается к несопоставимо более обширной аудитории и к тому же вынуждена из коммерческих соображений своевременно реагировать на ее запросы.
В книге не рассматривается художественная литература (в силу своего более чем значительного объема она требует специального исследования). Основное внимание автор уделяет изобразительным источникам. В лубках, переживших в 1914 г. своеобразный, хотя и непродолжительный ренессанс, немец обычно изображался хорошо вооруженным и экипированным, но его техническому превосходству противопоставлялись русская храбрость и смекалка. Большое количество лубочных картинок было посвящено жестокости врагов. Подчеркивалось (в том числе с использованием религиозных и квазирелигиозных образов и символов), что в отличие от Германии и ее союзников Россия и другие страны Антанты сражаются за «правду». Еще одна особенность «народных» картинок состояла в том, что, «как и в военных лубках XIX столетия, кровь и страдания отводились врагу и его жертвам из числа мирных жителей», а изображения своих солдат на поле боя и в госпитале оказывались на удивление бескровными (4, с. 21).
Пропагандистские образы государств Четверного союза во многом являлись продолжением традиционных стереотипов, сложившихся еще до войны: «Давние представления о Востоке как о чем-то экзотическом и как об объекте экспансии повлияли на образ глупого несчастного султана, живущего посреди фантастической роскоши. Образы слабой, разваливающейся империи, отражающие соперничество с Австрией, проецировались на фигуру старого и слабого Франца-Иосифа. Доминирующая роль Вильгельма в этом трио и его якобы сатанинский характер отражают восприятие русскими Германии как наиболее опасного врага, против которого должны быть направлены наибольшие усилия. Дегуманизированный образ Вильгельма также включал традиционные русские клише о милитаризме немцев, их заносчивости, педантизме, мелочности и ограниченности» (4, с. 173).
Любопытно, что столь красочные и по-своему целостные образы враждебных наций не дополнялись таким же целостным образом самой России. «Русские, – заключает Ян, – имели достаточно ясное представление о том, против кого они воюют, но не о том, за кого или за что» (4, с. 173).
В работе Е.Ю. Сергеева (Институт всеобщей истории РАН) (2) исследуется менталитет российской военной элиты накануне Первой мировой войны, в частности восприятие военными крупнейших государств Запада – потенциальных противников и союзников России (Германии, Австро-Венгрии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, США). Кроме того, анализируется позиция военного руководства в вопросе о путях дальнейшего социально-политического развития страны. Хронологически монография охватывает «время заката “старого порядкаˮ в Европе и соответственно – автократического режима в России, когда постепенное усиление международной напряженности сопровождалось обострением всего комплекса социально-политических, национальных и экономических противоречий самодержавной империи» (2, с. 9). Предметом исследования по существу являются системы представлений о мире и месте в нем России, бытовавшие в среде военной элиты; они сравниваются с представлениями высокопоставленных военных в западных странах. Источниковую базу работы составили архивные документы, опубликованная служебная переписка, публицистика, статистические материалы, мемуары и дневники, а также произведения художественной литературы, отражающие «тот особый колорит, который был присущ русской офицерской среде начала XX столетия и предвоенных лет» (2, с. 15).
На вопрос о том, какая из европейских держав является главным потенциальным противником России в будущей войне, российская военная (как, впрочем, и политическая) элита долго не могла с уверенностью ответить. Традиционно наиболее близкой России, в том числе в культурном и политическом отношениях, считалась Германия, тогда как Великобритания всегда вызывала недоверие. Англофобские настроения усилились во время англо-бурской 1899–1902 гг. и русско-японской 1904–1905 гг. войн; Лондон проводил тогда по отношению к России политику враждебного нейтралитета. Кадровые военные относились к своим немецким коллегам с большей симпатией, чем к английским, – сказывались сходство русского военного менталитета с немецким и его отличие от британского. Тем не менее в условиях нарастающей напряженности в отношениях с Германией Россия склонялась к партнерству с Англией, тем более что дальнейшее соперничество с немцами в 1900-е годы казалось уже бесперспективным. В 1907 г. было заключено англо-русское соглашение, завершившее процесс формирования Антанты, а в 1909–1910 гг. Великобритания перестала упоминаться как вероятный противник и в стратегических планах русского Генерального штаба.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?