Текст книги "Из тьмы и сени смертной"
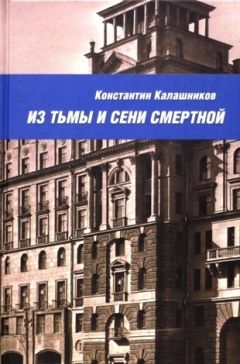
Автор книги: Константин Калашников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но вот швы сняли, все болезни были позади, настало время возвращаться к прежней жизни.
Содержанием следующей части фильма – если бы таковой вздумалось когда-либо снимать – были бы усиленные, идущие в разных направлениях домашние занятия и те особые процессы, которые принято называть «внутренним ростом». На этот раз они имели уклонение в сторону, так сказать, строительно-поэтическую. Речь идет, как легко догадаться, об Алишере Навои и его поэме «Фархад и Ширин». Имя поэта, в чью честь был назван оперный театр щусевской постройки, где фойе отделывали знаменитейшие мастера и куда они ездили по несколько раз в месяц, – это имя давно было у него на слуху. И потому не было ничего удивительного в том, что, взяв как-то раз добротный серый том, 1948 года издания, с его знаменитой «Пятерицей», Илья принялся машинально перелистывать книгу. На одной из иллюстраций внимание Ильи привлекла барочная диагональная композиция, на которой армянская красавица-принцесса Ширин с высоты белоснежного, как и она сама, могучего тьеполовского коня взирала, из угла правого верхнего, на мускулистого Фархада, китайского принца инкогнито, похожего на облагороженного культуриста, удачно занявшего угол левый нижний. На роль Фархада он определил себя – следовало только немного подкачаться; в результате появилась перекладина в саду, на которой Илья скоро мог подтягиваться раз по двадцать. Роль Ширин, естественно, предназначалась Маше Ольховской, а вот Хосрова, принца иранского, пришлось отдать, с некоторым сожалением, злополучному Аркадию. Очень помог и явно не случайно оказавшийся в хозяйстве кетмень, так похожий на кирку, которой умелый Фархад пробивал арык в скалах.
Когда стаял снег, Илья даже проложил, перейдя с кирки на более привычную лопату, свой небольшой арык, ведущий от крана в саду к цветам. Его гидротехническое сооружение обнаружили, раскритиковали и засыпали, но ощущения, чем-то напоминавшие трудовой подвиг Фархада, остались.
Наступила весна, мать Ильи вернулась из командировки в Ангрен, где предполагалось во всю мощь развернуть угледобычу. Возобновились визиты, стал захаживать, как и раньше, любимый гость Ильи – тот самый профессор геологии, приходившийся ему дальним родственником, который пленил четвероюродного внучатого племянника тем, что цветными карандашами, сидя на диване в гостиной, на глазах у него нарисовал с десяток конных и пеших воинов, вооруженных пиками, саблями и ружьями, в красивых разноцветных и, как оказалось, исторически достоверных мундирах. Илью поразило, что с помощью цветных карандашей, почти не прибегая к ластику, за какие-то минуты можно создать целую коллекцию, как ему показалось, шедевров. Куда там его жалким, похожим на булыжники танкам и кривобоким самолетам, которым никогда не взлететь, – они только и могли, что изрыгать снаряды, целые горы снарядов с огнем и дымом. На рисунках же и кони были как живые, некоторые всадники неслись галопом по широкой степи на фоне далеких гор. Удивительно, как и где дядя Игорь – так Илья называл полюбившегося ему профессора – научился всему этому? Неужели только способности да в гимназии хороший учитель попался?
Было известно, что дядя Игорь недавно проводил невестку с маленькой внучкой в Ленинград и был теперь, что называется, вольный казак. Однажды он пригласил в гости Илью с матерью. Жил он в получасе езды от их дома, ехали к нему на трамвае до конечной остановки – так Илья впервые пересек холодный, по-весеннему полноводный, стремительный Салар. Дядя Игорь занимал часть одноэтажного дома с садом, до войны весь дом занимал с женой и сыном он один. Две комнаты со старой, хорошо сохранившейся мебелью, тенистая веранда, выходившая в сад, узкая чистая кухонька, которую приходилось делить с соседкой, – вот каковы были апартаменты дяди Игоря. Зато в большой комнате Илью, как и всех бывавших у него, привлекли две картины школы Рубенса, висевшие в старинных, но значительно более поздних рамах, напротив огромного дивана. То были два небольших, вселявших в душу удивительную гармонию вечерних пейзажа, с маленькими человеческими фигурами. Последние казались неотъемлемой частью пейзажа, ничуть не нарушая, а лишь оживляя эту гармонию. Возможно, великий мастер лишь прикоснулся к холстам, хотя ценность этих доставшихся дяде Игорю по наследству шедевров, чудом миновавших все пертурбации последних десятилетий, была, по-видимому, запредельной.
В комнатах стоял полумрак, было прохладно, старинным волшебным бытом пахнуло на Илью с этих стен. Напротив, над диваном, в обдуманном беспорядке висели десятки фотографий, почти все дореволюционные, – военные и штатские, группами и отдельно, были и всадницы в амазонках, подобно маленькому рою белых бабочек облепивших темную скалу, и снимки охоты. Хозяин квартиры жил уединенно, к карьере не стремился, хотя имел немалые заслуги в разведке цветных металлов и кое-чем еще, о чем лучше помалкивать, но крайне важном для оборонной промышленности. Были у него и знакомые в высших сферах, чем он никогда не бахвалился. Учился в Ленинграде у самого Мушкетова, был близок с семьей Поярковых, знаменитой в Средней Азии династией ученых и путешественников. Сам излазил Тянь-Шань, хорошо знал казахский мелкосопочник, бывал и на Памире. Однако главной его страстью на веки вечные был не такой уж высокий и величественный, протянувшийся вдоль Сырдарьи хребет Каратау, один из отрогов Тянь-Шаня. В первой же из своих экспедиций он познакомился там задолго до войны с будущей своей женой, теперь, увы, ушедшей из жизни. Его единственный сын жил в Ленинграде, но отношения с ним по непонятным причинам были натянутые, не то что с невесткой, потомственной «геологиней», которая в свекре души не чаяла. Она ведь и маленькую Таню привезла не на день, не на месяц – на целых полгода. В доме еще оставались следы недавнего пребывания внучки – детские игрушки, крошечные валенки, какие-то детские вещи.
Втроем они попили чаю из старинного самовара, с фруктовым тортом, где было еще и желе с непонятно где взятыми персиками – был не сезон. Автором вкуснейшего торта оказался сам дядя Игорь – вот уж действительно, золотые руки!
После чая он принес альбомы с видами своего любимого хребта. Многие снимки носили, так сказать, профессиональный характер, на них были засняты редкие по богатству геологические структуры, выходы на поверхность различных, отдаленных во времени, но здесь, на снимках, оказавшихся на расстоянии нескольких шагов друг от друга, геологических пластов. Так и мелькали в разговоре, подобно заклинаниям, слова – юра, верхний мел, поздний триас, интрузии… Чувствовалось, однако, что профессор – тонкий художник в душе; порой объектив его камеры, будто забыв об основной профессии своего хозяина, начинал фиксировать то необычный силуэт части хребта, то невероятной красоты урочище, то приникал к какому-то редчайшему изгибу поверхности, даже и без всяких выходов породы, то останавливался, словно не в силах оторвать своего стеклянного просветленного взора от мягких очертаний двойной вершины горы – скорее даже пары холмов, похожих на грудь темнокожих моделей Гогена в альбоме из домашней библиотеки. Надо сказать, что невысокий этот хребет, протянувшийся на сотни километров вдоль железных и шоссейных дорог, к тому же почти полностью лишенный растительности, весьма удобен для изучения, доступен любому путешественнику и все-таки из-за своего невероятно сложного строения уже десятилетия служит предметом научных споров, являясь, по мнению некоторых ученых, одним из самых загадочных мест на планете. В памяти Ильи снимки отпечатались, он тайно заболел этими таинственными горами, что сыграло, через много лет, некоторую роль в его жизни.
В том же апреле заходил и другой дальний родственник – историк, которого, оказывается, звали Эраст Николаевич. Были у него дела в Епархиальном управлении, по стечению обстоятельств расположенном в трех шагах от их дома. Он все хлопотал об издании своих записок, посвященных распространению учения Н. Ф. Федорова в Средней Азии, – тут нелишне заметить, что первое издание «Общего дела» вышло в Верном, то бишь Алма-Ате. Известно ведь было, что главный в начале века церковный чин города о. Димитрий весьма благосклонно отнесся к учению. И не он один – в столичных городах ему, тайно или явно, сочувствовали. Да и теперь определенные надежды на издание записок у Эраста Николаевича были. Второй раз он пришел с одним своим знакомым, философом-самоучкой в душе и токарем седьмого разряда по жизни. Этот его друг, зная, где он оказался, все пытался вызвать на «принципиальный спор» хоть кого-нибудь, чтобы отстоять какую-то известную даже ему самому не до конца позицию – в общем, «дать бой». Его сбивчивая, но оригинальная, как часто бывает у отшельников, речь сопровождалась решительными, какими-то рубящими жестами, да к тому же он еще и грассировал совершенно по-старорежимному. Худое, изможденное в ночных бдениях лицо его, пораженное легким тиком, начало бледнеть еще более, когда он взялся за непосильную, в общем-то, задачу – в несколько минут изложить федоровское учение, да еще и связать его с современной наукой, которая, по его словам, религии ничуть не противоречит. Илья и сам подозревал нечто подобное – слишком многие великие, начиная с так много сделавшего для утверждения материализма Ньютона до Павлова и Циолковского, вовсе не отвергали религию, пусть и понимая ее по-своему. Однозначно отрицали ее лишь единицы. Но боже упаси и религию, и науку, и обеих вместе от таких защитников!
Мать Ильи, чтобы прийти на помощь бедняге, принесла чай и закуски, умело направив безнадежный разговор на чисто практические аспекты федоровского учения, где наш философ был дока. От них беседа перешла на вопросы матримониальные. Все сгладилось, визит закончился приятно и неожиданно для рискованного философа – с него было взято честное слово, что он познакомится, через мать Ильи, с одной интеллигентной старой девой, работавшей много лет в академическом институте секретаршей. Причем познакомится исключительно в целях возможного брака и, так сказать, личного практического вклада в федоровское учение. Ведь род такого мыслителя не может оборваться, он должен быть продолжен!
Гости бывали не каждый день, частенько Илья по вечерам ездил в просмотровый зал, где для командования округа крутили по два-три фильма зараз. Так он посмотрел сотни картин, от знаменитых «Сетей шпионажа» и «Газового света» до «Большого вальса» и научно-популярных фильмов о происхождении жизни на планете. В последний раз показывали «Глинку» со Святославом Рихтером, игравшим роль Листа. «Вот бы мне так» – думается, не в одной юной головке в те годы под влиянием игры великого пианиста (очарование тут было, так сказать, двойным, одно имя стоило другого) проносилась подобная мысль. Но что не дано, то не дано. А вот преподавателя сольфеджио (так предполагалось) Илье выписали. Илья был несказанно рад, когда однажды апрельским утром к нему в комнату вошел смуглый и черноволосый, очень молодой еще учитель, звали его Рафаил. С ним, подумалось Илье, можно быстро всему обучиться – это не то что с очаровательной Ниной Аркадьевной, которая пол-урока заводила свои золотые часики, так украшавшие ее миниатюрную руку с матовой кожей с крохотными черными волосками, вторая половина уходила на умело растянутую перекличку.
На деле, однако, все вышло по-другому. Знакомы ли читателю глиняные пробки, начиненные доброй щепоткой серы? Если нет, то необходимо сказать об этом замечательном изобретении. Берется большой посеребренный револьвер (если такового в наличии не имеется, бежим на рынок и покупаем за гроши), в барабан вставляются пробки с серой, взводится курок – и ба-бах! Ба-бах! Сноп огня и дыма гарантирован! Не подносить близко к глазам! Все ковбои Америки умирают от зависти. Внимание: возможны осечки.
И вот именно на этот случай Рафаил обучил Илью простому способу, не требующему громоздкого и ненадежного револьвера. В пробку вставляется ручка, перо осторожно втыкается в серу. Пальцы разжимаем, ручка с пробкой на конце падает на пол, и получается то же, только лучше. Надежность стопроцентная, а дыму так даже больше. Ай да Рафаил!
Вторым номером программы был фа-минорный доминантсептаккорд – что ж поделаешь, если он так длинно назывался. Указанное созвучие в то апрельское утро навсегда очаровало слух Ильи, еще не избалованный более изысканными сочетаниями, своей доступностью, сладостью рахат-лукума. Впрочем, день был не жаркий, и доминантовая гармония пришлась кстати.
Когда пришла мать Ильи, Рафаил – возможно, чтобы поддержать свое реноме студента консерватории, а может, и просто без причины – взял да сыграл тогда вовсе не известную Илье четвертую балладу Шопена, где, заметим, мелькала только что преподанная гармония, однако в окружении столь изысканном, что захватывало дух и путались мысли. Такое исполнение, обращенное к тому же чуть ли не к нему лично, потрясло Илью до самых глубин, и далее заниматься с Рафаилом, который показался ему в ту минуту каким-то заоблачным гением, не было никакой возможности. Сыграв, он отказался от обеда и быстро ушел на свои занятия.
Не следует думать, что наш герой так уж витал в сферах науки, искусства и тому подобных высоких материй. Он, бывало, схватывал – о ужас! – и тройки в школе, пропустив мимо ушей объяснение либо элементарно не сделав задания. Порой сбегал с уроков, ну просто не было сил, хотелось послоняться по улицам. Да и дома одно время, когда повадились к нему ходить дети от соседа-пограничника, проказ было предостаточно. Этих детей было трое. Сын, ученик восьмого класса, его некрасивая, веснушчатая, немного нервная сестра, которая все время грозила расплакаться, и еще какой-то мальчик в непонятном статусе, сверстник Ильи, молчун с превосходной памятью, безошибочно игравший в «подкидного» теми самыми, с черным котом, картами на выцветшей зеленоватой скатерти. Нрава этот последний подросток был, однако, довольно свирепого – однажды так засветил Илье кулаком в лоб без всякой видимой причины, что с общением вышла проблема.
Несколько раз вся троица вместе с Ильей купалась в бассейне. А однажды – наделали более сотни корабликов из бумаги и устроили настоящее сражение, обстреливая противную сторону горящими спичками. И турецкий паша, и Нахимов остались бы довольны, увидев таких учеников, – фильм с этим сражением шел повсеместно.
В гораздо большей степени, чем соседские (чьи визиты к тому же скоро прекратились), да и любые дети вообще, Илья считал своим – назовите, как хотите – спутником, другом до гробовой доски или как-то иначе, – сам сад, цветы и деревья, шум фонтана, тени от веток на сохнущей после дождя земле. Любил он и верного своего Тарзана, и даже два десятка белых и рябых, сонно доживающих свой недолгий век несушек в обнесенном сеткой курятнике, где гордо выхаживал огненно-рыжий петух. Между курятником и гаражом – непонятно как очутившаяся здесь, трапециевидная в плане, довольно высокая башня с таинственным окном наверху, устроенным будто для наблюдения за тем, что происходит в их саду. Этой башней, как броненосец своим тупым носом, чужой мир вторгался на их территорию. В гараже, еще в месяц вселения, их водитель обнаружил бесхозный, почти на ходу серый «бьюик», благополучно перешедший в его собственность. Далее, если идти по периметру, в следующем каменном сарае – кучи угля и саксаула – топи чем хочешь. Над всеми сараями, над домом, под железными крышами – просторные чердаки, где можно вот так запросто найти… что бы вы думали? Да хоть пару заколоченных ящиков немецких орденов! И как только они тут оказались!
А сами крыши! Ребристые, покатые, раскаленные летом, но гостеприимно-теплые, бывало, уже и зимой, когда в конце февраля солнце и около двадцати, и можно загорать, изредка следя за краем крыши, чтобы не заснуть, не свалиться вниз!
Можно было бы без конца перечислять все эти сокровища, ведь они вьются и наслаиваются, водят хороводы в просторных залах и пещерах памяти, стоит лишь погрузиться туда. Не нужно ни пищи, ни сна, воспоминания эти с успехом заменяют и то и другое, особенно когда вот так сидишь и думаешь, что вспоминаешь, а на самом деле нет никакого воспоминания, а есть только вовсе не мифическое время прошлого, но время вполне реальное и, к тому же, быстробегущее, можно сказать – летящее, и потому так, в таких вот делах и развлечениях, миновало целых два с половиной года, и шел уже год 1957-й, и стоял жаркий даже по ташкентским меркам июль, и уже перевалило далеко за полдень… Но кто же это идет к тебе – седой стройный мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами? Вот он входит в проволочную галерею, обвитую виноградными листьями. Ведь лицо его тебе знакомо, а рядом с ним – нет, теперь уже впереди – в белом полотняном сарафане и белых босоножках, легкой и уверенной, такой знакомой стремительной походкой – да кто же это, неужели…
Разве так бывает? Нет, кто идет к нему по узкой виноградной аллее, наполовину скрытой листьями? Чей лик мелькает среди листьев лозы, солнечных пятен и полутеней? Чье лицо – еще вчера оно было лицом ребенка, сейчас юное, прекрасное, повзрослевшее – становится все ближе и желанней, рождает радость и волнение, растущее с каждым шагом? Сколько длится это приближение-узнавание – двадцать секунд, два года или двадцать лет? Зачем, скажите, жить, если не испытать хоть раз – такого! Какое острое наслаждение вбирать – глазами, душой, всем телом – эту походку, ведь так может приближаться лишь сама судьба!
Ну что – кажется, все понятно? Разумеется, Марию ждали, даже готовились, и особенно в прошлом году, были разговоры и о Лизе, о том, что они приедут вместе; потом ждали, просто так, без срока, но и тогда никто не приехал… И вот теперь… ведь столько мечтаний, мыслей, слов, которые хотел сказать, а тут – раз, и… Но бежать, чтобы «обдумать», «собраться с мыслями», поздно…
Впрочем, можно ли назвать радостью то лихорадочное возбуждение, которое за секунды забирает силы нескольких месяцев, а дает то, что не испытаешь и за годы? Внезапный переход к отчаянию, страху и чуть ли не к панике – хочется убежать, «обдумать все», «приготовиться»… Неужели Она, таинственная, непредсказуемая, открытая и недоступная, может появиться вот так, посреди бела дня, в аллее, взять и появиться, и идти к нему, прямо к нему?..
Он решительно не помнил первой фразы – ни кто ее произнес, ни ее смысла. Возможно, Николай Георгиевич внезапно помолодевшим голосом сказал что-то вроде «принимай гостей» либо другое, столь же обычное, но что показалось Илье исполненным глубокого смысла. Только много позже с помощью специального календаря он вычислил, что состоялся этот приезд в июле 1957 года, в субботу, в четыре часа пополудни или чуть позже. Тогда он понял одно, что Мария эти дни (сколько их? он не знал!) в его власти. Позже, желая проникнуть в магию чисел этой даты, он хотел понять, почему ее вызвал из небытия – либо из своих раскаленных недр – именно этот, за что-то отмеченный Провидением день – в глухой, тихий, жаркий час, не имеющий названия; час, когда стрелки часов, того и гляди, в изнеможении остановятся, как и само время…
Странно было бы настаивать или ожидать от автора прежней, почти хронологической манеры изложения, когда сама судьба – пусть не четырьмя бетховенскими ударами, а всего лишь глухим гудком машины за воротами, а затем этим вот проходом под сводами из виноградных листьев – так властно вмешивается в его, Ильи, спокойные будни. Когда она, эта судьба, в образе Марии одним жестом руки, поправляющей сарафан на плече, перечеркивает два с половиной года ташкентского пребывания! Ведь здесь, в мире медленного, почти провинциального быта он еще только «готовился к жизни», пусть и зная «абстрактно», что она ему, как и всем, «предстоит». Но все это мыслилось где-то там, в прекрасном, хотя и чуть пугающем далеке. Главное же было то, что все эти тревоги вообще легко отводились в сторону, как мешающая пройти ветка, – можно было прекрасно обойтись и без них. А тут внезапно словно пистолет ко лбу приставили. Становилось ясно, что пришло время распрощаться с прежней действительностью, точнее, снами наяву, на которые та сильно смахивала. Готов ли он к этому? Вот в чем была истинная причина смятения.
Но в тот момент некогда было даже подумать об этом, осмыслить все это. Несколько островов бытия, ярких мгновений, на которых сумела закрепиться ошеломленная натиском, обескураженная память (да и это удалось лишь потому, что в минуты страсти либо восторга впечатления проникают в наше сознание глубже обычного), лишь много позже, да и то непрочно, соединились в ней шаткими тропками: диалогов, которые лишь подразумевались, отроческой дрожи случайных прикосновений, неумелых заглядываний в будущее и неблагодарных – в прошлое, промежуточных мечтаний, не до конца оправданных ожиданий, восстановленных по крупицам ощущений…
Дальше все было как будто во сне, и память вырывает из прошлого избранные картины, в такт с биением падающего – или, быть может, взлетающего к жарким небесам сердца. Возможно, время ускорилось в те часы, и отдельные эпизоды завертелись – уже навечно – подобно спицам в колесе, давая иллюзию настоящей жизни, абсолютного счастья – куда слаще так называемой действительности.
Итак – блеск солнца в зеленоватой воде, круглые ступени, ведущие в круглый бассейн, наполненный свежетеплой влагой, круглые – или скорее овальные, как крупные виноградины, чуть тронутые загаром колени. И – сердце – как было сказано, падающее, наверное, вверх, в бледно-голубой небесный купол цвета древних минаретов, что вечно дрожат и плывут в горячем ташкентском мареве. Он, кажется, не купался – до того обомлел. Брызгали в него, но сколь приятны были эти брызги, каким тревожащим был звук ее голоса!
Мокрые следы от босых ног, когда она побежала, как была, в красном купальнике – побежала к тете Наде на кухню, чтобы отдать что-то там съестное, купленное по дороге на рынке.
Когда прошли в его комнату – шутки насчет решетки на окнах, обычных в одноэтажном тогда Ташкенте. Илью немного раздражала эта повсеместность, он почти гордился этой решеткой (пусть белой, тонкой и косой в отличие от тюремной), воображая себя кем-то наподобие Фабрицио дель Донго, – фильм «Пармская обитель» он смотрел недавно в Эстонии, под Таллином, в клубе части, где служил его дядя; с сеанса несся на велосипеде в летних сумерках, по черной торфяной тропинке вдоль основной дороги, среди густого кустарника и высоких таинственных деревьев, воображая, что скачет с поля битвы к своей тетке, молодой и почти такой же красивой, как Мария Казарес.
Но тут и Мария была совсем другая, она и на Клелию была не похожа. Нет, совсем была не похожа веселая, артистичная, ничуть не сентиментальная Маша Ольховская на юную дочь хитроватого начальника тюрьмы Пармского княжества!
На кухне она взяла жостовский круглый поднос с фруктами, быстро съеденными, – и тут же родилась идея – сейчас устроим танцы! – шах, господин есть, ковер, решетки на окнах – чем не гарем? Срезала ножом пару маленьких пылающих роз, вмиг сдернула зеленые шелковые шторы с окна – металлические кольца от штор пошли на браслеты, ручные и ножные, которыми в восторге от задуманного, дрожа от непонятной лихорадки, занялся Илья.
Показала несколько «восточных» аккордов на стоявшем в углу пианино, задрапировалась в длинную штору перед высоким зеркалом в прихожей – мокрый еще купальник слегка обозначился влажным пятном сквозь ткань, напоминая о солнце, брызгах, пьянящей жаре в прохладе и тени комнат. И главное, поставила красным карандашом, до того, казалось, годным только для изображения охваченных пламенем немецких истребителей да грамматических исправлений в домашних диктантах, восхитительную красную точку посреди лба – и все это как по мановению руки, одним длинным движением, так что он едва успел разогнуть кольца, и вот теперь снова зажимал их, прикасаясь к разгоряченной беготней коже свалившейся на него с неба танцовщицы, ловко обвернутой в прохладную, отливающую серебром шторину.
То был сон из арабской сказки. Все жесты, позы, движения, вплоть до кистей рук и поворотов головы – она скоро отдала ему поднос, чтобы освободить руки, и вот теперь он сам выбивал восточные ритмы – были как нельзя более уместны, и пусть строгие ценители не судят со своих эстетских позиций, не выискивают погрешностей, когда тут такая импровизация, такой всплеск таланта, страсти, артистичности первозданной! Тетя Надя, бросив готовку обеда, с выражением восторга на простом лице немного остолбенело стояла, как была, в фартуке – в дверях комнаты. Илья, войдя во вкус, неожиданно для себя выделывал невиданные ритмические пассажи, как будто всю жизнь только и занимался этим. То была редкостная смесь танцев индийского, цыганского, узбекского и бог еще знает какого – вольная вариация на восточные темы. Вне конкуренции были две маленькие розы, украшавшие темно-каштановые волосы, умело заколотые на испанский манер, и даже простенькие стеклянные бусы, рубиновые с синим, которые он вытащил из шкатулки в столовой, казались драгоценностью – так заиграли они на салатного оттенка шелке импровизированного сари.
И дробь пальцами, и более редкие, ритмичные удары, то с ускорением, то будто в напряженном ожидании, замедленно – все тут же согласно подхватывала чуткая к ритму танцовщица, все шло в дело. Тетя Надя, на которой был обед, наконец отошла, вздохнув и покачивая головой, и тут уж они такое крещендо, до изнеможения, выдали, что, когда Мария, изогнувшись назад, с руками, гибкими, как у лебедя Павловой, только под бубен, стреляя вправо-влево подведенными глазами, замерла на синем ковре нежно-зеленым живым пятном, Илья не сразу понял, что лучший в его жизни танец окончен.
– Ну что, гожусь я в наложницы? – переводя дыхание и вытирая локтем вместе с бисерными каплями красную точку со лба, продолжила отложенный разговор Мария.
В ОДО – зеленый театр, ложа с маленьким фойе. На сцене – решетчатая ограда, деревянная, низкая; декорации изображают летнее кафе сороковых годов, где сидят молодые лейтенанты, девушки в крепдешине. Белые скатерти, фонарики, живая изгородь, по деревянной лестнице – спуск к реке. Последние часы мирной жизни. Соломенные шляпки на девушках. Незамысловатый сюжет.
В парке – теплый летний вечер, над стеной зеленого театра видна полоска зари. Наверное, такой же вечер должен быть и по ходу пьесы. В диалоги вплетается шелест деревьев. Все говорит о том, что жизнь – это счастье и счастье это – неизбежно. Округлые, ясные фразы, хорошо выстроенные мизансцены. Липы, фонарики и все прочее – бутафорское, как и свет. Хорошо нарисованная заря спорит с зарей настоящей и, кажется, проигрывает. Издали, с танцплощадки, доносится музыка.
Последнее лето в Подмосковье: звуки танго плывут через пустырь. Где – кустарник, где – подорожник, лебеда, лопухи. Огибая стволы лип, звуки оркестра вливаются в открытое окно, томяще, неожиданно новым и неведомым изгибом приникают к душе подростка. Душа – в приоткрытую дверь – с тоской наблюдает, как, надев черные туфли и материно довоенное, модное когда-то крепдешиновое платье, выпархивает из своей комнаты юная соседка, дочь молодой еще вдовы-хозяйки. Невольное касание пронзает его насквозь, а всего-то: надушенное синее крыло скользнуло по щеке – и каблучки юной феи стучат дальше, в тревожный ад танцплощадки. Так хочется чего-то, и замирает сердце от одной мысли оказаться «там».
Но только и дел, что лихо сесть на видавший виды велосипед и помчаться, отчаянно отпуская руль на виражах, по дороге, безопасно огибающей вожделенное место, источник сладкой тревоги, призывных звуков – нежащих, вползающих иссохнувшей по ласке кошкой в грудь вместе с вечерней прохладой.
Спектакль закончился, чуть раньше они покинули ложу, аллея вела к танцплощадке. Теплая душистая ночь – и те же тревожащие звуки. Но если б!
До чего же нелеп был его наряд – впрочем, смело стилизованный в англо-среднеазиатском духе. Красная с золотом тюбетейка – хорошо еще, что он догадался ее снять и держал в руке, – белый шелковый плащ, клетчатый костюм до колен, белые гольфы, синие босоножки. Впрочем, в кружке танцев, несмотря на все обязательные падекатры, он недурно выучился скользить в танговых па, но не в таком же марсианском костюме! Толпа расступилась перед экзотической группой. Некто смуглый, с прилизанной прической, набрался духу и пригласил Марию, но получил холодно-вежливый, не оставлявший шансов отказ. Дерзкий, казалось, сам был восхищен этим отказом. Вот, оказывается, мы какие!
Через пятнадцать минут, пролетевших как миг единый, благодаря, разумеется случайно, встретившимся пальцам, невинно сплетенным на заднем сиденье машины, – чай на веранде. Под плеск фонтана, на виду у маленьких китайских роз, с любопытством глазевших на них сквозь решетку веранды. Чай вдвоем. Блаженная неловкость. Восхищение и робость его безграничны. Взрослые ушли беседовать в кабинет, они были одни. Тут бы и сказать – когда еще случай представится! Но язык присох к гортани, и он угощал дорогую гостью из далекой-близкой столицы вареньем из каких-то азиатских ягод, неловко роняя капли сиропа на белую скатерть.
Бесчеловечно было бы продолжать далее сладкую пытку чаепития. Это поняла и собеседница Ильи. Мягким жестом отвела она от себя очередную предложенную ей чашку, гибким движением встала со стула. Выключила верхний свет, подошла к перилам веранды, отделенной от ночного сада лишь декоративной деревянной решеткой, напоминавшей о той, из спектакля. Ночное светило, неожиданно яркое, казалось пойманным в клетку, наполовину скрытую плющом.
Мария – сейчас он заново увидел ее облитые серебром предплечья и внезапно загадочное, нездешнее лицо – была заодно с этой ночью и, казалось, вышла из ее недр. Обладательница единственного в мире голоса, положив руку на плечо Ильи, проникновенно говорила ему что-то, смысл чего он плохо понимал:
– А что, Илья, если устроить завтра музыкальный вечер? Вот так, без света, только луна и свечи! У вас ведь должны быть свечи… Устроим здесь, на веранде – вытащим инструмент, музыкантов я обещаю. И музыка будет – только романтическая, вот как эта ночь. Нет, я не шучу, ты же знаешь – все возможно! Лучше места не найти, а другого случая может и не представиться! Ночь, цветы, фонтан плещет – как в сказке! Будет «сцена у фонтана», как в «Борисе Годунове» – помнишь? И Мария уже есть…
Илья заглянул в бездонные (зеленоватые днем – он знал это) очи ясновельможной пани. Он, вообще-то, приготовился поцеловать ее, ведь они стояли рядом, чуть ли не обнявшись, да не знал, как это получше сделать. Предложение Марии застало его врасплох, он слегка досадовал на то, что она могла думать о чем-то еще. Ее богатый обертонами голос говорил совсем не то, что хотел бы услышать он.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































