Текст книги "Из тьмы и сени смертной"
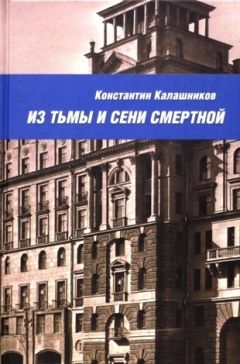
Автор книги: Константин Калашников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Хотя все это, как, впрочем, и профессиональные разговоры о Шютце, было, как говорится, обычными «понтами», но вместе с умным и печальным взглядом толстяка, да и всей обстановкой, царившей в этой не от мира сего, затерянной в яркой мартовской Москве зале с зеркалами и загадочными «дамами полусвета», ни во что не развивалось, однако высокий собеседник музыковеда, Станислав Владимирович, вышедший через некоторое время с троицей, очень понравился Илье своей сдержанной, чуть скептической манерой. Он был (как просветили Илью позже) способным, но не очень удачливым пианистом – когда-то на конкурсе разошелся с оркестром, убежал с эстрады и сорвал выступление. Теперь преподавал в ЦМШ и еще где-то фортепиано, немного сочинял, занимался историей музыки, обладал, по общему мнению, замечательной эрудицией и острым умом.
Все это Илья узнал потом, а пока они вчетвером шли по искрящейся от мартовского снега Бронной. Вот свернули на Бульварное кольцо. Новый знакомый по-старинному раскланялся, поцеловал руку Марине и заспешил на урок в ЦМШ. Илью охватило какое-то странное, радостное предчувствие чего-то хорошего, вызванного этим знакомством. Легкость и стройное изящество были в самой природе Станислава Владимировича, чем-то напомнившего Илье другого Станислава, талантливейшего пианиста, с которым он этой зимой трижды на протяжении недели сталкивался в концертах. В последний раз, в курилке БЗК, уже заметил на себе благожелательный, приглашающий к разговору взгляд, но так и не решился заговорить первым. Теперь же, словно желая по-своему исправить нерешительность Ильи, судьба дарила ему новое знакомство. И как и тогда, в курилке, его новый знакомый был в светло-сером, с отложным воротничком, и оба курили папиросы!
Не следует думать, что дни нашего героя проходили в богемных посиделках. Последние скорее были исключением. Основная работа проходила во время частых вечерних прогулок, когда Илья уходил из перенаселенной квартиры, либо дома, днем, когда на несколько часов он мог остаться почти один. Илья любил эти спокойные дневные часы: за высоким окном-бойницей бледнел кусок неба, разбавлявший слишком быстрые сумерки в его келье. Тогда он мог мечтать, уходить, как от погони, от будничных людей и будничных мыслей, от звуков, резавших ухо. Как тихие, полные причудливых цветов и райских птиц острова, были разбросаны эти уединенные часы по бурному и неспокойному морю его будней. Они оправдывали все остальное, там завязывались плоды, ростки, тихо зрели жемчужины. Позже, с получением квартиры, мечты эти перенеслись несколько севернее, но первый опыт увлекательных дневных экскурсий – то ли в прошлое, то ли в иные миры – он получил именно тогда. Прошлое – оно уже было у него, несмотря на малость лет, набегало внезапно, как очистительный ночной ливень. Не раз и не два сбивало с ног его привыкшее быть настороже дневное сознание, обрушивалось и заполняло всю душу без остатка. Мысли о минувшем мелькали в сознании, проносились образы прошлых дней, он падал в светлый колодец воспоминаний, полный живительной влаги, наполнялись воспаленные тайники памяти. Вся душа устремлялась навстречу им, жаждала их как утешения, как призыва. Он укрывался в своей келье. Хранимый добрыми духами детства, он знал, что его окружают знакомые с младенчества вещи, и даже камни во дворе – и те были обласканы тысячью добрых взглядов; налюбленные, измечтанные, намоленные, навеки родные камни, родимое гнездо.
Самое важное в жизни происходит в тишине и чуть ли не помимо нашего сознания, помимо воли. Память охватывает многое и собирает в свои кладовые даже то, что мы, казалось, утратили навек. Так и Илья порой совершенно неожиданно для себя вспоминал какие-то дощатые заборы и скрипучий снег под ногами неподалеку от Мытищ, куда наведывался к обосновавшейся там с мужем чуть постаревшей тетке Ирине. Или – просторный уют середины зимы, синее январское небо, по-новому гулкая пустота ясных морозных вечеров, легкая дымка на горящих золотом куполах, краски заката в тихой огромной библиотеке, где Илья готовился к экзаменам в университет. А чуть позже – величественная отрешенность предвечерних шагов в кассовых залах и вестибюле консерватории; оттуда – снова на морозную улицу с ажурными пушистыми деревьями, где к тому часу исчезали бледные тени на снегу, тускнели в сумерках все закатные краски, нежные сиреневые оттенки на заснеженных улицах, ощущение одиночества становится тоньше и острее, тревожит в самой глубине, и нет нужды в сюжете, нет нужды ни в ком, только пусть продлится еще немного это срединное, между днем и ночью, состояние, это нежно-сиреневое умирание дня, это с красными огоньками машин и почти догоревшим закатом над Кремлем счастье!
Но спускается вечер, спешат люди и машины, зажигаются огни, и чувствуешь всегдашнее, привычное единство с этой спешащей массой, – Илья, впрочем, знал, что чувство это обманчиво.
Отец Ильи заботился об отдыхе сына и время от времени подбрасывал ему путевку в какой-нибудь дом отдыха, отправлял в поездку, договаривался с кем-то из знакомых. В сущности, Илья никогда не ездил так много, как в те годы. Маршрутов было немало, надо только знать их, знать, где остановиться. Одним из таких путешествий стала поездка в городок Рахов, в тридцати километрах от румынской границы. Оттуда Илья по собственному почину заехал во Львов. Дивная поездка в конце февраля, когда уже закончились всевозможные каникулы и пришлось хитрить со школой, чтобы его отсутствие было законным. Но игра стоила свеч, и он сохранил в памяти и барочные католические храмы, и картинные галереи, где можно было наслаждаться не только галереями, но и пустотой залов, и старательным провинциальным балетом в оперном театре с вытертым бархатом кресел. Лыжи, допотопные сегодня, но в те далекие времена престижные «Эланы», он оставил в камере хранения на вокзале, устроился в гостинице колхозного рынка, куда возвращался на продавленную кровать у лестницы черного хода в своем «оперном» костюме. О, милый городок Рахов! О, насквозь западный, дорвавшийся сегодня до своей гадкой свободы, но так запавший в душу Львов! Кто бы мог подумать тогда, что эти спокойные лояльные гуцулы дождутся своего часа!
А немногим раньше Илья плыл, зацепленный бугелем, навстречу вершине, солнцу, ярко-голубому небу, зеленым соснам, чтобы потом, пригибаясь и покачиваясь, нестись вниз, ощущая все неровности холма, – он изучил его за две недели со всеми ложбинками и впадинами и знал, как скульптор знает спину своей модели. Илью еще долго сопровождал остающийся где-то сзади и сбоку звук скользящих по насту лыж. Изгибающаяся земля подавалась ему навстречу, выносила его на своем упругом теле к широкому и более пологому выкату.
Помнил и широкие диваны в почти пустом мягком вагоне – деньги не были истрачены, поэтому Илья решил вознаградить себя за колхозную гостиницу. Что могло сравниться с этим дивным одиночеством в купе – Илью оно никогда не тяготило, ему хорошо было наедине со своими мыслями и мечтами, наедине с тусклым солнцем, то и дело хоронящимся за белесыми тучами, и так удачно все подверстывалось одно к другому, что не хотелось возвращаться, хорошо было мечтать на этих пружинящих диванах под тихий стук колес, с этим переменчивым, робким светилом!
Много разбросано этих минут и часов в его еще такой молодой жизни! О, золотое время, драгоценные миги! Живи, наслаждайся! Каждое мгновение подобно лунке в черной влажной земле, из которой тянется вверх ярко-зеленый, острый, тугой росток жизни! Многие из них погибнут, но немало будет и таких, которые принесут тень и плоды. Какая все-таки странная, непонятная отдельному человеку и пугающая вещь – время!
Но пора бы спросить, а как обстояли дела у Ильи на любовном фронте. О романтической натуре нашего героя мы уже наслышаны, но к настоящему роману это вроде бы не вело, скорее уводило. То, что называется «падением», произошло буднично, даже как-то по-мещански, в комнате медсестры, что работала в ессентукских ваннах, – туда Илья, со своей слегка увеличенной после гепатита печенкой, попал вместе с родителями на следующий год после переезда в столицу. Ванны, которые ему прописали, располагались в уютном старинном одноэтажном корпусе. Тело и душу там успокаивала и радовала не только вода из источника, быстро заполнявшая огромную выемку в полу, настоящее каменное лежбище, но и сама атмосфера тихого журчания, отражения мелкой водяной ряби на кафельных стенах, покачивание веток за высоким окном, ласковые медсестры в недлинных халатиках, в изящных шлепанцах, открывавших загорелые ноги с наманикюренными ногтями, с милой улыбкой открывавшие краны и мерявшие температуру воды. Одна из них, Анжела, была моложе и привлекательней прочих, ее легкий акцент и мягкое «г» вносили фольклорный элемент в назревающее приключение, которое казалось составной частью пребывания в санатории, чем-то вроде ознакомления с достопримечательностями края. Анжела не раз и, что удивительно, без особой надобности заходила к нему в бокс, справлялась, не нужно ли чего и «хороша ли водичка». Ветки за окном и отраженное на стенах плескание зеленоватой теплой влаги развлекали Илью, легкие испарения затуманивали обычный ход мыслей. Анжела ему явно нравилась. Видя это и понимая, что по неопытности юный посетитель так и не сделает первого шага, медсестричка, проявив смекалку, сделала так, что в тот же день Илья по абсолютно невинному поводу оказался у нее дома, благо что жила она поблизости. Из этого посещения ему более всего запомнились гора подушек на кровати и какие-то ядовитые пальмы настенного коврика, которые, признаться, поначалу несколько мешали увлекательному уроку. Тем не менее благодаря новому знакомству последняя неделя быстро пролетела. Илье было немного жаль покидать Анжелу, оставлять ее в этой душной и влажной ессентукской котловине, да что поделаешь! Его ждали великие свершения – правда, на какой ниве, он еще толком не выбрал.
Следующее приключение ожидало Илью уже ранней осенью, когда один старший и более опытный приятель взял его с собой за город. Ехал он к своей знакомой, которую послали на картошку, у знакомой была подруга. Илья бодро прошагал с приятелем полночи под ясным небом, усеянным звездами. Пришли уже под утро, не поспали на сеновале и трех часов, как вчетвером отправились на лесную прогулку (девушки вдвоем снимали избу у хозяйки, жили поодаль от прочих).
Пошли они в место, похожее на высохшее болотце. Что это было за утро! Илья запомнил и кочки, и бруснику с клюквой в полной росы траве, и невероятное синее, даже какой-то пронзительной, кричащей синевы небо, и чахлые деревца, украшенные желтизной и багрянцем. Будто принарядившиеся в честь гостей, обрадованные тем, что их наконец-то навестили. Подруга, предназначавшаяся Илье, светловолосая, довольно стройная и привлекательная, не была особенно разговорчивой. Но это и не нужно, когда и так все решено. Говорили ее интонации, умные, всеразрешающие взгляды, а то немногое, что было сказано, носило отчасти технический, отчасти ритуальный характер. Юность вообще находит свои пути для сближения, ей не нужны слова, свойственные взрослым предрассудки, долгие рассуждения или расчеты. Когда есть сильное обоюдное желание, все происходит само собой, и вот уже расстелен свитер, брусничные листики вместе с лицом новой знакомой придвинулись к глазам нашего путешественника. И двое молодых существ, не связанных ничем, кроме этого погожего бодрящего осеннего дня и голубого неба над ними, радостно слились воедино. И ей-богу, то был не худший день в жизни Ильи!
Случались изредка и другие встречи – в компаниях, походах, но ничего такого, что бы серьезно затронуло Илью, не было. Как принято говорить, сердце его оставалось свободным, вернее, там уже поселилась пленительная, неподвластная времени мечта, сотканная из лучшего, что он только видел в своей жизни, вплоть до мимолетных, но западающих в душу на долгие месяцы взглядов незнакомок, которых ему никогда в этой жизни не встретить. Лучше оставаться с мечтой в сердце и полдюжиной телефонов в записной книжке, чем становиться в длинный, скучный ряд обывателей, всех этих женихов и мужей одним словом, ослов и остолопов, как говаривал Генрих Гейне, да и не один он. Так гвардейская этика переплеталась в нем с уверенностью в собственном уникальном призвании, и они сотворили вокруг его сердца крепкую броню, сквозь которую изнутри просвечивал магический кристалл детской влюбленности в Марию Ольховскую.
Наверное, самой судьбе было угодно, чтобы мечты Ильи, разросшиеся в душе подобно огромному плодоносящему дереву, которое он к тому же без устали подпитывал, получили наконец материальное подтверждение. В конце апреля шестьдесят первого, когда установилась ранняя жара, они с матерью шли выбирать подарок отцу и на Петровке, у самого пассажа, встретили Наталью Игоревну. Сам Илья мог бы и не узнать, пройти мимо, но женщины остановились, бросились друг к другу. Наталья Игоревна приехала, чтобы помочь племяннику, поступавшему в тот год в МГИМО, помочь загнанной бытом сестре, да и вообще поддержать слегка закисших родственников. А потом, как водится, вернуться в свою то ли Норвегию, то ли Данию.
Пока женщины разговаривали, Илья почтительно стоял поодаль, и все-таки до него донеслось, что Мария эти годы часто спрашивала о нем, Илье, – не собираются ли они вернуться в Москву, и просто расспрашивала. Сама искала случая поехать в Ташкент, да не сложилось.
А вот с Николаем Георгиевичем вышла неприятность. В то лето он был, оказывается, отозван из отпуска и в результате какой-то сложной интриги сильно понижен в должности – можно сказать, отстранен от дел. Были у Николая Георгиевича влиятельные завистники – слишком ранняя карьера его раздражала многих. Но ни проступков, ни тем более провалов в работе за ним не числилось, скорее наоборот. Новое руководство страны, а вслед за ним и все иерархии и епархии – все менялось, принцип личной преданности возобладал повсеместно, но все эти «без лести предан» были не для него, да и не очень старался он скрыть свое отношение к этому «новому руководству» – уважать-то там, прошедшему, как он сам выражался, «ревущие сороковые», было решительно нечего. Но соглядатаи начеку, и вот слепленная из ничего – пары фраз, пары недомолвок, ловко поданных кадровых назначений, не вполне согласованных «наверху», всплывших не вовремя, а скорее всего, кем-то раскопанных биографий родственников – умелыми языками легенда, услужливо доведенная до соответствующих инстанций, оказалась роковой. Решение – быстрое, авантюрное, безответственное, как и все исходившее от засевшего наверху самодура, пройдя через Совмин, обрело силу закона, и гибель важного научного направления, развал научных коллективов, трагедия нескольких десятков талантливых специалистов – все это в какие-то недели стало печальной реальностью. И разумеется, напрямую коснулось Николая Георгиевича.
Но еще понял Илья – и тут его сердце сладко забилось, – что совсем скоро, уже двенадцатого мая, состоится концерт в знакомой Илье школе имени Дунаевского, с ее прекрасным актовым залом, где должна играть Маша Ольховская, только что с триумфом сдавшая выпускной экзамен в училище. Илье и его матери непременно надо прийти, она и их приглашает от имени Маши. На что мать Ильи, благодарно взглянув на Наталью Игоревну, повторила сыну: «Слышишь, Илья, двенадцатого!» – и, оставив адрес и телефон, пригласила, в свою очередь, Наталью Игоревну к себе.
Никто бы не смог сказать, что же подвигнуло Илью на столь раннее вставание, на то, чтобы взбежать на последний этаж здания музыкальной школы, где юное утро еще только разгоняло ночные призраки, на то, наконец, чтобы приникнуть ухом к двери и осторожно вплыть в актовый зал, в тень дверных портьер, – все было как во сне, по какому-то наитию. В четверть девятого, когда уборщица только начала протирать лестницу, на эстраде у рояля уже сидела та, которая втайне занимала все его мысли долгие годы, а под ее пальцами звучал один из самых известных шопеновских ноктюрнов, звучал столь же свежо и необычно, сколь и уверенно – как, впрочем, и все, что она делала в своей таинственной, такой не похожей на другие жизни! Нужно ли уточнять, кто сидел на эстраде, чьи пальцы на глазах у Ильи ткали волшебную, тревожащую ткань!
Внезапная робость, нежелание разрушать волшебство – возможно, в глубине этого нежелания лежала решимость еще раз нырнуть душой в ту единственную – в ТУ ночь, – охватили Илью, и он, так же как и попал туда, незаметно выскользнул из зала. Постоял у двери, чтобы еще раз убедиться в реальности волшебства, медленно сошел вниз по широкой, пустой, гулкой и солнечной, как в детстве, лестнице.
День обещал быть жарким, солнце уверенно и быстро занимало свои позиции на небосклоне. Большие скамейки в тени цветущих лип в недавно разбитом парке были еще пусты. Имелось в запасе время, имелся и повод для того, чтобы примоститься на самой удаленной из них и – мечтать, мечтать…
Вечером был концерт. Еще до окончания, до всех этих аплодисментов, он вышел на улицу, встал под деревьями. Почти темно, накрапывал дождь, свет из немногих окон. Запах лип. С третьего этажа, из открытого окна – разбитные, далекие от классики звуки слегка подсевшего в среднем регистре фортепиано… Школа в меру сил праздновала освобождение от тягот учебного года. Наконец он услышал веселые голоса, увидел, как Мария вышла из освещенного подъезда, окруженная друзьями, с цветами в руках.
Он кинулся к ней, она встретила его удивленной фразой, как если бы они только что прервали разговор:
– Где ты был? Я видела тебя в зале, еще до этого знала от Натальи Игоревны… Жаль, что она не смогла прийти. Но куда ты исчез?
– Можно, я тебе позвоню?
– А ты действительно этого хочешь? Ну хорошо. Запиши номер. Съездим завтра на пляж. Ты мне все расскажешь. Идет? А сейчас не обижайся. Я устала, и они вон ждут.
– Машка, ты идешь? Мы тебя ждем! – хором подтвердила компания. Ему снова захотелось побыть одному. Он медленно брел по мокрому черному асфальту полузабытыми переулками, мимо старенькой военной окружной гостиницы – своего первого пристанища в столице. Потом – мимо рустованных фасадов построенных на века послевоенных зданий. Нежные, пахучие ветви мокрых лип, казалось, снова говорили с ним, оберегали и укрывали его от невзгод, как много лет назад на Можайке, – тогда тоже был май и вся жизнь, как и теперь, казалась бесконечной и упоительно прекрасной. А ее сложности – что ж, пусть будут и они. Он даже строил какие-то неопределенно-мечтательные планы, которые так хорошо сочетались с этим вечером, тихо шумевшим по листьям дождем, блеском мокрой листвы в свете уличных фонарей.
Утром он позвонил, они встретились, доехали до Серебряного Бора, взяли лодку. Он отвез ее на другой берег, в знакомые ему заводи. В голубом небе деловито стрекотал досаафовский аэроплан. Они бегали по высокому берегу среди желтых одуванчиков, купались, играли в бадминтон. Лежа на траве, глядя в блистающее, с редкими облачками небо, делились планами.
Для Марии открывалось прекрасное будущее. Она рассказала, что с ней взялась заниматься сама Софья Алексеевна, ученица великого Игумнова. Они будут готовить с Марией программу для консерватории, и это тебе не хухры-мухры – второй концерт Шопена! Уже состоялось несколько уроков, и вот теперь Софья Алексеевна пригласила ее поиграть на двух роялях в квартиру ее сына, известного музыканта, уехавшего на летние гастроли. В Дом композиторов! Может, попозже, когда все будет готово, она уговорит Софью Алексеевну, и та разрешит позвать и его, Илью! А заниматься они будут часто, и этот выходной день – большая редкость в ее жизни, ведь экзамены в консерваторию не за горами!
Илья не остался в долгу и тоже рассказал, что летом собирается поступать в МГУ на географический. Да, конечно, время великих открытий миновало, но – и тут он разоткровенничался – осталось еще много неясного, тайного, остались еще – здесь он отважился на метафору не по возрасту – неисследованными внутренние пространства, те, что в нас самих.
– Объясни, это что-то интересное. Что ты имеешь в виду?
– Видишь ли, есть проблемы, их даже не то что в двух, а и в ста словах не описать, они даже не поставлены толком, хотя я чувствую, что… одним словом, это может быть новая область на стыке психологии, философии, социологии, искусства даже… а география здесь, может, слегка сбивает с толку – во всяком случае, не такая география, которой учат в школе. Тут вопрос глубже, тут тайна русской души, может быть…
– Расскажи, это очень интересно.
– Ну, если хочешь, я попробую. Тебе никогда не приходилось задумываться, почему русский отличается от европейца – француза, немца, англичанина? Внутренне отличается, душой?
– Я не так много их видела, но это, пожалуй, верно. Почему, как ты считаешь?
– Другая история, другая религия, другой климат – да все другое, и это сто раз сказано. И что касается климата, это уже ближе к теме. А вот есть еще, о чем тоже говорилось, и не раз, но это как раз то, что меня интересует. Вот представь, что один человек всю жизнь живет в десятиметровой комнате, хотя бы и тщательно убранной, а другой – в огромном зале с семиметровым потолком. И их предки, и предки предков, и так пятьдесят поколений жили. Будут у них одинаковые характеры, будет у них что-либо общее?
– Да очень мало, я думаю.
– Вот именно. А что есть русские пространства, все эти поля, просторы, леса и степи бескрайние? Это ведь не только территория и квадратные километры, это – и здесь самое главное – жилище русской души, необъятной, сложной и трагической, незаметной и величественной! И на западе, и на востоке, и на юге, и на севере русские земли расширились до естественных, положенных природой пределов, уперлись в горы, моря, океаны. Ну так вот, – продолжал Илья, все более вдохновляясь, – русские просто не знают себя хорошенько, они как бездонный колодец, в них тайны столько, что и сотни Достоевских не хватит, чтобы русскую душу разгадать. И это – не лесть, не только достоинство или преимущество. Это, может быть, крест наш русский, ни на какой другой не похожий. – Тут Илья затих, помолчал, а через минуту, будто вспомнив о чем-то, с досадой в голосе продолжил: – Вот нам марксистскую философию втемяшивают из года в год, во всех вузах ею пичкают. А чуть в сторону – стоп, запретная зона! А те же немцы… например, Хайдеггер столько о пространстве писал, у него глубокие мысли есть, и поэзия, и философия рука об руку идут – почему нам так нельзя? Я не о подражании, этого и не нужно, я о свободе говорю. Почему у тех же французов на одной полке и Маркс, и Ницше, и Гегель, и Сартр, и Паскаль, и Кант, и Спиноза, да мало ли еще кто – сотни две философов стоят? И они читают, спорят, развиваются, а мы все одно как заведенные талдычим, а если иностранцы, так в гомеопатических дозах, лишь бы не обвинили в полном умолчании. А если и пишут – так сплошь «критики» того-то и того-то, да не в кантовском смысле «критики», а в самом вульгарном, вот как общепит за плохую работу критикуют! Но мысль запретить нельзя! Как можно мысль на коротком поводке держать? Отрицать и критиковать то, чего не читал, не знаешь, в глаза не видел? Это же профанация! У нас специалисты по Итальянскому Возрождению ни разу в Италии не были, специалисты по западной философии Сартра в подлиннике не читали! Нельзя так, стыдно! Позор на всю Европу! Мы же коснеем, загниваем, отстаем! Кто потом все это расхлебывать станет?
Ну так вот, Хайдеггер, – продолжал он, немного успокоившись, – вообще-то филолог потрясающий, происхождение слова так иной раз раскроет, что понимаешь – слово это еще десятком смыслов играет, и прямо видишь, как оно на глазах еще раз рождается.
Тут Мария перевернулась, поправила лифчик своего, как всегда, смелого купальника и посмотрела зелеными зрачками прямо на Илью чуть насмешливо, да не заметил Илья легкой насмешки, до того увлекся и все говорил, говорил – о сути русской души, об особом переживании ею русских просторов, бескрайних пространств. Ведь и достоинства, и недостатки, и все потрясающие свойства этой души – корнем имеют переживание необъятного пространства, и все дело – в этом ни с чем в мире не сравнимым простором, который вечно перед взором, вечно – в душе. Вот огороди немецким забором русскую душу – и тут же убьешь ее. Конечно, выживет, но это уже не та русская душа будет, а какой-то мутант, приспособленный под камеру пыток.
Илью потянуло и дальше – он стал теперь рассказывать о недавно прочитанной статье Хайдеггера, которую ему удалось получить через приятеля, работавшего в одном полузакрытом институте. Там разбиралась тема: искусство и пространство. Илью статья взволновала, но в нем она больше будила мысли, чем давала ответы. Но это и было прекрасно! И уже шевелились мысли – что, если попытаться поставить подобные вопросы, но только с опорой на русскую традицию, а может, и на синтез всего, что бродит в русском духе изначально и привито в новые времена – и античной способности к гармонии, и византийских аскетизма и изощренности, и немецкой глубины, – так, может, вооружившись всем знанием, как полтора века назад, и отважиться на это путешествие в глубины русского духа? Илья чувствовал, что тут есть зерно, да не мог его окончательно ухватить.
Заметив наконец усмешку в зеленых зрачках своей слушательницы, он вдруг понял что-то, улыбнулся, потянулся неопытно к ее локтю, чем вызвал веселый смех, – она опрокинула философа в траву, ловко вскочила и побежала, крикнув: «Догоняй!» – и тут же, разбежавшись, прыгнула с трехметрового берега в незнакомую воду, вытянувшись по всем правилам стрункой в полете.
Мария позвонила через две недели, пригласила Илью на урок. Они встретились в три у памятника Пушкину, не спеша спустились к Центральному телеграфу, завернули направо – и вот он, новый Дом композиторов, обиталище гениев, избранников судьбы, внушающий трепет еще с подъезда, вот его холл, его лифты! Там в огромной пустующей квартире своего великого сына их ждала Софья Алексеевна. В одной из комнат размером с небольшой зал стояли, сверкая черным лаком, два прекрасных концертных рояля.
Софья Алексеевна держала себя невероятно просто, в ее тоне чувствовалась едва уловимая ирония. Негромкий голос и отчетливый петербургский выговор прекрасно подходили ко всей обстановке этой еще полупустой квартиры с прихожей карминового цвета, где спокойно разместилась бы целая семья. Илья любил эту старинную, уходящую породу людей – легких, светских; с ними казалось все и всегда возможно и даже просто находиться рядом уже было радостью. Софья Алексеевна и ему сказала что-то ободряюще-лестное, отчего Илье стало легко и уютно в этом храме искусства. Он подал Марии ноты, два экземпляра концерта, который бережно нес в своем кожаном портфеле. Исполнители уселись за инструменты, и священнодействие началось.
Софья Алексеевна сыграла оркестровое вступление, хорошо знакомое Илье по записям, сыграла своим мягким туше, с человечными, теплыми, разговорными интонациями, замечательно имитируя инструменты, и тут вступила Мария.
Илья в последующие годы долго раздумывал о роли этого то ли урока, то ли концерта в их отношениях. Что было бы, если б она не пригласила его тогда или, по крайней мере, не играла бы так вдохновенно? Нет нужды объяснять, что текст был выучен давно и превосходно, однако в тот день она превзошла саму себя, играла просто гениально! Илья заметил, как радостно удивилась Софья Алексеевна, она, можно сказать, была радостно растеряна. Ее голос потеплел, что-то важное и счастливое повисло в воздухе. Можно спросить – да, один из лучших фортепианных концертов прекрасно сыгран в его, Ильи, присутствии, притом девушкой, к которой он был более чем неравнодушен, и все-таки что же из того? В конце концов, он слышал и куда более совершенные исполнения!
Сказанное верно, однако не передает смысла тех нескольких минут. Через несколько тактов после вступления Марии Илья почувствовал, что погрузился – или вознесся – в небесный океан, где нет места страданию и заботам, вернее, они тоже будто преобразились, на них упал неземной свет. После этой музыки, к тому же услышанной вблизи, когда ты присутствуешь при самом акте рождения этих ангельских мелодий, где и каждый пассаж полон глубокого смысла, когда тебя подхватывает мощной, свежей, теплой, радостной волной и в душе звучат вместе молитва и надежда, после такой музыки каждый опьянен навечно, он уже никогда не вернется к прежнему миру – ведь на краткий миг перед ним распахнулись врата самого рая… Так вдруг становится ясно, что нет и не может быть ничего выше этого! Все – бледнеет, все исчезает рядом с абсолютным счастьем. И та, которая была причиной высокой радости, уже надолго, может навсегда, тоже возводится в ранг абсолюта, и другое, мирское, плотское счастье с ней кажется невозможным, да и ненужным!
На какое-то время Илья потерял Марию из виду. События, свалившиеся на него внезапно, так противоречили всему радостному, что происходило вокруг – июньским весенне-летним хлопотам, встречам с Марией, школьным выпускным экзаменам с обязательным ночным путешествием на Красную площадь, подготовкой к экзаменам на географический факультет МГУ. Он с родителями почти год как жил на новом месте, неподалеку от бывшего Центрального аэродрома, и то, что происходило на Садовой, как-то выпало из поля его зрения. А случилось то, что любимый его Лека, измученный ежедневными поездками в далекий загород, куда новый вождь перенес – ближе к природе – Минсельхоз, чувствовал себя все хуже. Несколько раз осматривался у врачей, о чем до Ильи доходили скупые сведения. Но в один из июньских дней мать, придя с работы раньше обычного, оторвала Илью от учебников, и они поехали в далекую больницу к Леке.
Войдя в палату, Илья испытал потрясение. Не осталось почти ничего от его любимого деда Леки, с которым столько хожено по лесам и московским переулкам. Похудел и осунулся он страшно; слабая улыбка, которая появилась на его губах при виде родных, только подчеркивала ужасное положение. А ведь ему не было еще и шестидесяти! Так быстро все случилось – жаль, что среди своих забот он за все это время видел его один раз, забежав на Садовую, когда оказался поблизости. Но тогда, в марте, Лека выглядел совсем иначе, ни о какой болезни не шло и речи.
Обратно Илья ехал подавленный и молчал. По сути, это было прощанием, Лека уходил из жизни, из этого мира, да и в его судьбе предстояли большие перемены.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































