Текст книги "Из тьмы и сени смертной"
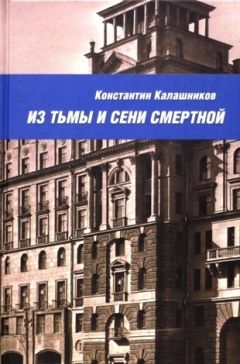
Автор книги: Константин Калашников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Гости разошлись, дядя Игорь вызвал такси и поехал с Володей отвозить Анастасию с ее инструментом в общежитие. Илья поймал на себе быстрый, внимательный взгляд Марии. Но родители его еще бодрствовали, горел свет в их спальной, они тихо переговаривались о чем-то; возможно, обсуждали неурочный вечерний звонок. Сердце его бешено колотилось, дрожащими руками он постелил постель, демонстративно громко улегся спать.
Мария тоже ушла в свою комнату, которую отделяли от комнаты Ильи лишь десятка два шагов по линолеуму столовой, положенному на почти не скрипевшие половицы. Но он отметил, что она слишком плотно притворила за собой дверь – означало ли это что-то или то была случайность? Тогда как нужно было понимать ее быстрый, необычный взгляд?
Еще со «времен Майн Рида» Илья запомнил, что все важное в жизни свершается около трех пополуночи. Именно этот час выбрал он для своей отчаянной акции. И всего-то от спящей (а может, ждущей объяснения?) Марии его отделяет одна столовая, которую можно пройти на цыпочках, никто не услышит… Но что, если она его прогонит или подымет шум? Пропали все отношения… Но так не бывает! А как бывает? Что говорят в таких случаях? Как себя ведут? Все эти фразы из классиков, он чувствовал, не годились. Вот если бы как безукоризненный де Марсе в бальзаковской «Златоокой девушке»…
Он вспоминал своих старших сверстников, но у тех, кроме похвальбы и фанаберии, мало что имелось за душой. Те же, кто этот самый опыт приобрел, благоразумно помалкивали. Вообще в «литературе» недостатка не было, та же « Сельская Венера» Мопассана ( хотя что там почерпнешь, в этой истории про старого козла), а вот «жизни» – явно недоставало… Ну да, не хватало у него этого дурацкого жизненного опыта, который Илья немного презирал, надеясь до всего дойти самому. Конечно, если уж действовать, так – надежно, решительно, но – не избито! Вот как Нельсон в «Леди Гамильтон»… Нет, все не то, не то… Разве что «Касабланка»… Но это вообще не его ситуация…
Так он ворочался, перебирая варианты, пока под утро, забыв про свои коварные планы, не заснул…
Но вот тут-то и кроется самая большая загвоздка. Кто, собственно, сказал, что он уснул и проснулся лишь в девять? Это кто-нибудь видел? То есть кто на свете может подтвердить, что он спал все это время как убитый? А если спал, то почему еще и через два дня коленки у него были в ссадинах, руки-ноги поцарапаны, да так, что следы еще неделю оставались? Откуда, наконец, это видение – светлеет, как бывает в конце ночи, но еще до зари, спящий сад, журчит фонтан, утренний туман над гладью бассейна, тихий плеск воды, обнаженная юная купальщица на фоне темных елей сходит по ступеням, с ласковым вздохом ложится на эту пошедшую круговыми складками гладь? Зачем все мифологические сюжеты, все рыцари, герои, пастухи и даже переодетые боги, если – вот она, прекрасная действительность?
Видение преследовало Илью много лет, сводя с ума своей неповторимостью, неизвлекаемостью из памяти, подобно мине, которую невозможно разрядить, надежной укрытостью среди радостных, но все же так уступающих во всем этому мигу будней (не говоря уже о буднях более поздних и порой вовсе безрадостных). Ведь от того, видел он ее или нет, бодрствовал, сидя в какой-то своей засаде, где весь исцарапался, или же спал и грезил, зависело, как ни странно, решение многих жизненных вопросов. Как судьба Вселенной по одной из теорий определяется тем, что происходит в ничтожные миги при ее рождении, так и вся дальнейшая жизнь Ильи зависела от решения одного этого вопроса: да или нет? Бред и отроческие глупости, скажет кто-то, протащенные зачем-то по всей жизни! О, если б так!
Но проза жизни заключалась в том, что Илья действительно «потерял», причем в самом обычном смысле, к тому же по причинам, от него не зависящим, Марию. Дело в том, что вернувшийся в гостиницу Николай Георгиевич, ознакомившись с полученной на его имя официальной телеграммой, в которой требовалось его немедленное возвращение, созвонился кое с кем в Москве и понял, что грозящие ему неприятности оказались еще серьезней, чем он думал: удар был направлен опытной рукой и шел с самого верха. Не желая ни обременять никого излишними заботами, ни портить отдых Маше, он довольно рано заехал к ним за Марией, сразу все понявшей. Отец Ильи отвез их на аэродром, к первому рейсу на Москву. Мария же после звонка из аэропорта во Фрунзе и второго – к директору иссык-кульского санатория дождалась местного самолета, который и умчал ее к синим водам сказочного озера и сверкающим громадам Тянь-Шаня над ними – увы, без своего горячо любимого деда.
В девять, когда Илья наконец вырвался из объятий утренних сновидений, дом был пуст. Он еще успел застать убегавшую на работу мать, которая и поведала ему о случившемся.
Мария уехала, но довольно скоро Илья почувствовал, что прежняя жизнь продолжаться не может. Те дни сдвинули что-то, разбудили дремавшие силы, придали определенность мечте. Если все-таки пожертвовать точностью (а это так приятно в мечтах!), предстояло отправиться на завоевание столицы – подобно героям Стендаля, но с одним важным отличием – он не был честолюбивым сыном плотника, он просто должен был отвоевать ее, столицу, назад, вернуть ее. Ведь мир, казалось, совсем недавно почти лежал у его ног. Все это южное пребывание, пусть исполненное радостей, можно было рассматривать если не как затянувшиеся почти на четыре года каникулы, то уж точно как занятие не совсем обязательное. Впрочем, Илья тогда еще не подозревал, скольким он обязан этим годам!
За месяцы, минувшие с того памятного визита, Илья сильно изменился. Хотя он не видел больше ни Владимира, ни Анастасии, ни Марии – обмен новогодними открытками не в счет – и на первых порах в его поиске «своего пути» было что-то от подражания, тот летний вечер дал свои всходы. Литература, музыка, точные науки (в которых он искал стройности и отдохновения, ибо формальные трудности преодолевались шутя) стали не просто изысканным развлечением. У него никак не выходила из памяти пульсирующая жилка на виске Анастасии, он пробовал пробиться дальше, чем это принято обыкновенно и достаточно для похвал учителей да приличных оценок. К частью, в домашней библиотеке было много хороших, добрых нравственно, «правильных», в лучшем смысле этого слова книг. И не только литература художественная, с которой все более-менее ясно. Ведь и научные книги, как известно, несут нравственное начало, и не малое, побуждая к тому же к действию, без которого все вырождается в болтовню. География, история, геология, маркшейдерское дело, экономика, политика, даже история дипломатии (а национальные интересы необходимо отстаивать жестко и умело, пользуясь всем арсеналом знаний, – об этом с ним не раз говорил отец, в свое время чуть было не перешедший на дипработу) были представлены весьма полно, в том числе редкими дореволюционными изданиями. Читал Илья чрезвычайно быстро, знания соединялись в его памяти, образуя порой причудливые сочетания; многим он был обязан именно этому году. Захаживал он, и не раз, к уже помянутым знакомым и родственникам, у которых было кое-что из русской философии начала века – и не только «Общее дело» Николая Федорова. Брал книги на дом, не особенно сие афишируя. Искал корни, связи, параллели, искал героев 1812 года, Крымской войны, Порт-Артура в тех, кого мог увидеть, в родственниках и знакомых. Командующий округом, статный и суровый генерал, напоминал ему князя Багратиона, как он его себе представлял, кое-кто из виденных офицеров – тех или иных толстовских героев, даже эпизодических. Какова была радость Ильи, когда однажды он услышал от одного майора интонации поручика Несвицкого! А уж от лермонтовского Максим Максимыча в четверти старослужащих офицеров что-то так и проскальзывало! Разные мысли овладевали тогда Ильей – ведь сколько выкосили войны и революции, и все равно такие связи с прошлым остались! Один народ был и есть – и речь его, вплоть до старинных оборотов, и отношение братское друг к другу, и многое в быте – зачем же тогда столько жертв, ради чего? Такие пространства – он видел их, они жили в нем, такие богатства – он верно знал про них, такая мощь – и про «мощь» он тоже знал, из самых первых рук, столько талантов – неужели все это может быть потеряно, обрушено когда-нибудь?
Но и что касалось его самого, то ведь ясно было – рано или поздно и ему предстояли серьезные испытания, и он готовил себя к ним, чувствуя к тому же, что период благополучия и обеспеченности может окончиться в любую минуту. До него долетали слухи о том, что дела Николая Георгиевича внезапно и резко ухудшились – значит, это вполне может произойти и с его отцом, с его семьей. Признаки такого будущего просачивались через неплотно прикрытые двери кабинета. Они напоминали ему осень сорок девятого, когда в еще детском сознании из обрывков разговоров и недомолвок создавалась картина возможной катастрофы. Сейчас все обстояло иначе – не те времена, не те ставки. Но принципиальность и преданность только делу, а не конкретной личности были не в почете. Утвердившийся на самом верху властный самодур, с которым у отца Ильи сложились, мягко говоря, не лучшие отношения – последний не скрывал своего презрения к хитрому демагогу, у которого к тому же и руки были по локоть в крови, – уже успел наворотить горы преступных глупостей. Только случайность спасла его прошлым летом – фортуна порой благоволит к шутам. Изменения в жизни, как подсказывала Илье интуиция, казалось, неминуемы, и все-таки гром грянул внезапно.
В конце августа отъезд, притом срочный, стал неизбежен. Илья не спал всю ночь, думал о предстоящей жизни, строил планы – ведь летели они в Москву, в полную неизвестность, бросая здесь решительно все, забирая только самое необходимое. Утром, едва начало светать, он вышел в сад, где провел столько чудесных дней, сад, который они уже сегодня должны будут покинуть – навсегда! И тот, будто поняв чувства Ильи, тоже прощался с ним. Потянуло легчайшим ветерком, который бывает только на заре, – возможно, это был прощальный привет его последней южной ночи, когда первые, робкие еще лучи дневного светила пронзают мышиный сумрак утра.
Выходил Илья и ночью, когда луна стояла уже высоко над дувалом, но высокая старая ель оставалась еще справа, а под елью, в глубокой тени, прощалась с ним ветхая летняя печка, служившая все эти годы лишь декорацией – на ней за все время так никто ничего и не приготовил.
Он знал, что ближе к утру луна перейдет большую ель, окажется с другой ее стороны, а затем поочередно повисит над каштаном, алычой, старым деревом грецкого ореха, и к этому часу небо проснется, а распростертые ветви четко обозначатся на фоне светлеющего, как в московском планетарии, сине-розового небесного купола.
Какое же все-таки счастье, что он не спал в ту ночь! В тот памятный час – возможно, впрочем, все длилось лишь мгновения – слабеющий сумрак ночи и набирающий силу юный день соединились в одном месте, в одном небе и в какой-то миг стали равны друг другу. Великая и редчайшая картина развернулась, раскинулась над ним – награда глазам, восторг душе! Плавно и торжественно переходила в утро ночь, широкое небо, полное покоя, богатое нежными красками, налитое до краев тишиной, нарушаемой лишь последним в его жизни плеском любимого фонтана, было вверху. Не разбудить бы ему своим шепотом зари, еще сонной, медленно розовеющей, с тысячью оттенков и разнообразными легчайшими полосами высоких перистых облаков – и все это на полнеба, на полжизни, и все это – в последний раз!
Когда за ними ближе к вечеру пришел жесткий, резко бравший с места дежурный «газик» – остальное было уже реквизировано – и они выезжали за ворота, чуткий к будущему Тарзан громко и печально лаял, сказав этим лаем все – его мир тоже рушился, его, верного Тарзана, оставляли, не брали с собой, его преданная служба и любовь не нужны были более никому! Но Илья, у которого сжималось сердце при виде любимой собаки, знал, что рано или поздно вернется – если и не в этот дом и сад, то в этот город. Он почему-то твердо был в этом уверен.
3
Москва осенью пятьдесят восьмого встретила Илью дождем – серенький денек, обилие машин, напряженный ритм повсюду – здесь даже люди по улицам ходили быстрее. Школа сразу заладилась, Илья знал куда больше положенного, тут проблем не было. А вот с жильем проблемы были – пока что они втроем жили у приютившей их бабушки, спали на полу вповалку; бабушка говорила – как в войну. Тогда тут проездом частенько останавливались родные и знакомые – мужчины в шинелях, женщины с узлами и чемоданами, а бабушка шила на вечном «зингере» гимнастерки для фронта.
Но зато консерватория, театры – все было в получасе ходьбы, чем Илья и пользовался вовсю, не торопясь возвращаться в перенаселенную квартиру, на свой сундук. Уроки делал в школе, оставаясь на лишний час. Его «Циммерман» пришлось, как и многое другое, продать в Ташкенте. Но в комнате для прислуги, где родители спали на полу и где, сидя на сундуке, занимался Илья, стояло старое, без трех пластин на клавишах, вывезенное еще из Алма-Аты пианино с бронзовыми подсвечниками. Занимаясь по мере возможностей и музыкой, он разыскал, не без труда, все игранные в ту памятную ночь вещи, надеясь со временем найти Марию, которая, конечно, где-то здесь, – он только пока никак не мог раздобыть ее новый телефон, так как Лиза с семьей уехала далеко и надолго; ее отец был теперь военный атташе в одной из северных стран. А разыскав, наиграть ей, чуть небрежно, именно то, что звучало в ту ночь, – примерно так, как это происходило в пленившем его фильме «Касабланка» с Хэмфри Богартом и Ингрид Бергман. А игрались тогда, как он помнил, среди прочего, какой-то редкий Григ – романс в обработке автора и «Остров радости» Дебюсси. Последние ноты он тоже достал, но до конца не осилил. А все потому, что приятнее было не учить, а вспоминать, вспоминать…
О, как вся эта музыка пришлась по душе, по сердцу, какая сказочная то была ночь! Он помнил, что даже цикады в траве смолкли, даже фонтан падал тише. Около той ночи Илья потом много напридумывал, чего не было, да и быть не могло, но это уж так, к слову.
Во всяком случае, одно последствие та ночь уж точно имела. Роясь в нотах и пробуя все подряд, Илья обнаружил в себе некоторые способности к фортепианной игре, которые никак не следовали из его довольно скромных официальных успехов в музыкальной школе, куда, проявив твердую волю, определила его мать. Без всяких учителей он выучил, не отдавая отчета в безумии своей затеи, довольно сложные вещи, слушая их в концертах и в записях. Его преподавательница, войдя однажды в класс, где уже сидел Илья и лихо, точно попадая на клавиши, пусть и коряво, играл известнейший ре-диез-минорный этюд Скрябина, просто лишилась дара речи – ведь они месяц без особого успеха мучили несчастную сонату Клементи, а тут – на тебе! Так и не поняв ничего, она опомнилась и вернула Илью на землю, то есть к прежнему занудству; про Скрябина не было сказано ни слова. Илью это немного задело, но он принял условия игры и старательно продолжал изображать классического середняка-тупицу.
Поразмыслив дома, он понял мудрость своей наставницы – ведь ничего лучшего она, в сущности, предложить не могла; не играть же на экзамене Скрябина! И не беседовать на темы неожиданно открывшихся способностей – как тогда будет выглядеть педагог, не сумевший распознать талант ученика?
А Илья, влюбившийся в Клиберна, в его исполнение, в его судьбу, тайно мечтал о многом – малейшая возможность, открывавшаяся ему дома, была использована, и старенькое, с оторванными пластинками пианино частенько оглашало узкое ущелье двора звуками, которые не часто касались слуха его обитателей, – Шопен, Скрябин, Дебюсси (прости, Муцио Клементи, раз тут такая гулянка пошла)…
Романтические настроения нагнетала и обстановка: комнатка, где стоял инструмент, была хоть и крошечная, но с высоким потолком, а узкое, почти тюремное окно на уровне человеческого роста имело необычный покатый подоконник, так что все в целом напоминало то ли монастырскую келью, то ли тюремную камеру, только заключение было добровольным, а собственная судьба получала оттенок чего-то возвышенного, не от мира сего, чему немало способствовал и переводной Байрон, и Блок в добротных дореволюционных изданиях.
Наибольшую же радость доставляла Илье четвертая баллада Шопена; ноты купил ему его дорогой Лека, с которым они вместо прежних вечерних прогулок ходили иногда по концертам. Заприметив эти ноты в киоске между этажами в БЗК, Илья посмотрел на Леку такими глазами, что отказ был невозможен. И первые же звуки баллады – начало пошло легко – напомнили ему апрельское ташкентское утро, виртуозного и по-восточному учтивого Рафаила и многое, многое другое… Да, это было его, он уже любил и всегда будет любить эту вещь, которая выделяется даже среди шопеновских шедевров. Когда он играл ее – да будет позволено нам за неимением лучшего употребить это слово, – то возможное будущее в сжатой, но такой ясной форме являлось ему, что все его существо охватывала настоящая дрожь печального, таинственного восторга. Он понимал тогда, что с этой музыкой он уже не один, даже если судьба обречет его на одиночество.
Хотя сентиментальность не была свойственна Илье, но поневоле приходили на память прежние, детские годы, когда он выходил зимой с Лекой, выходил просто посидеть в небольшом, но уютном парке Эрмитаж. Он обнаружил тогда, что помнил все, все зимние и летние вечера, тени, блики – все пути души от вставания до укладывания в постель рядом с окном, в которое смотрели зимой и летом, в упор, пристально, огромные, широкие, черные окна-глаза дома напротив; все голоса на улице, все звуки и знакомые шумы в квартире, и ему радостно было сознавать, что он точно знал смысл каждого из них, легкие запахи с кухни, когда бабушка жарила невероятно сочные огромные котлеты, щелчок английских замков, сипение крана в кухне, единственного в квартире, запахи в прихожей, добрые духи каждой комнаты, даже низенькую чугунную тумбу непонятного назначения на углу Каляевской и Садового кольца, легенды о Барсовой и Цареве, живших в двух шагах, запахи в булочной, прилавки ближайших магазинов, куда он ходил с бабушкой, ее черную хозяйственную сумку из какой-то дерюжки, и снова запахи, и снова звуки…
Нечто похожее происходило и в области литературы. Илья в своих хождениях по смешанным компаниям, часто с богемным оттенком, познакомился с неким Володей, бывшим консерваторцем, переигравшим руку, а теперь студентом мехмата МГУ и потрясным гитаристом. Наделенный разнообразными талантами, Володя к тому же был в курсе всех интеллектуальных течений, владел и языками. Не раз «выезжал», не понаслышке знал многих авторов, о которых прочие только болтали. Да и в музыке постоянно проявлял себя – однажды, прослушав одну из симфоний Малера, тут же наиграл на гитаре все основные темы. Так вот, дома у нового знакомого, снимавшего квартиру в одном из новых районов, Илья наткнулся на читаемого тогда (и почитаемого многими) «Доктора Фаустуса» Том а с а Манна. Поразился книге, умолил дать на дом. Получив согласие, тут же погрузился в интеллектуальный океан, вдохновленный, как известно, отчасти и Достоевским. От чего была двойная польза, ибо Достоевского в то время Илья как-то сторонился, оберегая себя от его взвинченного и разрушающего, как он считал, стиля. Так Илья погрузился в «пучину», лишился интеллектуальной невинности, почувствовал, что попал на «нервный узел» эпохи. Знакомство с Германом Гессе и Рильке продолжило этот путь.
Пытаясь передать атмосферу далеких уже, но живущих в душе сладкой занозой эпохи начала шестидесятых, нельзя не сказать о веяниях, разлитых в самых разных слоях общества, а более всего в том его слое, который считал себя двигателем прогресса, авангардом борьбы с «тоталитаризмом», «культом личности» и чем там еще. Не будет новостью и то, что не без усилий тех же кругов уже назревал, созревал, а кое-где даже прорывался наружу новый «культ», оказавшийся несмешной пародией на прежний; ведь тут был, по слову Шолохова, «культ без личности». По сути, оказавшийся его предметом шут использовал укорененную за века в народе святую веру во власть, в мудрого и справедливого царя. Да разве не готовы были те, кто свершил столько, потрудиться еще пару десятилетий – ведь цель-то какая! Вековечная мечта человечества коммунизм – это вам не шутки! Под такую идею можно и кредит всего общества получить. А там, как говаривал Ходжа Насреддин, либо ишак сдохнет, либо… В общем, что-то вроде финансовой пирамиды, только в области идей. Илья знал предмет, что называется, изнутри, знал и то, что в свое время готовилась куда более масштабная и продуманная реабилитация, да только верный ленинец и бескомпромиссный апологет кукурузы, обладавший, однако, дьявольской интуицией, когда дело касалось его личной безопасности, «перехватил игру», уничтожил вагоны «артефактов» и вышел, насколько это было возможно, сухим из воды. Вообще внешне все выглядело как чуть ли не штурм Вселенной – разумеется, под руководством партии и чуткого ко всему новому нашего дорогого Никиты Сергеевича…
Не следует, впрочем, думать, что юный наш герой обладал какой-то врожденной нерасположенностью к свободе, счастью, которое обычно принято сопрягать с первой. Но что-то во всей этой атмосфере разгуляй-поля было не так. Конечно, зимы были снежные, лето теплое, всюду шло – как бы это сказать – какое-то оттаивание, возможно грозящее будущей распутицей, да кто ж о том думает, когда в кои-то веки на солнышке можно погреться! Рождались новые формы, расцветали новые чувства, впереди грезилась сплошная карнавальная ночь, неизбежное обилие мяса и молока; в кругах более продвинутых возлагались надежды на атомную энергию, кибернетику, космос, целину, тем более что завтра… пардон, послезавтра обещан был «коммунизьм», как говаривал не шибко грамотный вождь. И все эти откровения миллионы то ли настоящих, то ли будущих строителей «светлого завтра» старательно конспектировали, заучивали на обязательных политчасах. Илья, не избежавший общей участи, отчетливо понимал, что подобные пошлости не могут не разрушить глубинных устоев любой серьезной политики; что общество в целом, не только его «авангард», становится заложником шута-авантюриста, который и идеологов подбирал себе по плечу.
В общем, было ясно одно: новое время, новая эпоха уже наступили, но висел вопрос: не обман ли это, не предательская ли трещина в бытии? Да, из нее валит теплый, согревающий всех пар, но не отравлен ли он, как и множество цветов-пустоцветов, что в изобилии покрыли окрестности? И не смахивает ли все это на гравюры Доре к «Аду» Данте, где по краям трещин в прежнем монолите на склонах холмов сидят ничего не подозревающие граждане, одурманенные ядовитой хрущ-травой?
Да, конечно, утрируем, но не более чем сама судьба, – разве могло присниться даже в страшном сне, что к штурвалу сложнейшего океанского лайнера проберется смешной пузатый мужичок и начнет жать по вдохновению на все кнопки и дергать все рычаги и тумблеры подряд, да еще отчебучивать дурацкие, унижающие страну выходки? Надо сказать, что момент этот борец за мир во всем мире и спаситель цивилизации выбрал удачно. Кто-то может сколько угодно язвить по поводу «нивы народных упований», но ведь надежды-то были, и усталость за сорок лет накопилась огромная. И наконец, хотелось просто – пожить! Вот живут же, например, те же западные немцы – кто ездил, тот знает, а кто не ездил, тот мечтает, исходя из отрывочных восхищенных рассказов, так что еще лучше получается. И слава богу, что свой нормальный мужичок наконец-то у власти – устали мы все от этих гениев и тиранов. А если по-честному – как пойдешь против, как возразишь? Партия и вождь лучше нас, грешных, знают, что нам надобно. Народу – жратву и барахло, тем, что поэкзистенциальнее, тем – «жить, чтобы жить», и опять же барахло, только классом повыше. А всем вместе – «коммунизьм», уже при «этом поколении».
И надо сказать, почву под ногами кукурузник наш чувствовал замечательно. Ведь еще и наивность была, и вера, и грамотность – очень своеобразная, высокая техническая грамотность, однако без смелости и глубины в социальных прозрениях, то есть именно та, которая позволяет сильно уважать себя, и по справедливости, но делает слепым в вопросах социальных, даже по сравнению с обычным невеждою, наделенным здравым смыслом. По сути, и социальные исследования в стране не велись, функции исследователей имитировали специально подобранные люди, профессиональные «марксоведы», заодно и старательно «подчищая» двух упрямых бородачей, ибо дело это государственное, тут особое чутье нужно. По этой причине закрывались – на всякий случай – целые огромные области исследований. Вся кровеносная система была закупорена, что, как известно, ведет к гангрене и гибели организма. В ежедневной политике обычным стал сплошной «одобрямс», а уж если кто не с нами, тот против нас… В общем, сплошная «генеральная линия партии», и не пикни, а то «сдадут куда следоват».
В полной мере ситуация прояснилась много позже. Пока что Илью занимало другое. Откуда-то, как грибы после дождя, повыползали странные субъекты, что Илья принимал как веяние времени. Однажды в кафе «Артистическое», что в теперешнем Камергерском переулке, он познакомился с неким то ли журналистом, то ли писателем, вошедшим в разговор ловко и живо, так что Илья даже не заметил, как перешел на исповедальный тон. Надо сказать, что в свои шестнадцать выглядел он года на три старше, одет был прилично, к тому же за душой у него было дюжины три стихотворений, некоторые не без искры Божией, одна незаконченная поэма, написанная гекзаметром, и, разумеется, куча идей и проектов. Все это придавало ему известную уверенность, так что Илья в собственных глазах вполне мог сойти за молодого начинающего поэта, со всеми особенностями этого положения. Говорили они обо всем на свете, друг другу понравились, и новый знакомый пригласил его зайти к нему в редакцию поблизости. Особых откровений от него Илья так и не услышал, тот эфемерный контакт с журналистом имел только одно последствие – Илья понял, что где-то рядом с ним, внутри государственного организма, в центре столицы, существуют вполне легально люди, не разделявшие убеждений его, Ильи, круга, – по крайней мере, те, которые он должен был разделять. Короче говоря, есть люди, желающие чего-то другого, и сами эти люди не такие, как большинство. Чего же они хотят? И что они могут? Сам-то Илья время от времени почитывал книги, явно относившиеся к разряду запрещенных, хотя ничего особенного он там не находил. Все это имело место, притом куда острее, если не с ним, то с его родственниками, и притом не так давно, в масштабах исторических. Часть их были, что называется, настоящей «белой контрой», а один даже дал имя восстанию, вошедшему в официальную историю. В фурмановском «Мятеже» половина героев без труда узнавалась – то были друзья и знакомые его бабушки и двух ее братьев. Да и вообще все так переплетено и тогдашние ставки были так высоки, что вся теперешняя оттепельная фронда – как, впрочем, и энтузиазм – выглядела в его глазах дешевкой. А кое-что из быта богемно-диссидентских компаний смотрелись просто дурной пародией на «Бесов», когда революционная паства ожидает великих откровений от человека, приехавшего «оттуда». Все эти вечные страхи, «это не телефонный разговор», многозначительные намеки и умолчания казались детскими играми с целью возвыситься в собственных глазах. Встречались, конечно, и посерьезней, но те особо не светились и вели себя иначе, да и мало их было. Дела делались не так, не там, и решения принимались не в этих «салонах», уж это Илья знал хорошо.
Впрочем, все эти хождения не занимали Илью всерьез, последствий и продолжений особых не имели, интересных знакомств, если не считать уже помянутого Володю-гитариста да еще одного музыканта, с которым Илья познакомился в марте шестидесятого, не приносили. О мартовском визите в один дом, впрочем, стоит рассказать особо. В тот день он встретился с обычными своими спутниками – Мариной, начинающей поэтессой и по совместительству чтицей-импровизаторшей, и ее приятелем – художником, молчаливым и вечно пьяным гением, способным, на спор, не отрывая пера от бумаги, изобразить кого и что угодно, вплоть до клубка кошек, занимающихся любовью. Эта странная троица неплохо смотрелась, и на небесталанного, хорошо начитанного Илью, как ни странно, тоже делали ставку, хотя никто не мог толком сказать, в том числе и сам Илья, что же именно от него можно ожидать.
На улице сверкало мартовское солнце, была середина рабочего дня, а здесь, в одном из переулков рядом с Большой Бронной, на первом этаже старинного здания с широким коридором, откуда дверь вела в большую залу с зеркалами, старинной мебелью, – здесь время остановилось, можно было снимать кино о последних днях империи. Желтоватые, неплотно прикрытые шторы пропускали свет с улицы – хотя горела и люстра, и еще пара светильников по стенам, – в его лучах вились струйки сигаретного дыма; туманились высокие зеркала, падали многозначительные слова, бросались и ловились взгляды. На столиках – початые бутылки, окурки, за столами в креслах в разнообразных свободных позах – десятка два занесенных ветром времени из начала века, из тридцатых годов, да так и забытых здесь странников. Когда представленный хозяйке салона Илья немного освоился, его познакомили с парой споривших о роли великого Шютца – один из них, полный и невысокий, к тому же основательно поднабравшийся доктор музыковедения, объяснял другому, высокому, в светло-сером костюме и рубашке с отложным воротничком, что-то о полифонии; школьных знаний Ильи явно не хватало, чтобы поддержать пьяно-ученый разговор. Толстый был, конечно, настоящий профи, но и тот, в сером, судя по выражению глаз, вполне его понимал, так что Илья оказался бы в затруднительном положении, не возьми он на всякий случай бутылку армянского коньяку – к тем бутылкам, что Марина выставила на общий стол в качестве приношения. Музыковед, хотя и стоял с трудом, налил всем очень быстро и точно и, произнося слова отчетливо и трезво, модулируя приятным баритоном, обратясь к Илье, спросил:
– А вы, дорогой Илья, чем изволите заниматься? Уж не собрат ли наш по несчастью?
Илья, услышав этот вопрос, по привычке неопытных людей стал много и подробно говорить о себе, своих мыслях и занятиях, ведь тогда он только что закончил читать «Доктора Фаустуса» и осваивал «Игру в бисер». Толстяк, для которого это было азбукой, перебил его и не без интереса спросил, не желает ли собеседник всерьез заняться музыкой, не хочет ли он подналечь на теорию, – тут можно было бы помочь в смысле частных уроков. Предложение было лестное, но к такому обороту он готов не был, догадываясь, что это может означать серьезные перемены. Оценив вежливый отказ Ильи и сообразив что-то про себя, толстяк добродушно усмехнулся, налил всем коньяку, предложил тост – за него, Илью, которому «все еще предстоит», но в которого «можно и хочется верить», что он «видит по глазам».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































