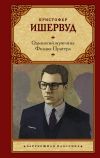Текст книги "Фиалка Пратера"

Автор книги: Кристофер Ишервуд
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Мы оба рассмеялись.
– Я лишь пытаюсь анализировать, что куда ведет, – ответил Бергманн. – Хотя за вас мне бывает очень тревожно.
Бергманн тревожился не за меня одного, он тревожился за всю Англию.
Куда бы он ни направился, он всюду пристально наблюдал за тем, что звал значительным феноменом. Феноменом, как я вскоре выяснил, могло стать что угодно. Например, туман. Как и большинство жителей Центральной Европы, Бергманн свято верил в то, что это – наше обычное погодное явление. Мне было бы жаль его разочаровывать, и, как на счастье, зима на туманы не скупилась. Бергманн, видимо, решил, что они накрывают не только Лондон, но и весь остров, рождая в англичанах прочие нелицеприятные черты вроде замкнутости, ханжества, политической нерешительности, жеманства и отказа смотреть в лицо фактам.
– Туман создали сами англичане. Они питаются им, как этаким горьким супом, насыщаясь иллюзиями. Это их национальное платье, скрывающее невероятную наготу трущоб и скандально несправедливое собственничество. А еще это джунгли, в которых Джек-потрошитель вершит свой кровавый промысел, облаченный в элегантное пальто участника фондовой биржи.
Мы вместе осматривали достопримечательности. Бергманн показывал мне Лондон – тот Лондон, который он создал для себя в воображении, – мрачный, затейливый, зловещий городок из Диккенса, немых немецких фильмов, из Ведекинда[32]32
Франк Ведекинд (1864–1918) – скандально известный немецкий поэт и драматург, предшественник экспрессионизма, пьесы которого (например, «Ящик Пандоры») вызывали бурную общественную реакцию и недовольство критиков.
[Закрыть] и Брехта[33]33
Бертольт Брехт (1898–1956) – немецкий драматург, поэт и прозаик, идейный наследник Ведекинда, автор спорных теорий театра и политических взглядов. Основатель театра «Берлинский ансамбль».
[Закрыть]. Бергманн неизменно выступал гидом, а я досужим странником, и когда бы я ни спросил, куда мы идем, он отвечал: «Погодите» – или: «Скоро увидите». Частенько мне казалось, что он и сам не знает, куда мы движемся, пока мы не оказывались на месте.
Мы посетили Тауэр, где Бергманн рассказал мне об истории Англии, сравнив правление Тюдоров с режимом Гитлера. Он как данность воспринял то, что шекспировские пьесы написал Бэкон с целью политической пропаганды или что королева Елизавета была мужчиной. Он даже развил теорию о том, что Эссекса обезглавили за шантаж, мол, он грозил монарху раскрыть их гомосексуальную интрижку. Не без труда я вытащил Бергманна из Кровавой башни[34]34
Часть лондонского Тауэра.
[Закрыть], где он вдохновился на зловещую реконструкцию убийства принцев[35]35
Ставший в 1483 году королем Англии Ричард III поместил в Тауэр своих племянников Эдуарда V и Ричарда Йоркского под предлогом их низкородства. Предположение об их убийстве остается недоказанным.
[Закрыть], удивляя прочих посетителей: они-то видели коренастого, лохматого мужчину, по-немецки театральным шепотом молившего невидимого палача сохранить ему жизнь.
В зоопарке он сравнил бабуина, жирафа и верблюда с тремя нашими ведущими политиками и публично обвинил их в преступлениях. В Национальной галерее объяснил, ссылаясь на портреты Рембрандта, свою теорию съемочных ракурсов и освещения при крупном плане – да так громко и убедительно, что вокруг нас, забыв об экскурсоводе – немало раздраженном, – собралась толпа.
Иногда ему удавалось вытащить меня на ночную прогулку. После долгого дня она очень выматывала, зато Бергманна улицы завораживали, усталости он не показывал и домой возвращаться не хотел. Он заставлял меня краснеть: с детской прямотой обращался к прохожим с интересными лицами и тут же, не стесняясь, словно лектор, рассказывал мне о них. Как-то вечером в автобусе мы повстречали влюбленную пару: девушка сидела прямо напротив нас, а ее кавалер стоял рядом, держась за петлю-поручень. Бергманна они привели в восторг.
– Видите, как он стоит? Они не смотрят друг на друга, словно незнакомцы, а сами нет-нет да и обменяются прикосновением, как будто нечаянно. Смотрите, как шепчутся. Так разговаривают счастливые, оставшись наедине во мраке. Они уже лежат в постели, в объятиях друг друга. Доброй ночи, дорогие мои. Не станем вмешиваться в ваши тайны.
Бергманн говорил с таксистами, со студентами-медиками в барах, с пожилыми полковниками, возвращающимися из клубов, с клириками, с проститутками на Пикадилли, с юношами, что околачивались у памятника У. Ш. Гилберту на набережной Виктории.
Я завидовал его свободе – свободе иностранца. Я бы и сам, наверное, вел себя так в Вене или Берлине. Удача или чутье чужеземца неизменно помогали Бергманну выбрать из серой толпы необычного человека: констебля, увлекающегося акварельной живописью, попрошайку, владеющего классическим греческим. И так он сам же вводил себя в заблуждение, обобщая, как типичный приезжий: в Лондоне все полицейские – живописцы, а ученые голодают.
* * *
Год близился к концу. Газеты полнились оптимистическими статьями. Дела шли в гору, и Рождество обещало большие радости. Гитлер выступал за мир, конференция по разоружению закончилась неудачей. Британское правительство не хотело изоляции, как не хотело и обещать военной помощи французам. Люди, планируя отпуска на лето в материковой Европе, суеверно оговаривались: «Если Европа еще будет стоять», мало не стучали по дереву.
Перед самым праздником мы с Бергманном на день отправились в Брайтон. Это был единственный раз, когда мы вместе покинули Лондон. В жизни не переживал ничего более удручающего. Вдалеке на устрично-серой поверхности Ла-Манша расплескалось бледное золото зимнего солнца, скрытого за высокими клубами белого тумана. Прогуливаясь по пирсу, мы остановились понаблюдать за юношей в брюках гольф и с паршивыми усами, молотившим боксерскую грушу.
– Ему не победить, – сказал я.
– Никто не победит, – уныло произнес Бергманн. – Все свое отбегали и отборолись. Финиш.
Надышавшись морского воздуха и возвращаясь в пульмановском вагоне, мы оба задремали. Мне приснился очень яркий, живой кошмар о гитлеровской Германии.
Сперва я оказался в суде, на политическом процессе. Каких-то коммунистов приговаривали к смерти. Государственным обвинителем выступала пожилая блондинка с суровым лицом; ее волосы были собраны в пучок на затылке. Она встала и, схватив одного из обвиняемых за шиворот, повела его к судье. По пути достала револьвер и выстрелила коммунисту в спину. Колени у несчастного подогнулись, голова упала на грудь, но прокурор продолжала волочь его вперед и наконец прокричала: «Смотрите! Предатель!»
Рядом со мной, на зрительском месте, сидела девушка. Я откуда-то знал, что она медсестра. Не в силах смотреть, как прокурор издевается над умирающим, она в слезах вскочила и выбежала из зала. Я устремился следом – коридорами, лестницами, пока мы не спустились в бойлерную. Здесь, как в бараке, стояли койки. Девушка, всхлипывая, прилегла на одну из них; чуть позже нагрянула компания юношей. Я знал, что они из гитлерюгенда, только вместо формы на них были лоскуты медвежьих шкур, ремни, шлемы и мечи – дешевая бутафория для массовки в «Кольце нибелунга». Покрытые сыпью и прыщами, они устало рухнули на койки, едва ли обратив на нас с девушкой внимание.
Потом я очутился на крутой и очень узкой улице. Мне навстречу выбежал еврей, прятавший руки в карманах пальто. Я знал, что кисти рук ему отстрелили, и увечье приходится скрывать, не то его опознают и линчуют.
В конце улицы я наткнулся на старуху в синей военной форме. Она плаксиво ругалась себе под нос. Это она покалечила еврея и хотела добить его, однако патроны (которые, как я с удивлением заметил, подходили к винтовке 22-го калибра) раскатились по мостовой. Слепая старуха не могла их собрать.
Затем я направился в британское посольство, где меня встретил веселый, непутевый и тянущий слова юноша вроде вудхаусовского Берти Вустера. Он обратил мое внимание на то, что стены в холле украшены картинами постимпрессионистов и кубистов.
– Послу нравятся, – пояснил он. – А как по мне, кричаще, нет?
Рассказать про сон Бергманну я почему-то не решился. Был не в настроении выслушивать одно из его запутанных и, возможно, слишком личных толкований. А еще у меня возникло странное подозрение, что это он телепатически вложил мне в голову все эти сцены.
* * *
За эти месяцы мы ни слова не услышали от Четсворта.
Он хранил величественное молчание, даровав нам полную свободу творчества. Или же просто забыл о нас за прочими делами.
Должно быть, Четсворт написал «Фиалка Пратера» на первом листе календаря на 1934 год, потому что едва начался январь, как нам принялись названивать со студии: мол, как там поживает сценарий?
Бергманн отправился на встречу с Четсвортом в «Империал буллдог» и вернулся чрезвычайно довольный собой. Дал мне понять, что Четсворт был предельно дипломатичен и показал себя человеком культурным и проницательным.
– Он понимает, – сказал Бергманн, – что режиссеру нужно время на то, чтобы следовать за своими идеями в тишине и любви.
Историю Бергманн рассказывал, я не сомневаюсь, обильно уснащая ее жестами и интонациями, и Четсворт остался очень доволен.
Тем не менее наш сценарий все еще оставался только манекеном или в лучшем случае инвалидом с механическими конечностями. Последняя сцена – месть Тони Рудольфу со счастливым концом – по-прежнему была в наметках. Никому из нас идея с маскарадом не нравилась: белокурый парик, как у знаменитой оперной певицы… Никакая бергманновская патетика, никакой фрейдистский анализ или марксистская диалектика не сглаживали очевидной глупости.
Да и Четсворт, видимо, впечатлился не так уж сильно, потому что к нам повадился наведываться Эшмид. Подход у него был чрезвычайно тактичный: началось все с чисто дружеского визита.
– Я тут мимо проходил, – сказал Эшмид, – дай, думаю, загляну. Вы с Ишервудом по-прежнему лишь шапочно знакомы?
Однако Бергманна ему было не обмануть.
– Охранка приставила к нам шпика, – мрачно произнес тот. – Значит… началось.
Спустя два дня Эшмид вернулся. На сей раз он проявил более откровенную пытливость, желая в деталях знать о последней сцене. Бергманн устроил для него представление, превзошел сам себя, но Эшмид отреагировал учтивой настороженностью.
Назавтра он позвонил ранним утром:
– Я все думал, и у меня родилась мысль. Может, Тони все это время знала, что Рудольф – принц? Сразу ему не поверила?
– Нет, нет, нет! – в отчаянии вскричал Бергманн. – Никак нет!
После разговора он остался в ярости.
– Посадили мне на шею этого холеного кретина, этого щеголеватого карлика! Как будто нам и без него ноши мало! Сидим тут, ломаем головы в борьбе за Истину!
Потом, как обычно, его гнев перетек в философское сомнение. Даже когда предлагали полный бред, отвергал его Бергманн лишь спустя часы самокопаний. Вот он болезненно застонал:
– Ну хорошо, посмотрим, что это нам даст. Погодите, погодите-ка, посмотрим… Что будет, если Тони…
В размышлениях прошел весь день.
Эшмид неутомимо названивал либо являлся лично. Нисколько не смущаясь унижений Бергманна, он фонтанировал идеями, и тогда Бергманном овладели мрачнейшие подозрения.
– Я все понял: это заговор. Чистейший саботаж. У парламентера Зонтика задание, Четсворт с нами играет. Он решил не ставить фильм.
Я был склонен согласиться, но и Четсворта винить не смел. Уж больно медленно работал Бергманн. Возможно, такой привычкой он обзавелся еще в старые спокойные деньки, когда режиссер приходил в студию и снимал все, чего касался его взгляд, а после в монтажной пересматривал историю. Я всерьез опасался, что Бергманн вскоре достигнет состояния философского равновесия, в котором любое решение будет казаться равно привлекательным и негодным, а мы зависнем где-то посередине, в неопределенности до тех пор, пока студия не перестанет присылать нам чеки.
Затем одним утром зазвонил телефон. Это был личный секретарь Четсворта. (Я узнал голос, который впервые рассказал мне о «Фиалке Пратера» в последний день добергманновского периода моей жизни.) Нас обоих пригласили на студию, на совещание по поводу сценария. Явиться просили как можно скорее.
Услышав новости, Бергманн сделался очень мрачен.
– Ну вот и все, Четсворт надевает судейскую шапочку. Это конец. Преступников волокут в суд на оглашение смертного приговора. Прощайте, Дороти, милая моя. Идем, дитя, мы должны вместе пройти на гильотину.
* * *
В те дни «Империал буллдог» все еще располагалась в Фулеме. (В пригород они перебрались только летом 1935-го.) На такси ехать пришлось долго, и по дороге настроение у Бергманна улучшилось.
– Вы прежде бывали на киностудии?
– Только раз. Давным-давно.
– Тот еще феномен, вам будет интересно. Видите ли, сегодняшняя киностудия – это поистине дворец шестнадцатого века. В нем живет шекспировская эпоха: абсолютная власть тирана, придворные, льстецы, балагуры, хитроумные и амбициозные интриганы. Там сказочно красивые женщины, там невежественные фавориты. Там великие люди внезапно оказываются в опале. Там с чрезвычайным безумием выбрасывают на ветер состояния или необъяснимо трясутся над каждым грошиком. Там невероятная роскошь, которая на деле – пшик, а за декорациями – свинство. Там секреты, о которых все знают, но молчат. Там даже есть два или три честных советника. Там придворные скоморохи, которые в шутках преподносят глубочайшую мудрость, дабы их не приняли всерьез, а оставаясь наедине с собой, они корчатся, рвут на себе волосы и рыдают.
– Вас послушать, так там сплошное веселье.
– Там отвратительно, – с наслаждением произнес Бергманн. – Мы с честью выполнили задание и теперь, как Сократ, принимаем кару тех, кто говорит правду. Нас бросили на съедение Бульдогу, а Зонтик станет лить крокодильи слезы над нашими могилами.
Снаружи студия была столь же непривлекательна, как и любое деловое здание: крупный фасад из бетона и стекла. Бергманн с такой прытью поднялся на крыльцо и проскочил во вращающиеся двери, что я долго не мог к ним подойти. Бергманн яростно пыхтел и хмурился, пока вахтер записывал наши имена, а клерк звонил наверх, сообщая о нашем прибытии. Встретившись с Бергманном взглядом, я широко улыбнулся, однако он не ответил. Явно планировал финальную речь в свое оправдание. Я нисколько не сомневался, что это будет шедевр.
Четсворт встретил нас, сидя за большим столом. Первым делом, войдя в кабинет, я увидел его подошвы в клубах сигарного дыма. Носки коричневых туфель, таких элегантных и начищенных, торчали строго вверх, словно пара украшений, рядом с двумя бронзовыми лошадьми, что терлись шеями над чернильницей. На некотором отдалении от Четсворта, но все же более-менее за столом, сидели Эшмид и незнакомый мне толстяк. Для нас уже приготовили стулья – они одиноко стояли посреди кабинета. Нас будто и впрямь ждал трибунал. Я боязливо жался к Бергманну.
– Здравствуйте вам обоим! – очень радушно приветствовал нас Четсворт, щекой, точно скрипку, прижимая трубку телефона. – Секундочку. – Он заговорил в микрофон: – Прости, Дейв, ничего не попишешь. Нет. Я уже решил… Да он, поди, сказал тебе об этом еще неделю назад. Ну, значит, я ничего не видел. Просто дрянь… Дружище ты мой, я ничего не могу поделать. Откуда мне было знать, что они выдадут такой мусор? Чертовски ужасно… Скажи им что угодно… Мне плевать, пусть обижаются сколько хотят. Поделом, черт побери… Нет. Прощай.
Эшмид легонько улыбался. Толстяк скучал. Четсворт убрал ноги со стола, и мы увидели его крупное лицо.
– У меня для вас плохие новости, – сообщил он нам.
Я мельком глянул на Бергманна; тот буравил Четсворта пристальным, как у гипнотизера, взглядом.
– Мы изменили график. Через две недели приступаете к съемкам.
– Невозможно! – выпалил, как из пистолета, Бергманн.
– Еще бы, – усмехнулся Четсворт. – С нами вообще работать невозможно… Полагаю, вы не знакомы с мистером Харрисом? Он всю ночь не спал, создавая наброски к декорациям. Надеюсь, вам они не понравятся так же, как и мне… А, и вот еще: мы не заполучили Розмари Ли, она завтра отплывает в Нью-Йорк. Так что я обратился к Аните Хейден, и она заинтересовалась. Стерва та еще, зато прилично поет. Через минутку отправитесь послушать аранжировку Пфеффера. За свет отвечает Уоттс, он у нас лучший. Умеет создать настроение.
Бергманн с сомнением хмыкнул, я улыбнулся. Этим утром Четсворт мне нравился.
– А что сценарий? – спросил я.
– О нем не переживай, парень. Сценарий между нами не встанет, этого мы не позволим, верно, Сэнди? Кстати говоря, я причешу вашу концовку. Утром за бритьем поразмыслил над ней. Есть замечательная мысль.
Четсворт сделал паузу, заново раскуривая сигару.
– Оставайся с нами, – сказал он мне, – пока снимаем фильм, до конца. Только смотри в оба и ушки держи на макушке. Лови детали. Вслушивайся в интонации. Ты нам здорово пригодишься. Бергманну наш язык чужд, к тому же будет много правки… С сегодняшнего дня я выделю вам кабинет здесь, на студии, и буду за вами приглядывать. Если что понадобится – сразу звоните мне. Получите любое содействие… Ну, вроде все уладили. Идем, доктор. Сэнди, не проводишь Ишервуда в его новый каземат?
* * *
Так, по итогам десятиминутного разговора ритм наших жизней внезапно изменился. Бергманну, естественно, было не привыкать, а вот у меня голова шла кругом. Словно двух отшельников забрали из горной пещеры и оставили посреди современного железнодорожного вокзала. Ни о какой личной жизни речь уже не шла. Любая трата времени, которое до этого протекало по-восточному размеренно и в философском ритме, теперь внушала угрызения совести и страх.
«Каземат» нам выделили на третьем этаже: тесный кабинет, в котором из мебели имелись только сиротливые стол и три стула. Звонок у телефона оказался слишком громкий, и когда он звучал, мы аж подскакивали. Из окна не было видно ничего, кроме закопченных крыш да серого зимнего неба. Снаружи по коридору туда-сюда ходили люди, производя как будто нарочно совершенно ненужное количество шума. Зачастую они врезались в дверь всем своим весом, а иногда просовывали головы внутрь. «Где Джо?» – с укором спрашивал какой-нибудь незнакомец. Или: «Ой, простите…» – говорили нам и исчезали без объяснений. Бергманн, когда его вот так прерывали, приходил в отчаяние.
– Форменная пытка, – стенал он. – Нас истязают, а нам не в чем сознаваться.
Мы редко работали вдвоем. То и дело Бергманна по телефону вызывали к Четсворту, или к заведующему актерским составом, или к мистеру Харрису, а я оставался с недописанной сценой и его пессимистичным советом «попытаться что-нибудь придумать». Обычно я и не пытался. Просто пялился в окно или сплетничал с Дороти. Когда кто-нибудь заглядывал, мы, не сговариваясь, принимались симулировать работу. Порой и Дороти меня бросала. В студии у нее было полно друзей, и когда горизонт оказывался чист, она выскальзывала поболтать.
Тем не менее под натиском такого кризиса мы продвигались. Бергманн утратил осторожность и принимал даже слабейшее мое предложение, выразив согласие простым лишь вздохом. Я же, в свою очередь, наглел. Совесть меня больше не донимала, руку красильщика смирили. Случались дни, когда я с волшебной легкостью строчил страницу за страницей. Сценарий и правда давался легко: Тони пошутила, барон выдал каламбур, отец Тони паясничал. Мне как будто удалили некий выключатель.
Тем временем, как только выдавался шанс, я исследовал окружение. «Империал буллдог» владела, наверное, старейшей в Лондоне студией. Ее история уходила корнями в дни немого кино, когда режиссеры орали на команду в рупор, перекрикивая грохот плотницких молотков, а злые молодые ассистенты, гавкая, словно овчарки, мотали туда-сюда оглохшую, хромую и голодную массовку. В дни паники, с приходом звука в «Буллдог» провели спешную и довольно истеричную программу реконструкции. Студию снесли и с предельной быстротой отстроили заново, экономя на чем только было можно. Никто не знал, что придет следом: то ли вкус, то ли запах, то ли стереоскопия, а то и вовсе некое чудо, которое заставит актеров вылезать из экрана и носиться по зрительному залу. Ждать можно было чего угодно, а тратить деньги на нечто, что через год устареет, – глупо. В результате родился лабиринт кривых лестниц, тесных коридоров, опасных крутых рамп и кэрролловских дверей из Страны чудес. Люди битком набивались в рабочие каморки, было душно, а среди фанерных перегородок горели голые лампочки на проводах. Все тут дышало непостоянством, так и норовя казнить тебя электрическим током, рухнуть на голову или развалиться прямо в руках. «Наш девиз, – объяснил Лоуренс Дуайт, – гласит: “В «Буллдог» все ломается”».
Лоуренс был главным монтажером: невысокий, мускулистый, злобного вида молодой человек примерно моего возраста, брови которому свело в вечной гримасе недовольства. Мы подружились – главным образом потому, что он прочел в журнале мой рассказ, а потом сварливо заметил, что ему понравилось. Он чуть хромал, и я бы этого не заметил, если бы после нескольких минут беседы он вдруг не признался, что одна нога у него искусственная. Он называл ее «моя культя». Ампутацию пришлось сделать после автоаварии, в которой спустя месяц после свадьбы погибла его жена.
– Мы только-только выяснили, что не выносим друг друга, – рассказывал Лоуренс, зло присматриваясь к моему лицу, не промелькнет ли на нем потрясение. – Я был за рулем. Видать, и впрямь хотел ее убить.
– Черт возьми, никак в толк не возьму, что ты здесь забыл, – чуть позже сказал он. – Душу продал? Ваш брат писатель такой романтик: ах, кино – занятие недостойное! Не заблуждайся, это вы кино недостойны. Без романтических шлюх девятнадцатого века мы как-нибудь обойдемся, а вот без техников – нет. Слава богу, я монтажер, свое дело знаю. Если уж на то пошло, я дока. Пленка для меня – как родные потроха. Всё Четсворт виноват, он тоже романтик, нанимает людей вроде тебя. Возомнил себя Лоренцо Великолепным…[36]36
Лоренцо Медичи, Великолепный (1449–1492) – возглавлял Флорентийскую республику эпохи Ренессанса, был поэтом, покровительствовал наукам и искусству.
[Закрыть] Спорю, ты презираешь математику. Ну так позволь сказать: кино – не театр, не литература, это – чистая математика. Только тебе-то в жизни не понять.
Лоуренс с огромным наслаждением указывал на язвы студии. Например, не было хранилища декораций – отработавшие сразу ломали. Как будто материалы на дороге валяются. А еще в «Буллдог» развелось нахлебников.
– Сократи мы кадры на треть, работали бы куда лучше. Все эти ассистенты режиссера суетятся тут, толкаются… У нас даже режиссеры по диалогам есть, представляешь! Сидит себе на жирном заду какой-то холуй, а как на него посмотрят, он сразу: «Да».
Я рассмеялся.
– Это мне и предстоит.
Лоуренс ни капли не смутился.
– Надо было догадаться, – с отвращением произнес он. – Сразу видно, что ты из этих. Весь из себя тактичный.
Самую едкую желчь он приберег для литературного отдела, официально называвшегося «корпус Джи», – натурной площадки с уклоном к реке. Корпус Джи изначально был складом и напоминал контору адвоката из романа Диккенса: затянутые паутиной полки, целые ряды полок высотой под крышу, на которых все выставлено так плотно, что и мизинец не втиснешь. На нижних рядах в основном хранились сценарии; сценарии в двух и трех экземплярах, разработки, первые черновики, любой клочок бумаги, на каком хоть что-то нацарапали авторы студии. Лоуренс рассказывал, что крысы прогрызли в бумагах тоннели из конца в конец.
– Утопить бы их в Темзе, – добавил он, – да речная полиция прижмет нас за отравление вод.
Еще там были книги, романы и пьесы, купленные студией для адаптации. То есть их думали адаптировать. Неужели и «Расписание поездов на 1911 год» Брэдшоу хотели экранизировать? Видимо, оно попало сюда по недосмотру из исследовательского отдела.
– Ты мне вот что объясни, – сказал Лоуренс, – на что нам двадцать семь экземпляров «Полчаса с микроскопом»[37]37
«Полчаса с микроскопом: Популярное руководство к употреблению микроскопа как средства для удовольствия и поучения», книга британского зоолога и популяризатора науки Эдвина Ланкестера (1847–1929).
[Закрыть], один из которых увели из Уокингской[38]38
Уокинг – город в английском графстве Суррей.
[Закрыть] публичной библиотеки?
Я сильно удивился, узнав, как Лоуренсу нравится Бергманн. Наш монтажер восхищался его немецкими картинами; Бергманна это, разумеется, тоже восхитило, хотя он и не признавался. Лишь восхвалял характер Лоуренса, называя ворчуна «ein anstaendiger Junge»[39]39
Приличный юноша (нем.).
[Закрыть]. При встрече Бергманн обращался к Лоуренсу «мэтр», и Лоуренс спустя какое-то время стал отвечать взаимностью. Бергманн, не оставаясь в долгу, стал обращаться к Лоуренсу «гроссмейстер».
Меня Лоуренс стал называть «герр Шпрехдиректор», а я называл его «герр Монтажмейстер».
Из осторожности я не стал рассказывать Бергманну о политических предпочтениях Лоуренса.
– Весь этот красно-бурый бред, – говорил он, – безнадежно устарел. Из-за чертовых рабочих все с ума посходили, аж тошно. Рабочие – овцы, всегда ими были и всегда останутся. Такая у них доля. Зато голова не болит… Взять хотя бы здешних. Какое им дело хоть до чего-то, кроме чеков с зарплатой? Если есть проблема вне их прямых обязанностей, они ждут, что ее решит кто-то другой. Страной должны править избранные, надо только избавиться от проклятых сентиментальных политиков. Политики – они же любители. Все равно что передать студию отделу рекламы, тогда как по-настоящему важны техники. Вот они знают, чего хотят.
– Чего же они хотят?
– Производительности.
– Это как?
– Это когда работаешь ради самой работы.
– Зачем же вообще работать? В чем смысл?
– Смысл – в борьбе с анархией. Только ради этого Человек и живет. Чтобы возвысить жизнь над природным беспорядком. Собирать из частей картины, образы.
– Образы ради чего?
– Ради самих образов, ради смысла. Зачем же еще?
– А как быть с тем, что не впишется в твои образы?
– Вырезать и выбросить.
– Это как убить евреев?
– Брось свои ложные сентиментальные аналогии, меня ими не проймешь. Ты понял, о чем я. Те, кто отказывается вписываться в образы, выбрасывают сами себя. Это не моя вина. Гитлер образов не создает, он же оппортунист. Создавая образы, ты никого не подвергаешь гонениям. Образы – не люди.
– Ну и кто теперь говорит об устаревшем? Это же как искусство ради искусства[40]40
Принцип, согласно которому необремененное моралью искусство ценно само по себе, а какая-либо «полезная» нагрузка лишает его непосредственно художественных достоинств.
[Закрыть].
– Плевать, на что это похоже… Все равно техники – единственные истинные художники.
– Тебе хорошо, склеиваешь себе картины в монтажной, но в чем смысл, когда работаешь над фильмами вроде «Фиалки Пратера»?
– Это уже забота Четсворта, Бергманна и твоя. Если вы, художники, чтоб вас, уподобитесь техникам и сплотитесь, перестав корчить из себя демократов, то заставите публику принять нужную картину. Все эти дела с театральной кассой – сентиментальный демократический вымысел. Держитесь вместе и не создавайте ничего, кроме, скажем, абстрактных фильмов, и публике останется лишь смотреть и любить их… Но что проку от разговоров? Вам духу не хватит. Так и будете ныть о проституции и клепать «Фиалки Пратера». Вот за это публика в душе и презирает вас… Да, и вот еще: со своими художественными печалями ко мне не лезь, меня они не трогают.
* * *
Съемки начались в последнюю неделю января. Дату я называю приблизительно, потому что это, наверное, последнее, что я вообще вспомню. В памяти все так перемешалось, все настолько запутано и усечено, что писать живым языком не получится. Отложился единый кусок, который не разбить на сцены.
Внутри огромного, похожего на хлев павильона звукозаписи, обнесенного высокими мягкими стенами, в которых уместился бы самолет, нет ни дня, ни ночи, а есть лишь неравные промежутки работы и тишины. Под сводом балок и лесов, с которых, точно планеты, изливают холодный свет прожектора, стоит несвязный, полуразобранный ансамбль декораций: арки, стены, холмы на холстах, огромные фотозадники, тротуары; своеобразные Помпеи, только еще более заброшенные, пугающие, ведь это буквально полумир, лимб зазеркалья, город, утративший третье измерение. Шаги звучат неестественно громко, и ты невольно ходишь на цыпочках.
Ярко освещенная сцена издалека похожа на святилище, а столпившиеся вокруг люди – на прихожан. Однако это лишь гостиная в доме у Тони: старинная мебель, занавески веселой расцветки, клетка с кенаром и часы с кукушкой. Работники, которые наносят последние штрихи в этом очаровательном кукольном доме в полный размер, трудятся с суровым выражением лица, с каким иной плотник или электрик оборудует гараж.
Посреди сцены, терпеливые и безымянные, точно портновские манекены, стоят дублеры Артура Кромвеля и Аниты Хейден. Мистер Уоттс, худой лысый мужчина в очках с золотой оправой, беспокойно расхаживает взад-вперед, приглядываясь к ним то так, то этак. На шее у него лента с моноклем голубого стекла. Он то и дело подносит его к глазу, чтобы оценить общий эффект освещения; словно нелепая пародия на щеголя времен Регентства[41]41
Период с 1811 по 1820 г., когда Англией правил принц-регент Георг IV. Его разгульный образ жизни наложил отпечаток на нравы в стране в целом. Англия в это время задавала тон в науке и искусстве по всей Европе, в моду вошли элегантность, появились денди.
[Закрыть]. Рядом с ним Фред Мюррей, рыжий, в резиновых сапогах. Фред – бригадир осветителей. Согласно этикету, мистер Уоттс не может снизойти до того, чтобы лично отдавать распоряжения, поэтому бормочет их Фреду, а Фред, как переводчик на иностранной речи, выкрикивает их работникам на фермах с лампами.
– Затемнитель на ту «пушку»… Пройдитесь пару раз по номеру четыре… У меня все, – говорит наконец мистер Уоттс.
– Хорошо, – кричит помощникам Фред Мюррей, – оставьте так!
Дуги гаснут, а освещение в доме остается. Декорация теряет блеск святилища. Дублеры покидают позиции. Повисает атмосфера обманутых ожиданий, как будто предстоит начать все с самого начала.
– Ну так что, мы готовы? – У Элиота, ассистента режиссера, длинный заостренный нос и выговор выпускника закрытой школы. Он вечно носит с собой экземпляр сценария и всеми помыкает, однако сам при этом неуверен и застенчив. Мне его жалко. Без ума от своего высокого голоса и хорошо поставленной речи, он не знает, как общаться со старшими и постановщиками. Воротник его рубашки накрахмален без меры.
– Из-за чего задержка? – жалобно взывает Элиот к миру. – Что скажешь, Роджер?
Роджер, инженер звукозаписи, тихонько ругается. Терпеть не может, когда его торопят.
– Не могу микрофон настроить, – с язвительным терпением объясняет он. – На площадке чертовски шумно… Тедди, смести-ка журавль немного влево. Используем цветочный горшок.
Стрела крана, точно удочка, на которой рыбкой болтается микрофон, разворачивается. Тедди, управляющий ею, пересекает декорации и прячет второй микрофон за фарфоровой фигуркой на столе.
Тем временем где-то на заднем плане Артур Кромвель кричит:
– Где наш бесценный Ишервуд?
Артур играет отца Тони. Это крупный привлекательный мужчина, некогда любимец женщин – поистине прекрасный старичок. Он хочет, чтобы я послушал его в роли. Забыв слова, он степенно щелкает пальцами.
– В чем дело, Тони? Разве тебе не пора в Пратер?
– Ты разве не идешь в Пратер сегодня? – поправляю я.
– Ты разве не идешь в Пратер сегодня? – повторяет Артур, и тут у него срабатывает некий актерский стопор. – Как-то на отповедь похоже, нет? Мне отчего-то кажется неверным… Как насчет: «Почему ты не в Пратере?»
– Хорошо.
– Ишервуд! – В людном павильоне Бергманн обращается ко мне по фамилии. Заложив руки за спину, он решительным шагом покидает площадку и даже не обернется взглянуть, иду ли я следом. Через двойные двери мы выходим на пожарную лестницу. В здании курить запрещено, поэтому сюда удаляются все, кому надо поговорить и затянуться. Я киваю вахтеру, который, надев пенсне, читает «Дейли геральд». Он большой поклонник Советской России.
С небольшой металлической площадки мы за рядами крыш видим клочок холодной серой реки. После павильона влажный воздух освежает; ветерок треплет буйную шевелюру Бергманна.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?