Текст книги "Лотерея"
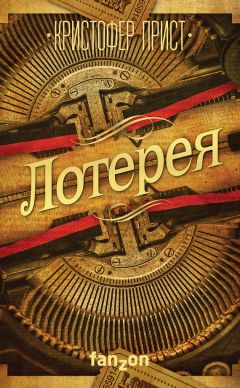
Автор книги: Кристофер Прист
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Я вспомнил реальную ссору. Мы стояли на углу Мэрилебон-роуд и Бейкер-стрит. Накрапывал дождь. Ссора вспыхнула буквально на пустом месте, вроде бы из мелкого разногласия, сходить ли нам в кино или провести этот вечер в моей квартире, но в действительности напряжение нарастало уже несколько дней. Я замерз, я злился, я обращал ненормально большое внимание на шум машин, раз за разом срывавшихся с места на зеленый свет. Паб у станции метро уже открылся, но чтобы туда попасть, нужно было пересечь улицу по подземному переходу, а Грация страдала клаустрофобией. Шел дождь, мы начали кричать друг на друга. Я оставил ее на этом углу и больше никогда не увидел.
Так что же я думал делать с этой сценой? И ведь раньше, до появления Фелисити, я это знал; все в моем тексте свидетельствовало о его продуманном, заранее выстроенном характере.
Появление Фелисити было вдвойне неприятным, она не только сбила меня на полуфразе, но и заставила еще раз задуматься о постижении истины.
К примеру, она принесла новые сведения о Грации. Ну да, я, конечно же, знал, что Грация после ссоры перебрала снотворного, но это не было чем-то таким особо важным. За время нашего знакомства был уже случай, когда Грация после ссоры немного перебрала, но позднее она и сама говорила, что просто хотела привлечь к себе побольше внимания. Ну а в последний раз ее напарница по квартире не только не пустила меня дальше порога и облаяла почем зря, но еще и снизила, преуменьшила значение случившегося, скорее всего – ненамеренно. В бурном порыве антипатии, даже презрения ко мне она подала горькую информацию как нечто малосущественное, о чем я не должен беспокоиться; я же принял ее слова за чистую монету. А вполне ведь возможно, что Грация как раз лежала в больнице. Если верить Фелисити, ее тогда едва откачали.
Но правда, высшая правда состояла в том, что я намеренно увильнул от понимания фактов. Я не хотел их знать. А Фелисити меня заставила. То, что сделала Грация, было вполне серьезной попыткой самоубийства.
Я мог описать в своей рукописи Грацию, которая стремилась привлечь к себе внимание, но я не знал Грации, способной всерьез покуситься на свою жизнь.
А если Фелисити раскрыла мне глаза на черты в характере Грации, никогда мною прежде не замечавшиеся, не значит ли это, что я могу точно так же заблуждаться относительно многого другого? Я хочу рассказать правду, но так ли уж много я ее вижу?
Не так-то было все просто и с источником сведений, с самой Фелисити. Она занимала в моей жизни немаловажное место. Сегодня она по своему всегдашнему обычаю представила себя особой зрелой, умудренной, здравомыслящей, обладающей большим, чем у меня, жизненным опытом. Со времени, когда мы вместе с ней играли, она всегда старалась главенствовать надо мной, будь это в силу столь временного преимущества, как несколько больший рост или многознание, наигранное или настоящее, чуть более взрослой, более опытной личности. Фелисити постоянно претендовала на высшее по отношению ко мне положение. В то время как я оставался холостым и снимал квартиру за неимением собственной, у нее были и дом, и семья, и буржуазная респектабельность. Ее образ жизни был мне чужд, однако она ничуть не сомневалась, что я мечтаю о таком же, а так как все еще его не достиг, она имеет законное право относиться ко мне критически и высокомерно.
Вот и сегодня Фелисити вела себя в том же, давно мне опостылевшем ключе: заботливо и неодобрительно, проявляя полное непонимание не только меня, но и того, что я пытаюсь сделать со своей жизнью.
Вся эта ее жалкая фанаберия была здесь, в главе четвертой, занесенная на бумагу и тем, как мне думалось, надежно отринутая. Но Фелисити снова все испортила, и конец моей рукописи так и повис недописанным.
Она поставила под вопрос все, что я пытался сделать, неумолимым свидетельством чего были последние напечатанные мною слова. С еле начатой страницы на меня глядела незавершенная фраза: «…но когда я оглянулся…»
Но – что? Я напечатал «Сери так и стояла на том же месте» и тут же схватился за карандаш, которым вычеркивал неудачные пассажи. Это были совсем не те слова, какие мне требовались, пусть даже, словно в насмешку надо мной, именно их я прежде собирался напечатать. Теперь их мотивация безнадежно погибла, исчезла.
Я взял рукопись со стола и взвесил ее в руке. Приятная солидная пачка, свыше двухсот страниц машинописного текста, неоспоримое доказательство моего существования.
Неоспоримое? Но теперь на все, что я сделал, брошена тень сомнения. Я стремился к истине, но Фелисити заставила меня вспомнить, насколько призрачно это понятие. Одним уже тем, что не смогла увидеть мою белую комнату.
Ну а что, если кто-нибудь не поверит моей истине?
Фелисити уж точно не поверит, если я ни с того ни с сего покажу ей свою рукопись. А судя по тому, что она рассказала, скорее всего, и Грация помнит эти события совершенно иначе. А будь еще живы мои родители, их бы несомненно шокировало многое из того, что я рассказал о своем детстве.
Истина субъективна, но разве я утверждаю обратное? Эта рукопись есть не что иное как честный рассказ о моей жизни. Я нимало не претендую на какую-нибудь оригинальность или многозначимость этой жизни. Для всех, кроме меня самого, в ней не было ничего необычного. Рукопись – это все, что я знаю о себе, все, что есть у меня в этом мире. Нет смысла спорить с нею и не соглашаться, потому что все описанные в ней события описаны так, как вижу их я и никто другой.
Я еще раз перечитал последнюю законченную страницу плюс все те же две с половиной строчки. Передо мной начинало смутно вырисовываться, что будет дальше. Грация в обличье Сери стояла на углу потому, что…
Наружная дверь громыхнула, словно ее не открыли за ручку, а вышибли ударом плеча; секунду спустя в комнату ввалилась Фелисити в обнимку с двумя большими, насквозь промокшими бумажными пакетами.
– Я приготовлю обед, но потом ты сразу собирайся. Джеймс говорит, что лучше бы мы вернулись в Шеффилд прямо сегодня.
Вот и говори, что снаряд никогда не попадает в воронку от предыдущего; каким-то чудом Фелисити умудрилась дважды прервать меня на одном и том же месте.
Медленно и неохотно я вытащил из машинки лист, точно такой же, как в предыдущий раз, и положил его в самый низ рукописи.
Тем временем Фелисити суетилась на кухне. Повязав купленный в поселке передник, она перемыла грязную посуду и поставила жариться отбивные.
Пока мы ели, я молчал, словно это могло отгородить меня от драгоценной сестрицы со всеми ее планами, заботами и соображениями. Ее нормальность вторгалась в мою жизнь мутным потоком безумия, бреда.
Меня отмоют, накормят и оздоровят. Причиной всему стала смерть отца. Я сорвался. Не то чтобы слишком, по мнению Фелисити, но все же сорвался. Я утратил способность следить за собой, и поэтому этим займется она. Я увижу на ее примере, чего себя лишаю. По выходным мы будем устраивать набеги на Эдвинов коттедж (мы – это и я, и она, и Джеймс, и даже дети), будем орудовать швабрами и кистями, и мы с Джеймсом расчистим заросший сад, и буквально в считаные недели мы сделаем этот дом не только пригодным для жизни, но даже уютным, а затем пригласим Эдвина и Мардж приехать и полюбоваться. Когда я заметно оправлюсь, мы съездим в Лондон в том же составе, но, скорее всего, без детей, и мы навестим Грацию, и нас с ней оставят одних, чтобы мы сделали то, что нам нужно сделать, и мне не позволят сорваться вторично. Раза два в месяц я буду заезжать к ним в Шеффилд, и мы будем устраивать долгие прогулки по вересковым пустошам, а потом, вполне возможно, я даже съезжу за границу. Мне ведь понравилось в Греции, верно? Джеймс подыщет мне работу в Шеффилде – или в Лондоне, если уж мне так этого хочется, – и мы с Грацией будем счастливы, и поженимся, и у нас будут…
– Так о чем ты там говорила? – спросил я.
– Так ты слушал меня или не слушал?
– Смотри, а дождь-то совсем кончился.
– Ох, господи. С тобой просто невозможно.
Фелисити закурила сигарету. Я представлял себе, как табачный дым разносится по моей белой комнате и грязной желтизной оседает на свежевыбеленных стенах. Он просочится и в мою рукопись, выжелтит ее листы вечным напоминанием о внезапном, как катастрофа, появлении Фелисити.
Рукопись была подобна незавершенной музыкальной пьесе, факт незавершенности был даже важнее ее существования. Подобно доминантному септаккорду, она искала разрешения, финальной тонической гармонии.
Фелисити начала убирать со стола, складывая тарелки в кухонную раковину, я же, воспользовавшись моментом, взял свою рукопись и направился к лестнице.
– Ты пошел собираться?
– Нет, – сказал я, – я не поеду с тобой. Мне нужно докончить то, что я делаю.
Фелисити оставила посуду и вернулась в комнату. На ее руках висела пена от фирменного детергента.
– Питер, здесь уже не о чем спорить. Ты едешь со мной.
– У меня работа, я должен ее закончить.
– Да что же ты там такое пишешь?
– Я уже раз тебе говорил.
– Ну-ка дай посмотреть.
Фелисити требовательно протянула мокрую, сплошь в ошметках пены, руку, заставив меня еще крепче обнять свою рукопись.
– Этого никто никогда не увидит.
На этот раз сестрица отреагировала точно так, как я и ожидал: презрительно прищелкнула языком и резким движением вскинула голову. Что бы я там ни делал, все это ерунда, не стоящая даже обсуждения.
Я сидел на скомканном спальнике, прижимал к себе рукопись и чуть не плакал. Снизу доносились крики Фелисити: она обнаружила мои пустые бутылки и теперь в чем-то там меня обвиняла.
Никто и никогда не прочитает мою рукопись, ведь это самая личная в мире вещь, квинтэссенция меня. Я написал повесть, прикладывая массу усилий, чтобы сделать ее достойной чтения, но вся моя намеченная читательская аудитория состояла из одного лишь меня самого.
В конце концов я спустился вниз и увидел, что Фелисити аккуратно, ровными рядами, выстроила пустые бутылки прямо перед лестницей. Бутылок было так много, что я с трудом через них перешагнул. Фелисити меня ждала.
– Что это такое? – спросил я. – Зачем ты их сюда притащила?
– Нельзя же оставить их валяться в саду. Что ты тут делал, Питер? Пил не просыхая? Ведь так и до белой горячки недалеко.
– Я живу здесь уже много месяцев.
– Нужно попросить кого-нибудь, чтобы эту пакость забрали. В следующий приезд мы так и сделаем.
– В следующий приезд? – переспросил я. – Я пока что никуда не уезжаю.
– У нас есть свободная комната. Дети дома считай что только ночуют, и я тоже оставлю тебя в покое.
– Странно, ведь прежде ты никогда этого не умела. С чего бы вдруг сейчас?
Но Фелисити уже перетащила часть моих вещей в машину, а теперь закрывала окна, закручивала потуже краны, отключала электричество. Я наблюдал за всем этим молча, прижимая рукопись к груди. Теперь она испорчена навсегда, безвозвратно. Слова останутся ненаписанными, мысли незаконченными. Я различал никому не слышную музыку: доминантная септима отзвучала в вечном поиске каденции. Затем она стихла, как доигравшая пластинка, и музыка сменилась бессмысленным потрескиванием. Скоро иголка в моем мозгу дойдет до последней центральной дорожки, застрянет там на неопределенно долгое время и будет многозначительно отщелкивать темного смысла ритм, тридцать три раза в минуту. В конце концов кому-нибудь придется поднять звукосниматель, и тогда наступит тишина.
5
Неожиданно корабль вырвался из тени на солнце, и это было словно я резко порвал со всем, что осталось позади.
Я прищурился, вглядываясь в ослепительно-синее небо, и увидел, что облако явным, пусть и непонятным образом связано с землей, потому что оно тянулось точно по направлению восток – запад. Впереди прозрачная голубизна манила обещанием теплой, тихой погоды. Мы направлялись прямо на юг, словно подгоняемые холодным ветром, дующим в корму.
Мое восприятие расширилось, оно раскинулось вокруг меня подобно вбирающей ощущения сети нервных клеток. Я воспринимал и сознавал. Я раскрылся.
В воздухе мешались запахи солярки, соли и рыбы. Хоть я и был отчасти защищен корабельными надстройками, холодный ветер продувал меня насквозь; моя городская одежда казалась жалкой и никуда не годной. Я дышал всей грудью, задерживая воздух в легких на несколько секунд, словно в нем содержались некие целительные эманации, которые должны были промыть мой организм, освежить мой мозг, обновить меня и наново вдохновить. Палуба под ногами мелко вибрировала от работающих где-то внизу двигателей. Волны мягко раскачивали корабль с носа на корму и обратно, и мое тело двигалось в дружном соответствии с этим ритмом.
Я прошел вперед, на самый нос, и там повернулся назад и взглянул на то, что было позади.
Единственными людьми в поле моего зрения были другие, вроде меня, пассажиры, вылезшие погулять на верхнюю палубу. Яркие ветровки, пластиковые дождевики. Много пожилых супружеских пар, а вернее – пожилых людей, державшихся парочками, он и она. И все эти люди не смотрели, как мне показалось, ни вперед, ни назад, а словно внутрь самих себя. А дальше, за надстройками и трубой, я увидел больших, безымянных по причине моего невежества морских птиц, плавно и словно совсем без усилий уносившихся к оставленному нами берегу. После выхода из гавани корабль слегка отвернул в сторону, и потому мне была видна значительная часть Джетры. Город расползся вдоль берега, прячась за портовыми кранами и складами, без остатка заполняя широкую речную долину. Я попытался представить себе, как продолжится его жизнь, когда не будет рядом меня, за ним наблюдающего, словно опасаясь, что в мое отсутствие все может исчезнуть. Джетра уже становилась абстрактной идеей.
А впереди громоздился Сивл, ближайший к Джетре из островов Архипелага Грёз, бывший, однако, недоступным для всех джетрианцев, кроме немногих, у кого там имелись близкие родственники. Впрочем, точно так же были закрыты для нас и все остальные острова, входившие в Союз Архипелага; война все еще продолжалась, и территории, не принимавшие в ней участия, очень дорожили своим нейтралитетом. Мало удивительного, что я тоже никогда не бывал на Сивле и воспринимал его просто как некий элемент пейзажа, темную громаду, встававшую из моря прямо к югу от Джетры.
А теперь этот остров был первым пунктом стоянки на нашем маршруте, и мне очень хотелось, чтобы корабль шел побыстрее, ведь пока за кормою маячила Джетра, мне продолжало казаться, что путешествие все еще не началось. К сожалению, речная дельта изобиловала мелями, и кораблю приходилось двигаться осторожно, часто меняя свой курс; медленно, очень медленно он приближался к Рваному Носу – иззубренному каменному массиву на западной оконечности Сивла, обогнув который мы должны были вступить в царство неведомого.
Я расшагивал по палубе, тихо ярясь на черепаший темп путешествия, на пронизывающе холодный ветер и на малоудачных компаньонов. Не знаю уж почему, но, вступая на борт корабля, я думал оказаться в обществе людей более-менее молодых и был весьма удручен, обнаружив, что едва ли не все пассажиры либо уже перешагнули пенсионный рубеж, либо вот-вот перешагнут. А неестественная самоуглубленность этих господ объяснялась тем, что они направлялись в свои новые дома; одним из немногих легальных методов переселения на Архипелаг была покупка квартиры или дома на одном из дюжины, что ли, островов, где не было на этот счет никаких запретов.
В конце концов мы все же обогнули Нос и вошли в бухту, на берегу которой стоял Сивл-Таун; Джетра исчезла из виду.
Я сгорал от нетерпения увидеть первый в моей жизни островной городок и, возможно, составить по нему представление, как могут выглядеть другие городки на других островах, однако Сивл-Таун сильно меня разочаровал. Серые, дикого камня дома, стоявшие неровными уступами на склонах стиснувших бухту гор, смотрелись уныло и неухоженно. Было очень легко представить себе, как выглядит это место зимой, когда все двери и ставни закрыты, по крышам и улицам лупит дождь, дующий с моря ветер едва не сбивает людей с ног и нигде ни огонька. Я крайне сомневался, есть ли на Сивле электричество, или водопровод, или автомобили. Ни на одной из узких улочек, выходивших к гавани, не было и признаков уличного движения, зато были вполне приличные каменные мостовые. В целом Сивл-Таун напоминал некоторые из глухих горных деревушек на севере Файандленда, единственной видимой разницей был дым, струившийся здесь из большинства печных труб; я никак не ожидал увидеть ничего подобного, потому что в Джетре, как и на всей остальной территории Файандленда, к экологии относились более чем трепетно.
Никто из пассажиров не собирался сходить в Сивл-Тауне, и наше прибытие было встречено городом совершенно равнодушно. Мы причалили, сбросили трап и начали ждать; прошло несколько минут, и на борт к нам поднялись два человека в форме. Это были архипелагские таможенники – факт, ставший ясным, когда всех нас попросили собраться на палубе номер один. Поглядев на пассажиров, я лишний раз убедился, что почти все они – люди весьма пожилые. До Мьюриси, куда я направлялся, было девять дней хода, и вот сейчас, стоя в очереди на паспортный контроль, я терзал себя мыслью, какими, по всей видимости, тоскливыми будут эти девять дней. Сразу за мной в очереди стояла довольно молодая – лет тридцати с небольшим – женщина, но она увлеченно читала какую-то книгу и ничем другим вроде бы не интересовалась.
Я видел в своем путешествии на Архипелаг Грёз полный разрыв с прошлым, начало с чистого листа и был весьма обескуражен перспективой провести первые (а может, и не только первые) его дни в примерно такой же полуизоляции, к какой я давно уже привык на Джетре.
Мне очень повезло. Так говорили все мои знакомые, и говорили так часто, что под конец я и сам в это поверил. Первое время были сплошные вечеринки и на лужайке детский смех, но по мере того, как мы все осознавали, что же такое в действительности со мною случилось, я все больше ощущал встающую между мною и ими стену. Мало удивительного, что я считал дни, когда нужно будет покинуть Джетру и плыть на Архипелаг Грёз, плыть, чтобы получить свой выигрыш. Я мечтал о путешествии, о тропической жаре, мечтал услышать незнакомые языки и увидеть диковинные обычаи. И вот сейчас, сразу же после старта, я с удивлением понял, что одному, без компании, все эти радости вряд ли будут мне в радость.
Я обратился к стоявшей за мною женщине с каким-то вопросом, но разговора не вышло: она коротко, по существу, ответила, сверкнула вежливой улыбкой и снова углубилась в книгу.
В конце концов подошла моя очередь. Я заранее открыл паспорт на той странице, где Верховное представительство Архипелага в Джетре поставило свою визу, однако таможенник визой не заинтересовался, зато начал внимательнейшим образом изучать первую страницу, где были моя фотография и описание особых примет. Его напарник уставился мне в лицо.
– Роберт Питер Синклер, – сказал тот, что разглядывал мой паспорт, впервые поднимая на меня глаза.
– Именно так, – кивнул я, стараясь не улыбнуться.
Дело в том, что он говорил с самым настоящим островным акцентом, к примеру – произносил мое имя как «Пийтер», сильно растягивая гласную. С таким акцентом говорили некоторые персонажи кинофильмов, чаще всего комические, и сейчас у меня возникло странное чувство, что таможенник изображает его нарочно, дабы меня позабавить.
– Куда вы направляетесь, мистер Синклер?
– Для начала на Мьюриси.
– А потом?
– Коллаго, – сказал я, с интересом ожидая его реакции.
Никакой реакции не последовало.
– Мистер Синклер, – продолжил таможенник, – разрешите, пожалуйста, взглянуть на ваш билет.
Я извлек из внутреннего кармана всю пачку бумажек, выданных мне агентом судоходной компании, но он и смотреть на них не захотел.
– Не эти. Лотерейный билет.
– А-а, ну конечно, – сказал я, слегка смущенный, что неверно его понял, хотя ошибка моя была вполне естественна. Спрятав билеты в карман, я достал бумажник. – В общем-то, его номер напечатан прямо на визе.
– Я хочу взглянуть на сам билет.
Билет лежал в конверте, запрятанном в самое дальнее отделение бумажника, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы его извлечь. Я хранил это свидетельство своей удачливости просто как сувенир, отнюдь не думая, что кто-то вдруг захочет с ним ознакомиться.
Получив от меня билет, эмиграционные офицеры минуты две скрупулезно, цифра за цифрой, сравнивали его номер с тем, что был занесен в мой паспорт. После этой абсолютно излишней проверки они вернули билет мне, а я вернул его на прежнее место, в бумажник.
– А чем вы намерены заняться, покинув Коллаго?
– Не знаю. Насколько мне известно, выздоровление будет довольно долгим. Вот тогда-то я и буду строить планы на будущее.
– Вы думаете вернуться в Джетру?
– Не знаю, как получится.
– Не знаете так не знаете. – Таможенник оттиснул под визой штамп с датой, закрыл паспорт и подтолкнул его ко мне. – Вам очень повезло.
– Я знаю, – сказал я привычно бодрым голосом, хотя это везение уже начинало казаться мне несколько сомнительным.
К столу подошла стоявшая за мной женщина, а я направился в бар, удобно расположенный на той же самой палубе. Чуть ли не все пассажиры, стоявшие впереди меня в очереди, были уже там. Я купил себе большой виски, отошел от стойки и вскоре уже перебрасывался вежливостями с пожилыми супругами, решившими провести остаток своей жизни на Мьюриси. Их звали Торрин и Деллида Сайнхем. Прежде они жили на севере Файандленда, в университетском городе по имени Олд-Хайдл. Они купили квартиру люкс с видом на море, в деревушке, от которой пять минут пешком до Мьюриси-Тауна, и непременно в следующий раз захватят в каюте снимки этой деревушки, чтобы я взглянул, какая это прелесть.
Приятные и бесхитростные, они старательно мне объясняли, что квартира люкс на Архипелаге стоит ничуть не больше, чем маленький домик в их родных местах.
Разговор постепенно увядал за отсутствием новых тем, и тут в бар вошла та самая женщина из очереди на паспортный контроль. Она мельком взглянула в мою сторону, а затем купила себе коктейль и встала со стаканом в руке шагах в двух от меня; когда же Сайнхемы откланялись и ушли в свою каюту, женщина повернулась и взглянула на меня.
– Простите, ради бога, – сказала она, – но я невольно подслушала ваш разговор с таможенниками. Вы действительно выиграли в Лотерею?
– Да, – кивнул я, чувствуя себя несколько не в своей тарелке.
– Я никогда еще не видела никого, кто бы в нее выиграл.
– Я тоже.
– Мне начинало казаться, что все это сплошное жульничество. Я покупаю билеты и покупаю, год за годом, и каждый раз выигрывают какие-то другие номера.
– А я купил билет впервые, один-единственный, и сразу же выиграл. Я глазам своим не поверил.
– А вы разрешите мне взглянуть на этот билет?
За недели, прошедшие после того, как я узнал про свой выигрыш, все, с кем бы я ни общался, просили показать им этот билет, словно надеясь заразиться от него моей удачливостью.
– Пожалуйста, – сказал я, беспрекословно вынимая из бумажника потертый и даже чуть засаленный билет.
– И вы купили его самым обычным образом?
– В самом обычном киоске, в парке.
Ранняя осень, на редкость погожий день. Я договорился с одним из друзей о встрече в Сеньорити-парке и пришел немного раньше назначенного времени; неспешно прогуливаясь по дорожке, я вижу киоск Лотереи Коллаго. Эти маленькие фанерные будки стали обычнейшим зрелищем и в Джетре, и в прочих больших городах Файандленда, и, надо думать, по всему миру. Как правило, лицензии предоставлялись инвалидам или изувеченным на войне солдатам. Странное дело, хотя билеты продавались сотнями тысяч, увидеть, как кто-нибудь подходит за билетом к киоску, можно было крайне редко. Покупка лотерейных билетов никогда не обсуждалась прилюдно, хотя практически каждый мой знакомый время от времени их покупал, а в те дни, когда объявляли списки выигравших, на улицах можно было видеть множество людей, сверявших свои номера с напечатанной в газетах таблицей.
Как и каждый другой человек, я мог иногда помечтать о главном призе, хотя крайне низкая вероятность выигрыша неизменно удерживала меня от участия в Лотерее. А вот в этот день я обратил внимание на одного из торговцев билетами – совсем еще молодого, лет на десять младше меня солдата, одетого в парадную форму. При всей кошмарности своих ран – вытекший глаз, культяпка вместо правой руки, шея в жестко фиксирующем ошейнике – он выглядел гордо и независимо. Охваченный состраданием – смущенным, беспомощным состраданием штатского, который удачно избежал призыва, – я подошел к солдату и купил у него лотерейный билет. Эта операция была осуществлена быстро и, по моим ощущениям, словно украдкой, будто я покупал какую-нибудь порнографию или наркотики.
Две недели спустя я нашел в лотерейной таблице номер своего билета, на него выпал главный выигрыш. Я получал возможность пройти курс атаназии и жить потом вечно. Нужно ли говорить, как я был потрясен, как проверял и перепроверял свой выигрыш, не в силах поверить в такое счастье, и как буйно ликовал, наконец поверив… Даже сейчас, по прошествии нескольких недель, я не вправе сказать, что полностью осознал раскрывшиеся передо мной перспективы.
Давно установился обычай, по которому каждый, кто выиграл в Лотерею, пусть даже на его долю достался всего лишь один из утешительных денежных выигрышей, возвращался туда, где купил свой счастливый билет, чтобы так или иначе отблагодарить распространителя. Я сделал это без промедления, не успев еще даже зарегистрировать свой выигрыш, но киоска на прежнем месте не оказалось, и другие распространители знать не знали, что случилось с сидевшим в нем инвалидом. Позднее я навел справки в администрации Лотереи и узнал, что он умер спустя несколько дней после того, как продал мне билет: вытекший глаз, ампутированная рука и сломанная шея были всего лишь внешней, видимой со стороны, частью его травм.
Если верить организаторам Лотереи, каждый месяц разыгрывается двадцать главных выигрышей, однако информации о тех, кому доставались эти выигрыши, в газетах практически не было. Причины такого положения вещей оказались вполне простыми и естественными. В конторе, где я регистрировал выигрыш, мне посоветовали говорить о нем как можно меньше и уж во всяком случае не общаться с прессой. Администрация Лотереи была отнюдь не против широкой публичности, однако имела на сей счет весьма печальный опыт. Мне рассказали о нескольких случаях, когда победители, чьи имена стали известны, подвергались нападению, трое из них были убиты.
Кроме того, эта лотерея была международной, так что на долю Файандленда выпадала лишь малая часть выигрышей. Лотерейные билеты продавались во всех странах северного континента и по всему Архипелагу Грёз.
Администраторы Лотереи завалили меня документами и указаниями, а затем, когда я начал впадать в прострацию, настоятельно рекомендовали положиться во всем на них. Поразмыслив дня два или три, я решил, что самому мне всю эту гору дел никак не переделать, и сдался на милость лотерейщиков. Они помогли мне быстренько разобраться со всеми моими делами, с моей работой, квартирой и более чем скромными капиталовложениями, а затем получили для меня визу и зарезервировали место на корабле. Можете, сказали они мне, ни о чем не беспокоиться, мы позаботимся обо всех ваших делах вплоть до вашего возвращения. Я стал беспомощным элементом их организации, щепкой, попавшей в водоворот, неумолимо затягивавший ее в одном и только одном направлении – на остров Коллаго, в атаназийный клинический центр.
Молодая женщина вернула мне билет, и я снова спрятал его в бумажник.
– И когда же вы ляжете в клинику? – спросила она.
– Не знаю. Скорее всего, сразу, как только попаду на Коллаго, но точно я еще не решил.
– Но ведь… ведь вы же не откажетесь?
– Нет, конечно, но про сроки надо еще подумать.
Мне было несколько неловко обсуждать этот вопрос в переполненном баре с абсолютно незнакомой мне женщиной. За последние недели я очень устал от соображений о моем выигрыше, уверенно высказывавшихся каждым встречным и поперечным, а так как у самого меня такой уверенности не было, я еще больше устал от необходимости то ли спорить с этими людьми, то ли соглашаться.
Я видел в мечтах, как долгое неспешное плавание по Архипелагу даст мне достаточно одиночества, чтобы несколько прийти в себя, и достаточно времени, чтобы спокойно подумать. Но пока что корабль стоял в порту Сивл-Тауна, а Джетра если и скрылась из виду, то только из-за окружавших бухту гор.
Почувствовав, надо думать, мою скованность, женщина поспешила представиться. Ее звали Матильда Инглен, и она имела докторскую степень по биохимии. Она подписала двухлетний контракт и направлялась теперь на остров Семелл, чтобы работать в сельскохозяйственном исследовательском центре. Ее очень волновала нехватка продовольствия, возникшая из-за войны в некоторых частях Архипелага. Чтобы разрешить эту проблему, взялись за колонизацию самых крупных из пустовавших прежде островов – расчищают их от диких зарослей, организуют фермы. Конечно, там еще многого не хватает: семян, сельскохозяйственной техники да и просто работников. Она специализируется на гибридизации зерновых культур и будет теперь выводить сорта, специально предназначенные для использования на островах. Очень сомнительно, чтобы ей удалось сделать за два года что-нибудь мал-мала серьезное, но по условиям контракта его можно будет продлить еще на два года.
Людей в баре все прибавлялось и прибавлялось, а так как и Матильда допила свой коктейль, и я допил свой виски, я предложил ей пообедать. Мы пришли в корабельную столовую первыми и первыми же убедились, что обслуживание там крайне медлительное, а еда скучная. Главным блюдом были колбаски из сильно наперченного фарша в завертке из листьев паквы, обжигающе острые на вкус и еле-еле тепловатые по температуре. Мне уже случалось бывать в архипелагских ресторанах, так что пища меня не удивила, однако в Джетре конкуренция вынуждала рестораны предлагать клиентам достаточно широкий выбор, а здесь, на корабле, о конкуренции не шло и речи. Мы с Матильдой были несколько раздосадованы, однако решили, что нет никакого смысла трепать себе нервы жалобами, и мирно продолжили нашу беседу.
К тому времени, как мы встали из-за стола, корабль уже отчалил. Я прошел на корму и некоторое время смотрел, как тают вдали туманные очертания далекой Джетры и темная громада Сивла.
Ночью мне приснилась Матильда, и по этой, может быть, причине уже с утра я стал смотреть на нее несколько иными глазами.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































