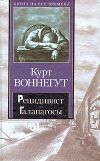Текст книги "Галапагосы"
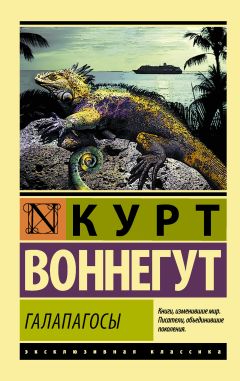
Автор книги: Курт Воннегут
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
5
Ибо сказано «Мандараксом»:
Клятвы – не более чем слова, а слова – не более чем ветер.
Сэмюэль Батлер (1612–1680)
Мэри Хепберн на Санта-Росалии заучила наизусть как эту цитату «Мандаракса», так и сотни других. Однако с течением лет она стала относиться к своему браку с «Уиллардом Флеммингом» все серьезнее – несмотря на то, что ее второй муж умер с улыбкой на устах через каких-нибудь пару минут после того, как капитан провозгласил их мужем и женой. Будучи уже древней старухой, согбенной и беззубой, она как-то сказала пушистой Акико: «Я благодарю Бога за то, что он послал мне двух прекрасных мужчин». Она имела в виду Роя и «Уилларда Флемминга». Кроме того, она таким образом хотела сказать, что невысоко ставит капитана, который к тому времени тоже был древним стариком, отцом и дедом всех родившихся на острове – за исключением Акико.
Акико была единственной среди молодого поколения колонистов, кто любил слушать рассказы из прежней, материковой жизни, в особенности о любви. И Мэри вынуждена была извиняться перед ней, что не много может поведать ей любовных историй от собственного лица. Однако ее родители действительно очень любили друг друга, говорила она, – и Акико с наслаждением слушала рассказ о том, как отец и мать Мэри целовались и обнимались до своего последнего дня.
Мэри смешила Акико до слез рассказом о нелепом романе, если можно его так назвать, который был у нее со вдовцом по имени Роберт Войцеховиц, возглавлявшим отделение английского языка в Илиумской средней школе – покуда школу не закрыли. Он был единственным мужчиной, не считая Роя и «Уилларда Флемминга», который когда-либо просил ее руки.
История же была такова.
Роберт Войцеховиц начал названивать ей и просить о встрече всего две недели спустя после похорон Роя. Она отвергла его, дав понять, что ей рано пока помышлять о новом спутнике жизни.
Она делала все возможное, чтобы отбить у того охоту к возобновлению ухаживаний, но, несмотря на это, он как-то днем зашел ее проведать вопреки всем ее уговорам, что ей очень нужно побыть одной. Он подкатил к ее дому, когда она подстригала газон, попросил выключить газонокосилку и сделал ей предложение, выпалив его скороговоркой.
Мэри описывала Акико его машину – и та покатывалась со смеху, хотя ей за всю свою жизнь не суждено было увидеть ни одного автомобиля. Роберт Войцеховиц ездил на «ягуаре», который некогда смотрелся очень красиво, но к тому времени был уже весь в проплешинах и вмятинах с водительской стороны. Машина эта была прощальным даром его жены. Звали ее *Дорис – имя, которое Акико затем даст одной из своих пушистых дочек под влиянием всего одной рассказанной Мэри истории.
*Дорис Войцеховиц получила в наследство немного денег и купила мужу «ягуар» в благодарность за то, что тот был ей таким хорошим супругом. У них был взрослый сын, Джозеф – остолоп, который искорежил роскошный «ягуар», покуда мать его еще была жива. Джозефа отправили в тюрьму «за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения».
И тут не обошлось без нашего старого приятеля, от которого усыхают мозги: алкоголя.
Роберт сделал ей предложение посреди единственного свежеподстриженного газона на всю округу. Остальные успели прийти в полную запущенность, поскольку все остальные жители разъехались кто куда. И все то время, что Войцеховиц излагал свое предложение, их непрерывно, пытаясь казаться свирепым, облаивал большой золотистый ретривер. Это был Дональд, тот самый пес, который был таким утешением Рою в последние месяцы его жизни. Даже у собак в ту эпоху были имена. Дональд был псом. Роберт – человеком. Дональд был безобидный пес. Он отродясь никого не кусал. Все, чего он хотел, – это чтобы кто-нибудь швырнул подальше палку и он бы принес ее назад, чтобы кто-нибудь кинул ее вновь и чтобы он ее вновь принес, и так далее, до бесконечности. Дональд был не слишком умственно одаренным существом, мягко говоря. Ему явно не дано было написать бетховенскую Девятую симфонию. Во сне Дональд часто скулил, и его задние лапы вздрагивали. Ему снилось, что он бегает за палками.
Роберт боялся собак, поскольку, когда ему было пять лет, на них с матерью напал доберман-пинчер. Он чувствовал себя в их присутствии нормально, если поблизости находился кто-то, кого собаки слушались. Но стоило ему оказаться с собакой один на один, какой бы величины она ни была, как его прошибал пот и охватывала дрожь, а волосы вставали дыбом. Так что он тщательно избегал подобных ситуаций.
На беду, его брачное предложение явилось для Мэри Хепберн такой неожиданностью, что она разразилась слезами – чего ныне ни с кем не происходит. Она была так смущена и выбита из колеи, что сбивчиво извинилась перед Робертом и убежала в дом. Она не хотела быть ничьей женой, кроме Роя. Пусть Рой умер – она все равно не желала замуж ни за кого другого.
Роберт же между тем остался на газоне перед домом один на один с Дональдом.
Будь у Роберта его большие мозги в порядке, он бы спокойно направился к своей машине, презрительно велев Дональду закрыть пасть и убираться в дом вслед за хозяйкой. Но вместо этого он повернулся и кинулся бежать. Причем мозг его был столь ущербен, что заставил его пробежать мимо машины, через улицу, где, преследуемый Дональдом, он влез на яблоню перед заброшенным домом, прежние обитатели которого отправились на Аляску.
Дональд же уселся под деревом и принялся на него лаять.
Роберт провисел так целый час, боясь спуститься, покуда Мэри, заинтересовавшись, отчего это Дональд так долго брешет без умолку, не вышла посмотреть и не вызволила своего незадачливого ухажера.
Роберта, когда тот спустился, просто мутило от страха и отвращения к самому себе. И тут же действительно вывернуло наизнанку. После чего, стоя с запачканными ботинками и брюками, он в отчаянии прорычал: «Я не мужчина. Просто-напросто не мужчина. Я больше никогда вас не стану беспокоить. И вообще не побеспокою ни одну женщину».
А пересказал я здесь этот случай оттого, что к подобному же самоуничижительному мнению о своих достоинствах предстояло прийти и капитану Адольфу фон Кляйсту после того, как, взбивая океанскую воду винтами своего корабля, он по истечении пяти дней и ночей так и не сумел отыскать хоть какой-нибудь остров.
Он слишком отклонился к северу – даже больше чем слишком. То есть всех нас занесло слишком далеко на север – даже больше чем слишком. Голод мне, разумеется, не грозил – как и Джеймсу Уэйту, который лежал, окаменев, замороженный, в холодильнике для мяса, в камбузе. Камбуз, хотя там и были вывернуты все лампочки, а иллюминаторов не имелось, все же можно было осветить с помощью адского мерцания электронагревателей в его духовках и плитах.
И водоснабжение тоже работало исправно. В кранах повсюду было предостаточно воды, и горячей, и холодной.
Так что жаждой никто не мучился, однако голод все пассажиры испытывали зверский. Казах, собака Селены, куда-то исчезла. Я не поставил перед ее именем звездочки, так как к этому времени собаки уже не было в живых. Малышки канка-боно выкрали ее, пока Селена спала, задушили голыми руками, ободрали и разделали, пользуясь в качестве орудий лишь собственными зубами и ногтями. После чего зажарили ее мясо в электропечи. О том, что они учинили, еще никто не знал.
Собака уже все равно жила за счет ресурсов собственного организма. К тому моменту, как они умертвили ее, она представляла собой одни кожу да кости.
Но доживи она даже до Санта-Росалии – у нее не было бы впереди сколь-нибудь значительного будущего, даже случись ей там, что мало вероятно, встретить кобеля. Ведь она подверглась стерилизации. Единственное, что было бы в ее силах, чтобы пережить самое себя, – это остаться в сознании маленькой Акико, которой вскоре предстояло родиться, воспоминанием о собаке. При самом благополучном стечении обстоятельств Казах могла бы дожить до рождения на острове других детей, чтобы те играли с ней, видели, как она машет хвостом, и так далее. Лая ее им бы запомнить все равно не удалось, поскольку Казах никогда не лаяла.
6
Чтобы никто не растрогался до слез, я теперь говорю о безвременной гибели Казаха: «Что ж, она бы все равно не написала бетховенскую Девятую симфонию».
То же самое я говорю и о смерти Джеймса Уэйта: «Что ж, ему все равно не дано было написать бетховенскую Девятую симфонию».
Этот извращенный довод, призванный доказать, как мало нам дано совершить за свою жизнь – какова бы ни была ее продолжительность, – изобретен не мною. Впервые я услышал этот довод по-шведски на одних похоронах, где мне довелось присутствовать еще при жизни. На той церемонии провожали в последний путь тупого и не пользовавшегося ничьей симпатией мастера с судоверфи по имени Пер Олаф Розенквист. Он умер совсем юным – или, точнее, в возрасте, считавшемся юным в ту эру, – от наследственного порока сердца, как и Джеймс Уэйт. Я пошел на похороны со своим приятелем, сварщиком Хьялмаром Арвидом Бостремом; хотя теперь, миллион лет спустя, все эти имена – лишь пустой звук. И когда мы выходили из церкви, Бострем сказал мне: «Что ж, он бы все равно не написал бетховенскую Девятую симфонию».
Я спросил, сам ли он придумал эту мрачную шутку, и он ответил, что нет, он слышал ее от своего деда-немца, который во время Первой мировой войны был офицером, ответственным за захоронение убитых на Западном фронте. Солдаты, которым внове была подобная работа, имели тогда обыкновение предаваться философским размышлениям над тем или иным трупом, перед тем как швырнуть ему в лицо лопату глины, о том, кем бы он мог стать, если бы не умер столь молодым. И бывалый напарник среди прочих циничных вещей мог сказать задумчивому новобранцу: «Не грусти. Ему все равно было не написать бетховенскую Девятую симфонию».
Когда меня самого еще молодым похоронили в Мальмё, всего в шести метрах от Пера Олафа Розенквиста, Хьялмар Арвид Бострем, покидая кладбище, так же сказал и обо мне: «Что ж, Леон все равно бы не написал бетховенскую Девятую».
Этот довод пришел мне на память, когда капитан фон Кляйст укорял Мэри за ее плач по человеку, которого они считали Уиллардом Флеммингом. К тому времени минул лишь двенадцатый час их плавания, и капитан чувствовал еще легкое превосходство над нею, да и практически над всеми.
Объясняя ей, как вести корабль курсом на запад, он добавил:
– Что за пустая трата времени – проливать слезы по совершенно незнакомому человеку! Судя по тому, что вы мне рассказали, у него не было родных и никакой полезной деятельностью он уже не занимался. Так о чем же плакать?
Быть может, для меня то был самый удобный момент, чтобы произнести бестелесным голосом: «Он все равно бы не написал бетховенскую Девятую симфонию».
Однако капитан сам решил пошутить – хотя прозвучало это не слишком похоже на шутку:
– Как капитан этого судна я приказываю вам плакать только тогда, когда есть повод. В данном случае оплакивать совершенно нечего.
– Он был моим мужем! Я всерьез отнеслась к браку, который вы заключили между нами. Можете смеяться, коли хотите! – горячо возразила она (Уэйт к тому времени еще не был положен в морозильник, и кончина его была еще свежа в памяти). – Он многое дал этому миру и мог бы дать еще больше, сумей мы его спасти!
– И что же такого замечательного он дал миру? – не удержался капитан.
– Он смыслил в ветряных мельницах больше, чем кто-нибудь из ныне живущих, – отвечала Мэри. – Он говорил, что смог бы закрыть угольные шахты и урановые рудники и что его ветряков было бы достаточно, чтобы в самых холодных частях света стало тепло, как во Флориде. И еще он был композитор.
– Да ну? – отозвался капитан.
– Да! Он написал две симфонии.
Эту подробность – в свете всего сказанного ранее – я нашел особенно пикантной. Оказывается, Уэйт в последнюю в своей жизни ночь приписал себе авторство двух симфоний. Когда они доберутся домой, продолжала Мэри, она отправится в Мус-Джо и отыщет эти симфонии, никогда еще не исполнявшиеся, она постарается сделать все, чтобы они прозвучали в исполнении какого-нибудь оркестра.
– Уиллард был такой скромный, – закончила она.
– Судя по всему, так, – промолвил капитан.
Сто восемь часов спустя капитану пришлось вступить в прямое соперничество с этим образцом скромности и добродетели.
– Если бы только Уиллард был жив, – заявила Мэри, – он бы точно знал, как поступить.
Капитан успел уже полностью утратить чувство собственного достоинства, и хотя впереди у него было еще тридцать лет жизни, ему не суждено было вновь обрести это чувство. Чем не сюжет для настоящей трагедии? Испытывая унижение от насмешек Мэри, он произнес:
– Я готов принять любые предложения. Вам нужно лишь сказать, как на моем месте поступил бы ваш замечательный Уиллард, – и я исполню это с величайшим удовольствием.
К тому времени он дал своему мозгу отставку и плыл, повинуясь лишь чувству и поворачивая по его совету судно то туда, то сюда. Любой встреченный остров площадью с носовой платок вызвал бы у него слезы благодарности. И этому «так, снова сверимся по солнцу, теперь полный вперед, теперь налево, теперь задний ход, теперь направо» не было конца.
Палубой ниже Селена Макинтош взывала:
– Ка-заааааах! Ка-заааааах! Кто-нибудь видел мою собаку?
– Наверху ее нет! – прокричала в ответ Мэри, после чего, пытаясь представить, что сделал бы на их месте Уиллард, подумала вдруг, что, быть может, «Мандаракс» работает не только как часы и переводчик, но и как радиопередатчик. И попросила капитана попытаться передать с помощью компьютера сигнал о помощи.
Капитан не знал, что доставшееся им устройство было «Мандаракс». Он полагал, что это «Гокуби». Такой «Гокуби» валялся и у него дома, в Кито, в ящике стола – вместе с запонками, наручными часами и прочей мелочью. Его подарил ему брат на прошлое Рождество, но он не нашел в этом аппарате какого-либо прока. Для него это была просто игрушка, и он доподлинно знал, что никакого радиопередатчика в ней нет.
Теперь он взвесил в руке эту штуковину, которую принимал за «Гокуби», и ответил Мэри:
– Я бы отдал правую руку на отсечение ради того, чтобы этот кусок железа оказался радиопередатчиком. Но заверяю вас: даже святейший Уиллард Флемминг не смог бы передать или принять какое бы то ни было сообщение с помощью «Гокуби».
– Мне кажется, пора бы вам бросить манеру высказываться так категорично обо всем на свете! – парировала Мэри.
– Да, мне тоже так кажется, – уступил он.
– Тогда пошлите сигнал SOS, – продолжала Мэри. – Хуже ведь не будет?
– Хуже не будет, это верно. Вы совершенно правы, миссис Флемминг, – ответил капитан и, поднеся к губам микрофон «Мандаракса», несколько раз повторил слово, обозначавшее миллион лет назад на международном морском языке сигнал бедствия: «Mayday![5]5
Майский день (англ.).
[Закрыть] Mayday! Mayday!»
После этого он отодвинул компьютер в сторону, так, чтобы они с Мэри могли прочитать ответ, если бы он проступил на экране. Случилось так, что они подключились к тому сектору памяти этого аппарата, который отсутствовал у «Гокуби» и в котором хранились цитаты на всевозможные темы, включая месяц май. И на экранчике появились следующие таинственные слова:
В развратном мае – кизил, каштан, багряник цветущий.
Быть съеденным, расчлененным, опьяненным среди шорохов…
Т. С. Элиот (1888–1965)
7
Капитан и Мэри на минуту поверили, что им удалось вступить в связь с внешним миром, хотя никакой ответ на сигнал SOS не мог прийти так быстро и в столь литературной форме.
– «Mayday! Mayday! Вызывает «Bahia de Darwin». Координаты судна неизвестны. Вы меня слышите? – вновь произнес капитан в микрофон.
На что «Мандаракс» ему ответил:
Май новый выдаться чудесный может, но
Двадцать четыре стукнет нам с тобой.
А. Э. Хаусмен (1859–1936)
Итак, стало очевидным, что это сам компьютер, реагируя на слово «май», выдавал им цитаты. Это несколько озадачило капитана, но он продолжал верить, что в руках у него находится «Гокуби», хотя, быть может, и чуть усовершенствованной модификации, чем тот, который хранился у него дома. Ничего-то ему не было известно! Уловив, что ответы он получает на слово «май», капитан решил попробовать «июнь».
«Мандаракс» немедленно отреагировал:
Уж июнь бушует повсюду.
Оскар Хэммерстайн II(1895–1960)
– Октябрь! Октябрь! – выкрикнул капитан.
И «Мандаракс» отвечал ему:
Осенние листья увяли,
Сер, как пепел, был небосвод.
Плоско-пепельным был небосвод.
Шел пустынный вечер, октябрь –
И мой самый непамятный год.
Эдгар Аллан По(1809–1849)
Это было все, на что был способен «Мандаракс», который капитан все еще принимал за «Гокуби». Мэри сказала, что, пожалуй, лучше ей забраться в «воронье гнездо» и понаблюдать – вдруг что-нибудь да увидит.
Однако, прежде чем отправиться туда, она отпустила еще одну колкость в адрес капитана, попросив его назвать остров, который она может вскоре увидеть со своего наблюдательного пункта. Ибо вот уже третий день, как тот упоминал все новые острова, лежавшие якобы за горизонтом, прямо по курсу: «Смотрите в оба. Вскоре должен показаться Сан-Кристобаль или, быть может, Хеновеса – в зависимости от того, как сильно мы отклонились к югу, – говорил он; и затем в тот же день заявлял: – Ага! Я знаю, где мы. В любой момент может появиться Худ – единственное в мире место гнездовья волнистого альбатроса, самой крупной птицы на архипелаге». И так без конца.
Кстати сказать, эти альбатросы и по сей день существуют и по-прежнему гнездятся на острове Худ. Размах крыльев у них достигает двух метров, и они все так же верны воздушной стихии. Они все еще полагают, что будущее за теми, кто умеет летать.
Однако теперь, на исходе пятого дня плавания, на вопрос Мэри, какой остров ожидает их впереди, капитан промолчал.
Она спросила снова, и он мрачно ответил:
– Гора Арарат.
Я был удивлен, когда, забравшись в «воронье гнездо», она не вскрикнула от неожиданности при виде того, что я принял за редкое атмосферное явление. Оно начиналось прямо за кормой корабля и тянулось, уходя куда-то вдаль, как кильватер. Явление это, связанное, как я решил, с электричеством, хотя и совершенно беззвучное, было, по-видимому, сродни шаровой молнии или огням святого Эльма.
Бывшая учительница глядела прямо на эту невидаль, не подавая вида, будто считает его чем-то из ряда вон выходящим. И тут я понял, что лишь я способен это видеть и что это в точности такое: туннель в загробную жизнь. Он опять пришел за мной.
До этого я видел его трижды: в тот миг, когда мне отсекло голову, затем на кладбище в Мальмё, когда влажная шведская земля барабанила по крышке моего гроба и Хьялмар Арвид Бострем, которому уж точно не дано было ничего написать, сказал про меня: «Что ж, он все равно не написал бы бетховенскую Девятую симфонию». И в третий раз – когда я сам сидел в «вороньем гнезде» во время шторма в Северной Атлантике под дождем со снегом и морскими брызгами, высоко, точно баскетбольный мяч, держа свою отрубленную голову.
Вопрос, подразумеваемый явлением голубого туннеля, был обращен только ко мне: утолил ли я наконец полностью свое любопытство в отношении жизни? Если да, то мне достаточно было лишь ступить внутрь этого подобия шланга от пылесоса. Даже будь в этом туннеле, светившемся столь же неярким светом, как и электроплиты в камбузе «Bahia de Darwin», всасывающая тяга – она, похоже, не мешала моему отцу, писателю-фантасту Килгору Трауту, стоять в самом входном отверстии и болтать со мной.
Первое, что мне сказал отец из-за кормы «Bahia de Darwin», было:
– Ну что, с тебя не довольно еще этого корабля дураков, мой мальчик? Иди скорей к папе. Только откажись – и тебе не увидеться со мной еще миллион лет.
Миллион лет! Боже мой: миллион лет! Он не шутил. Каким бы плохим отцом он ни был, он всегда держал свои обещания и никогда сознательно не обманывал меня.
Поэтому я сделал шаг в его сторону, но второго делать не стал. Я вел себя как самка синелапой олуши в начале брачного танца. Как и там, этим первым неуверенным шагом запущены были часы, ход которых с этого момента становился неотвратимым. Я уже изменился, хотя до входа в туннель оставалось пройти еще немало. Гул машин «Bahia de Darwin» зазвучал глуше, и стальная палуба стала прозрачной, так что взгляду моему открылась главная кают-компания, где девочки из племени канка-боно обгладывали кости своей безвинной сестры, Казаха.
Первый шаг, сделанный мною навстречу отцу, заставил меня подумать об этих индейских девочках, о сидящей у меня за спиною в «вороньем гнезде» Мэри, о дремлющей в туалете Хисако Хирогуши и ее плоде, о деморализованном капитане и слепой Селене, стоящих на мостике, и о трупе в морозильнике величиной в человеческий рост: «Какое мне вообще дело до этих чужаков, этих рабов страха и голода? Что общего у меня с ними?»
Видя, что я остановился, не сделал второго шага ему навстречу, отец произнес:
– Не останавливайся, Леон. Не время быть робким.
– Но я еще не завершил своих изысканий, – запротестовал я, ибо в свое время сознательно выбрал роль привидения, дававшую в качестве дополнительной льготы право читать мысли, узнавать правду о прошлом людей, видеть сквозь стены, находиться одновременно в нескольких местах, подробно прослеживать возникновение той или иной ситуации и вообще иметь доступ к любым человеческим знаниям. – Отец, дай мне еще пять лет.
– Пять лет! – воскликнул он и передразнил, напоминая прошлые мои подобные просьбы: – «Папа, еще денек…», «Еще месяц, папа…», «Еще полгода, пап…»
– Но я так много узнаю сейчас о том, что такое жизнь, как в ней все устроено, в чем ее смысл! – возразил я.
– Не лги мне, – оборвал он. – Я тебе лгал когда-нибудь?
– Нет, сэр, – признал я.
– Так не обманывай и ты меня, – потребовал он.
– Ты теперь бог? – спросил я.
– Нет, – ответил он. – Я по-прежнему всего лишь твой отец, Леон, но не надо мне лгать. Несмотря на все твое подслушивание и подсматривание, тебе не удалось получить ничего, кроме собранной информации. С равным успехом ты мог бы коллекционировать фотографии бейсболистов или пробки от бутылок. Что же касается смысла всех накопленных тобою сведений, то ты способен проникнуть в него не более чем «Мандаракс».
– Еще только пять лет, папа, пап, отец, па! – взмолился я.
– Вряд ли этого времени хватит на выяснение того, что ты надеешься выяснить. Вот почему, мой мальчик, я даю тебе честное слово: если ты сейчас снова отвергнешь меня, я вернусь только через миллион лет, – отвечал он и тут же принялся заклинать: – Леон! Леон! Леон! Чем больше ты будешь узнавать о людях, тем отвратительнее они тебе станут казаться. Я думал, тот факт, что мудрейшие, как считалось, люди твоей страны отправили тебя на бесконечную, неблагодарную, ужасную и, наконец, бесцельную войну, позволил тебе достаточно заглянуть в человеческую натуру, чтобы знания этого тебе хватило на целую вечность! Есть ли нужда говорить тебе, что эти замечательные животные, о которых тебе явно хочется узнавать все больше и больше, в этот самый миг раздуваются от гордости, как шуты, оттого, что их оружие наведено на цель, готово в любую минуту выстрелить и гарантирует истребление всего живого? Нужно ли говорить тебе, что эта некогда прекрасная и плодородная планета ныне с высоты напоминает пораженные недугом органы Роя Хепберна, вскрытие при аутопсии, и что ярко выраженные раковые опухоли, растущие ради самого роста и поглощающие и отравляющие все вокруг, – суть города, созданные твоими возлюбленными людьми? Нужно ли говорить, что эти животные настолько все растранжирили, что не могут вообразить даже, чтобы их собственных внуков ожидало приличное будущее, и сочтут чудом, если к двухтысячному году, до которого остается всего четырнадцать лет, вообще останется что-нибудь съедобное или приятное? Подобно людям на этом несущем на себе проклятие корабле, мой мальчик, их ведут за собой капитаны, не имеющие карт и компаса и ежеминутно озабоченные единственной проблемой: как сохранить уважение к себе самим.
Как и при жизни, он был плохо выбрит. И, как и при жизни, вид у него был бледный и изможденный. Как и при жизни, он курил сигарету. Мне трудно было сделать шаг в его сторону еще и потому, что он был мне неприятен.
Я сбежал из дома в шестнадцать лет, потому что стыдился его.
Стой в разверстом зеве туннеля вместо отца ангел – и я бы, возможно, ринулся туда без колебаний.
Джеймс Уэйт бежал из дома потому, что люди постоянно причиняли ему физическую боль. С равным успехом он мог бы попасть из детприемника прямиком в лапы испанской инквизиции – так изобретательны были некоторые пытки, измышленные для него большими мозгами его приемных родителей. Я же бежал от родного отца, который ни разу даже в гневе не поднял на меня руку.
Но в ту пору, когда я был слишком молод, чтобы соображать, что к чему, отец превратил меня в своего сообщника, чтобы навсегда отделаться от матери. Он заставлял меня вместе с ним язвить мать за то, что та хотела куда-то поехать, с кем-то подружиться, пригласить друзей на обед, сходить в кино или ресторан. Я во всем соглашался с отцом. Я тогда верил, что он величайший писатель в мире, ибо это был единственный повод для гордости, который мне приходил на ум. У нас не было друзей, наш дом был самым жалким во всей округе, у нас не было даже телевизора или автомобиля. Казалось бы, с какой стати мне было брать его сторону в их споре с матерью? К его чести нужно сказать, он никогда не считал себя великим. Однако в мои молодые, зеленые годы он казался мне великим своим упорным нежеланием заниматься чем-нибудь другим, кроме писанины и непрерывного курения, – а курил он действительно непрерывно.
Ах да, был у меня еще один повод гордиться – и это у нас в Кохоусе действительно что-то значило: мой отец служил в морской пехоте США.
Однако когда мне исполнилось шестнадцать, я сам пришел к выводу, сделанному моей матерью и соседями уже давно: что отец – законченный неудачник, чьи работы появлялись лишь в самых захудалых изданиях, которые не платили ему почти ни гроша. Он наносит оскорбление жизни самим фактом своего существования, решил я: тем, что не занимается ничем, кроме писания и беспрерывного курения – действительно беспрерывного.
Потом я завалил в школе все предметы, кроме рисования – по рисованию в кохоусской средней школе никто не заваливался, это было просто невозможно, – и сбежал из дома, чтобы разыскать мать, чего мне так и не удалось сделать.
Отец опубликовал больше сотни книг и тысячу отдельных рассказов, но за время своих скитаний я встретил только одного человека, который о нем что-нибудь слышал. Столь редкая находка после немыслимо долгих поисков так потрясла меня эмоционально, что у меня, похоже, на некоторое время помутился рассудок.
Я ни разу не позвонил отцу и даже не отправил ему ни одной открытки. Я даже не знал о его смерти – покуда не умер сам и он не явился мне в первый раз в отверстии голубого туннеля, ведущего в загробную жизнь.
Тем не менее я почтил его одним поступком, который, как мне казалось, еще должен был служить для него предметом гордости: я тоже стал морским пехотинцем США. Это была семейная традиция.
И провалиться мне на месте, если я ныне, подобно отцу, не превратился в писаку, строчащего без малейшей надежды быть прочитанным. Ибо кругом нет ни одного читателя. И быть не может.
Итак, мы с ним изображали пару синелапых олуш в брачном танце, делая, что нам назначено, независимо от того, было ли кому за нами наблюдать или, что гораздо вероятнее, не было.
Отец вновь обратился ко мне из сопла туннеля:
– Ты в точности как твоя мать.
– В чем именно? – поинтересовался я.
– Знаешь, какая у нее была любимая цитата? – спросил он.
Разумеется, я знал. И «Мандаракс» знал ее тоже. Она вынесена в эпиграф этой книги.
– Ты веришь, что люди – порядочные животные, которые в конце концов справятся со всеми своими трудностями и превратят Землю в новый Эдемский сад, – пояснил он.
– Можно мне на нее взглянуть? – спросил я.
Я знал, что она где-то там, по ту сторону туннеля, что она уже умерла. Первое, о чем я спросил, когда отец явился мне после моей смерти: «Тебе известно, что сталось с матерью?» Я в свое время искал ее повсюду, прежде чем поступить на службу в морскую пехоту.
– Это не мать там, у тебя за спиной? – снова спросил я. Голубой туннель находился в состоянии безостановочной перистальтики, так что его извивающиеся движения позволяли заглянуть глубоко внутрь. И там в это, третье, появление отца я заметил женскую фигуру и решил, что, может быть, это мать, – но увы…
– Я Наоми Тарп, Леон, – заговорила женщина, оказавшаяся соседкой, которая после бегства матери некоторое время делала все возможное, чтобы заменить мне ее. – Миссис Тарп. Ты ведь меня помнишь, Леон? Иди сюда – как ты заходил, бывало, ко мне через дверь моей кухни. Будь хорошим мальчиком. Ты же не хочешь остаться там один еще на миллион лет?
Я сделал второй шаг по направлению к зеву туннеля. «Bahia de Darwin» при этом обратилась в нечто призрачное, точно сплетенное из паутинок. А голубой туннель – в столь же материальное и осязаемое транспортное средство, как автобус, ежедневно доставлявший меня, когда я жил в Мальмё, на верфь и обратно.
В этот момент сзади, со стороны призрачного «вороньего гнезда» «Bahia de Darwin» раздались крики туманного привидения, в которое превратилась Мэри. Я решил, что у нее началась предсмертная агония. Слов я разобрать не мог, но тон ее восклицаний был таков, точно ей прострелили живот.
Мне необходимо было узнать, о чем она кричит, поэтому я сделал все те же два шага назад, повернулся и взглянул наверх, где она сидела. Мэри плакала и смеялась одновременно. Перегнувшись через ограждение своего наблюдательного пункта и вися вниз головой, она кричала стоявшему на мостике капитану:
– Земля! Земля! Слава Господу! Боже правый! Земля! Земля!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.