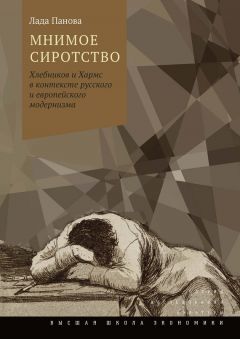
Автор книги: Лада Панова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«А влияние Хлебникова на литературу?… Хлебников с небывалой остротой выдвинул – если не теоретически, то практически – почти все основные проблемы языка поэзии, необычайно обострил чувство языка и внимание к нему. Он абсолютизировал специфику языка поэзии, метафизически раздувая черты и черточки действительных сторон, реальных тенденций языка. Он фантастически искажал историческую перспективу явлений. Он мистифицировал языковые факты. Но если его интерпретация и выводы были глубоко ошибочными…, то все же факты поэтического языка оставались фактами… [К]огда он обращался к социально значимому и социально действенному слову “общего языка”, это слово служило ему чрезвычайно искусно» [Гофман 1936: 237–238].
Прагматические аспекты хлебниковского словотворчества вскрыл Г. О. Винокур в работе «Маяковский – новатор языка»:
«Заумное слово – это дематериализованное слово.
Логическое развитие этой полуманикальной концепции… приводит к законченной философии варварства, т. е. к такому миросозерцанию, для которого не существует культуры как содеянного, воплощенного, оформленного. Пропаганда “самовитого слова” оказывалась не чем иным, как проявлением презрения к слову… [У]топический идеал дематериализованного слова неизбежно подсказывал такую практику словотворчества, которая имеет предметом не поиски новых средств выражения в исторически данном материале, а принципиальное изменение связи между выражением и выражаемым. Это касается не только чистых звукосочетаний, вроде еуы, бобэоби и т. п., но также и так называемого внутреннего склонения слов, вроде мленник вместо пленник; суффиксальных и префиксальных экспериментов вроде достоевскиймо…, вплоть до знаменитого “Заклятия смехом” Хлебникова (1910), в котором к основе смех присоединяются различные словообразовательные средства вне способов, данных в модели языка. Все это не создание новых слов, а только разрушение слова как средства выражения мысли, т. е. чистый нигилизм, в который неизбежно впадал Хлебников, несмотря на подлинность и чистоту своего поэтического дара» [Винокур 1991:329–330].
Исследователь обратил внимание, прежде всего, на программное авангардное «варварство» Хлебникова – ив смысле разрушения естественных языков (а именно перестройки связи между означаемым и означаемым), и в смысле отбрасывания наличных в русском языке словообразовательных моделей. Развивая подход Винокура, отмечу, что Хлебникова в словотворчестве занимала отнюдь не семантика и не форма. Не случайно в исторической перспективе его новообразования постиг неуспех: из огромного числа придуманных им слов, заумных оборотов и написанных таким способом стихотворений в культуре прижились считанные единицы – слово будетлянин, неологизм бобэ-оби и пленительная строчка Крылышкуя золотописъмом. Зато безусловно успешным оказался самообраз Хлебникова как лингвиста-номотета. И причина тому – задействованные им прагматические механизмы. Отрицая и разрушая существующие языки, в частности, с помощью таких декларативных утверждений, как:
Гривенник бросил вселенной и после тревожно / Из старых слов сделал крошево [ХлТ: 455];
Шею сломим наречьям, точно гусятам. / Нам наскучило их «Га-Га-Га!» [ХлТ: 460][57]57
«Война в мышеловке» (1915-1919-1922). См. аналогичную расправу Маяков ского со словами, анализируемую в [Жолковский 1986b: 274–275].
[Закрыть];
и вводя вместо них свой, якобы простой и универсальный, Хлебников осуществляет завораживающие речевые жесты насилия над читателем и человечеством в целом. Такого рода деятельности отдал дань и Хармс.
Резюмируя, отмечу, что к созданию литературных, языковых и социальных артефактов Хлебникова и Хармса подстегивала не столько потребность изготовить совершенное (по любым меркам) изделие, запечатлеть свой творческий порыв, предложить миру новые формы или поразительное содержание, сколько желание утвердить себя в общественном сознании, покорить поле литературы, захватить власть над миром, показать, кто главный, – словом, все то, чего добивался и итальянский авангард. И тут все шло в ход. Хлебников и Хармс декларировали о себе одно, а производили – в литературе и языке – нечто совсем другое. Они и принадлежали к авангарду, и изменяли его принципиально технизированной идеологии, поскольку в создании своего жизнетворчества воспользовались рецептурой предшественников-символистов. При этом широко присваивая чужой репертуар, они выдавали себя за абсолютных новаторов, не укорененных ни в каких традициях.
В целом для Хлебникова и Хармса собственно литературное творчество (как и наука и политика) не являлось самоцелью. Поэтому странно было бы ожидать от них как от писателей – предъявления изделий; а как от «математиков», «лингвистов», «философов» или «государственных деятелей» – свершений в рамках задач и методов соответствующих областей человеческой деятельности; не говоря уже о том, чтобы относиться к их «пророчествам» как к историческим прогнозам, допускающим проверку временем. Все это – колесики и винтики, нужные для функционирования большего, чем они сами, механизма. Назовем этот механизм «эго»-проектом. То, что оба авангардиста ныне почитаются ценнейшими и уникальными писателями, показывает, что их «эго»-проекты были запущены в правильное время, а также что задействованные в них творчество и манифесты, семантика и прагматика образовали правильную конструкцию. Представляется вероятным, что более скромная ставка на одну лишь семантику и изготовление достойных изделий была бы в их случае менее успешной. Сделаться просто хорошими писателями они, скорее всего, не сумели бы. Единственным выходом для них было полное и беспрецедентное величие.
«Эго»-проект получил интереснейшее воплощение в жизнетворчестве обоих авангардистов. К нему мы и переходим.
1.2. Авангардное жизнетворчествоИсследование жизнетворчества (или жизнестроительства) – относительно молодая область в литературоведении. Она была задана пионерским эссе Владислава Ходасевича о Валерии Брюсове «Конец Ренаты» (1928), а в 1990-х годах воскрешена и продолжена специалистами по русскому модернизму. Они указали на жизнетворчество и у других символистов (Александра Блока, Зинаиды Гиппиус и др.[58]58
См. [Cultural Mythologies of Russian Modernism 1992].
[Закрыть]), а также постсимволистов (Анны Ахматовой[59]59
См. [Жолковский 1996].
[Закрыть]). Изложу свои взгляды на жизнетворчество, развивающие традиционный теоретический задел в двух новых направлениях: собственно литературного творчества и поведения авторов в поле литературы.
О жизнетворчестве принято говорить, когда писатель устраивает из своей жизни спектакль, в котором реализует придуманную им эстетическую или идеологическую программу. Жизнетворческий спектакль может строиться и по образцу биографии той или иной выдающейся исторической личности либо знаменитого литературного персонажа. Тем самым писатель превращается в актера, исполняющего роль. Модернистский репертуар таких ролей известен. Это, например, фигура мага, пророка, вождя. Это также Петрарка, оплакивающий Лауру, Антоний, гибнущий от роковой любви к Клеопатре, или такой типаж русской литературы XIX – начала XX веков, как красавица, объект мужского вожделения и жертва страстей. Еще один важный параметр – наличие аудитории. Разыгрываемый на публике и для публики, жизнетворческий спектакль преследует совершенно определенные цели по ее поводу: власть над умами, чувствами и судьбами людей. Итак, жизнетворчество предполагает программный спектакль, наличие роли в нем, выдачу этой роли за подлинное лицо, работу с аудиторией и прагматику власти. К дополнительным, но не обязательным, критериям относятся также необычная одежда, перформансы и мифогенные манифесты. (Только одежды или только манифестов недостаточно, чтобы по ним можно было констатировать жизнетворчество.)
Если жизнетворчество придает жизни писателя свойства художественно построенного текста, то как этот текст соотносится с произведениями того же автора? В принципе, возможны два сценария. Первый состоял бы в том, что жизнетворчество и литературное творчество существуют как параллельные, взаимонезависимые и даже конкурирующие между собой проекты. Второй – в том, что они дополняют друг друга и, более того, действуют согласованно, способствуя повышению литературного статуса автора. Изученные на сегодня случаи все как один свидетельствуют в пользу второго сценария.
Теоретически этот сценарий может быть осмыслен следующим образом. Творческая энергия писателя не вкладывается целиком в создание собственно литературных произведений, а расходуется также на жизнетворчество. «Минус» за изделие компенсируется «плюсом» за репутацию. Как известно, аудитория эпохи модернизма хорошо принимала писателей-жизнетворцев, признавая за ними статус властителей дум. И действительно, если подлинно новаторские изделия нередко, причем именно в силу своего новаторства, вынуждены долго ждать, чтобы пробил их час, то удачно найденная комбинация творческих и жизнетворческих усилий была прямым путем к немедленному признанию. А в тех случаях, когда баланс между собственно литературной продукцией и жизнетворческой был выстроен совершенно оптимально, писатели-жизнетворцы выигрывали и в плане посмертной славы.
Ставка на одну прагматику и ее превращение в искусство, способное конкурировать с традиционным искусством слова, и была спецификой кубофутуризма.
Начну с простых жизнетворческих стратегий, существовавших в модернизме. Брюсов, а по его стопам и соперничавший с ним Гумилев, не щадили, перефразируя Пушкина, жизни и звуков для того, чтобы предстать вождями целых направлений. Другой – тоже простой – случай: писатель и его возлюбленная, Брюсов и Нина Петровская, стилизовали свой роман под роковые отношения Антония и Клеопатры, подумывая даже о двойном самоубийстве. В дальнейшем этот театр двух актеров, разыгранный по мотивам Плутарха и Шекспира, Брюсов сделал литературным фактом, переложив эпизоды своего романа в любовные стихотворения и «Огненного ангела».
Более изысканный вариант жизнетворчества – символистское поклонение Вечной Женственности, в рамках которого Блок, Андрей Белый и их единомышленники выступали в роли пророков Вечной Женственности. В поэзии, писавшейся по мотивам этого жизнетворческого спектакля, они обращались с читателем как с профаном, которому вполне достаточно глухих отзвуков их сакрального знания.
Наиболее утонченную стратегию практиковали некоторые постсимволисты: авангардисты – Хлебников и Хармс, – и Ахматова. Как и в описанных выше случаях, жизнетворчество продолжало служить у них рамкой для произведения и пьедесталом для писательского самообраза. При этом Хлебников, Ахматова и Хармс выстраивали свое общение с читательской аудиторией так, что жизнетворческая рамка вокруг произведения начинала отбрасывать на него свои свойства. В результате сложилась особая читательская практика – мерить фигуру автора по высоте пьедестала, воздвигнутого им самим. Благодаря такой «эго»-прагматике и Хлебников, и Ахматова, и Хармс приобрели репутацию сверхценных творцов, а не просто писателей. Согласно ей Хлебников не только поэт, прозаик и драматург, но и гениальный лингвист, математик, историк, философ, политик, пророк, достояние России; Ахматова – не только поэтесса, но и пророчица, философ, хранитель национальной памяти, «Анна всея Руси»; Хармс – не только взрослый и детский автор, но и логик, философ, пророк и национальная гордость. Эта репутация уже при жизни Хлебникова и Ахматовой внушала аудитории, что их произведения необходимо воспринимать как сверхценные – заключающие в себе истину, тайну, откровения, важные для всего человечества. Сходный феномен имел место и в случае Хармса, но посмертно. Все трое направляли свой творческий потенциал на жизнетворчество – продумывание ролей, способов воздействия на аудиторию, саморекламного баланса между семантикой и прагматикой, – и это сделало свое дело.
Еще один секрет успеха Хлебникова, Ахматовой и Хармса заключается в том, что свою жизнетворческую ипостась они настойчиво дублировали в художественных текстах, а Хлебников еще и в манифестах. В результате их жизнетворчество стало всепроникающим, как бы разлитым во всех областях и уровнях их художественной деятельности. Столь тотального характера в проведении своей прагматической программы символисты не знали.
Жизнетворческое «я» в художественном произведении важно отделять от простой писательской самопрезентации, которая неизбежно присутствует в лирике, а иногда и в других жанрах. Разумеется, все писатели как-то воспринимают себя и так или иначе работают в тексте со своим самообразом. Самопрезентация писателя, даже и приукрашенная, еще не есть жизнетворчество. Жизнетворческая огранка самопрезентации начинается с того, что спектакль, разыгрываемый писателем в жизни, переносится в художественный текст и обеспечивает главенство прагматики над семантикой. Писательское «я» как бы проходит по разряду искусно сконструированных персонажей, долженствующих убедить публику в весомости, значимости, ценности репрезентируемого им автора. Соответственно, важным параметром такой подачи себя становится критерий успешности / неуспешное™. Если публика поверила, что писатель-жизнетворец – таков, каким он себя подает, и готова вручить ему власть над своими вкусами, мнениями, будущим и т. п., значит его жизнетворческие стратегии были оправданы.
Писателям, успешно театрализовавшим свое поведение, сфокусировавшим тексты на мощи своего «я» и создавшим под это «я» заведомо мифогенные манифесты, трактаты и художественные произведения, можно и должно аплодировать. Однако ученый – на то и ученый, чтобы, аплодируя, не опускаться до уровня наивной аудитории, которая искренне верит в то, что разыгранный перед ней жизнетворческий спектакль будто бы и есть сама жизнь, а выступавший в персонажной роли автор будто бы говорил то, что думает и чувствует. В области исследований модернизма произошел любопытный раскол. Специалисты по символизму уже в 1990-х годах признали наличие жизнетворчества в художественной практике Брюсова, Блока и Вячеслава Иванова. Хлебниковеды же пока что находятся, скажем так, в арьергарде, почти таком же, как ахматоведы и хармсоведы, пребывающие в полном неведении относительно жизнетворчества своих подопечных. В чем тут дело?
На мой взгляд, дело в том, что в эпоху постсимволизма произошел качественный скачок в развитии жизнетворческих практик. В руках Хлебникова, Ахматовой и Хармса они достигли подлинного артистизма, став продуманными до мельчайших деталей, мимикрирующими под самоё жизнь – и, как следствие, более действенными, успешными, трудно разоблачаемыми. Свидетельство тому – готовность брюсоведов и блоковедов признавать и рассматривать жизнетворческую составляющую соответствующих авторов, и совершенно скандализованная реакция хлебниковедов, ахматоведов и хармсоведов на аналогичные попытки несолидарных прочтений.
Слепота авангардоведения объясняется и традициями этой дисциплины. Запрет на анализ жизни и личности авангардистов когда-то наложили Р. О. Якобсон[60]60
См. [МВХ: 20–89], с работами «Новейшая русская поэзия» (1919), а также «Подсознательные вербальные структуры в поэзии» (1970), «Из воспоминаний» (1977).
[Закрыть] и Тынянов[61]61
В статьях «Промежуток» (1924) и «О Хлебникове» (1928), см. [МВХ: 211–223].
Приведу лишь одну показательную цитату: «Биография Хлебникова – биография поэта вне книжной и журнальной литературы… – закончилась страшно. Она связана с его поэтическим лицом. Как бы ни была странна и поразительна жизнь странствователя и поэта, как бы ни была страшна его смерть, биография не должна давить его поэзию» [Тынянов 2000: 222–223].
[Закрыть]. Следуя своим формалистским установкам, с одной стороны, и высказываниям Хлебникова о том, что его биография не имеет отношения к его произведениям[62]62
[Тынянов 2000: 222].
[Закрыть] – с другой, они проигнорировали прагматику авангардных текстов. Однако сегодня отрицать, что в авангарде прагматика, т. е. жизнетворчество, играет даже более важную роль, чем семантика, и что порой именно прагматика семантику и синтактику формирует, – значило бы путать авангард с каким-то другим течением, например, акмеизмом, но только не ахматовского, а, допустим, мандельштамовского толка.
Характерное свидетельство авангардоведческого отставания от истории русского модернизма, уже переварившего жизнетворчество, находим в биографиях Хлебникова и Хармса, авторы которых принимают жизнетворческие настояния обоих авангардистов за реальные факты их жизни. Вместо проблематизации личности и биографии Хлебникова и Хармса, интересных в том числе самопрезентационной драматургией, мы вынуждены читать эпическое повествование о новом культурном герое, прометее от лингвистики, математики, логики.
В хлебниковедении высказывались, пусть редко, соображения, что жизнетворчество было не чуждо Хлебникову на последнем этапе его жизни и что жизнетворчество у Хлебникова хотя и имело место, но носило совершенно особенный характер, не похожий на жизнетворчество символистов, и потому требует совершенно особого протокола описания[63]63
[Фещенко 2009: 228–237].
[Закрыть]. Остается надеяться, что авангардоведение постепенно признает за жизнетворчество и «островную» самопрезентацию в ранних «Детях Выдры», и претензии на открытия математических законов истории, и вообще, что в нем победят общепринятые методы литературоведческого анализа жизнетворчества.
Что касается хармсоведения, то оно полностью отказывается рассматривать свой объект в жизнетворческой перспективе, вопреки, кстати, тому, что уже Яков Друскин ощущал и констатировал жизнетворческую ауру чуда, создававшуюся Хармсом вокруг себя.
Поразительным образом авангардоведение проходило мимо того факта, что по сравнению с символизмом жизнетворческий элемент в авангарде решительно усилился. Так, у кубофутуристов выход с «эго»-спектаклем на публику в буквальном смысле слова становится общеобязательным: Маяковский с удовольствием исполнял роль «Владимира Маяковского» со сцены; Хлебников читал свои математические лекции математикам и любительской аудитории, а также публично избирался Королем Времени и Председателем земного шара. В пользу гипотезы о превосходстве авангарда над символизмом по линии жизнетворчества свидетельствует и то, что кубофутуристы смогли реализовать мечту Иванова о всенародном квазиантичном действе, организуемом поэтом. Хармс имел меньше возможностей для перформанса, однако его экстравагантная одежда и неизменная трубка, распугивание прохожих на улицах Ленинграда, увлеченность показыванием фокусов, наконец, псевдоним – явные элементы публичного жизнетворческого спектакля.
Обсуждение очерченного круга проблем будет продолжено в главах III–IX на материале жизнетворческих игр с математикой в символистской традиции и от Хлебникова до обэриутов включая Хармса.
1.3. Авангардный текст под лупой монографического анализаВернемся к вопросу о том, могут ли произведения, какими бы совершенными они ни были, выдержать конкуренцию с полубожественным статусом своих авторов. Дмитрий Александрович Пригов, в игровом ключе рассмотревший культовый статус Пушкина, ответил на него так:
Во всех деревнях, уголках бы ничтожных
Я бюсты везде бы поставил его
А вот бы стихи я его уничтожил —
Ведь образ они принижают его
(«Внимательно коль приглядеться сегодня…», [Пригов 1997: 226]).
Аналогичный отрицательный ответ по поводу Хлебникова и Хармса следует также из всего того, что о них говорилось выше включая наблюдение Кузина: ценители Хлебникова не помнят наизусть его стихотворений.
Для чистоты эксперимента по осмыслению произведений двух авангардистов, во-первых, как литературных текстов, и во-вторых, без вчитывания необходимо на время забыть об исключительном статусе их авторов. Да и вообще, адекватный филологический анализ не сможет состояться, если не различать прагматическую составляющую художественного текста и его семантику.
Прагматика, включая возможное присутствие жизнетворческого самообраза или даже жизнетворческой программы, – это, разумеется, только один из возможных аспектов дизайна авангардного текста. Другие, не менее важные, предметы исследования – обращение Хлебникова и Хармса с формой, те или иные привязки к модернизму и предшествующей ему традиции, отрицание этих привязок, (анти)эстетика, степень соответствия их литературных артефактов критериям как художественности, так и новизны по меркам общемодернистских установок на новаторство. В совокупности эта методология проясняет обсуждаемую проблему: что же такое мы читаем, беря в руки собрания сочинений Хлебникова и Хармса – то ли, на что настраивает нас их культовое почитание?
С установкой на – по возможности – объективный подход в книге будет предпринят монографический и тем самым многоуровневый анализ «Заклятия смехом» Хлебникова и «Лапы» Хармса, широко признанных шедевров авангардистской литературы. Должна заранее попросить у читателя извинения за утомительную педантичность при разборе «Лапы» в главе X: я руководствовалась желанием довести исследовательский эксперимент до логического финала. Менее подробно, но с тем же прицелом на полноту охвата анализируются «Мирсконца» и «Ка». Еще более схематичен разбор «Зангези» – попытка поставить диагноз на основе минимума симптоматичных свойств.
Суть предлагаемых анализов – в смене научной парадигмы с солидарного чтения на несолидарное. Это главным образом значит, что в мои исследовательские цели не входит «улучшение» художественного текста, которое приводило бы его в соответствие с исключительным статусом его автора. Меня занимает другой вопрос: что именно было написано в каждом отдельном случае. При этом оказываются ценными многие существующие наблюдения, сделанные в рамках как несолидарного, так и солидарного чтения, и я их с благодарностью привожу и развиваю.
Главы I, II, X призваны пролить свет на то, почему в авангардоведении монографический анализ востребован до обидного мало. Дело в том, что он угрожает разрушить очарование авангардного произведения, продемонстрировав его вопиющие несовершенства как изделия. Правда, авангардисты и не обязывались производить именно изделия. Как мы помним, они сделали ставку на алеаторичность, не считали литературу более важным занятием, чем математика, лингвистика, логика и политика (не говоря уже о том, что Хлебников и Хармс страдали косноязычием). Главный творческий стимул они видели не в создании текстов, а в обретении максимально высокого культурного статуса. Для этого Хлебникову и Хармсу достаточно было и «слабых» произведений. Что должно было быть сильным – и максимально продуманным – это прагматика и прежде всего жизнетворчество.









































