Текст книги "Под флагом ''Катрионы''"
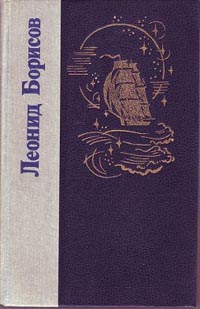
Автор книги: Леонид Борисов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Часть седьмая
Тузитала
Глава первая
Всё не то и не так
еподалеку от острова Уполо стояли три крейсера: немецкий, английский и американский. Огромное оранжево-лимонное солнце поднималось из-за высокой горы Веа. Три десятка лодок с туземцами-рыбаками медленно скользили по спокойной глади океана. Церковный колокол с унылым однообразием оповещал о начале службы. Двести англичан, семьдесят немцев и тридцать два американца – весь наличный состав европейцев на острове – приступили к своим делам: небольшая группа мужчин всех трех национальностей отправилась в свои консульства, остальные уселись за стойками трактиров, винных и бакалейных лавок. Немцы и англичане сняли со стен счеты и принялись подсчитывать барыши, действуя преимущественно теми костяшками, что расположены в рядах посередине.
Американцы со своими семействами ушли на охоту в джунгли; тысячи совсем недавно напуганных птиц тучами кружили над островом. Высокие кокосовые пальмы ненадежно укрывали их в своей негустой листве, похожей на длинные перья.
Вождь Матаафа, сорокапятилетний толстяк с физиономией сатира и бегающими глазами содержателя харчевни, раскладывал сложнейший пасьянс «Коломбина», загадывая свою судьбу: быть королем или узником на Маршальских островах, куда обычно отправляют англичане непокорных европейскому контрольному совету туземных владык острова. Пять тысяч островитян – людей высокого роста, с мужественной, гордой осанкой, стройных, широколобых, золотистоглазых, доверчиво-великодушных и лишенных чувства хитрости и корысти – ежедневно с шести утра до полуночи трудились на сахарных и хлопковых плантациях, стирали и гладили в прачечных, принадлежавших белым господам из Лондона, Берлина и Нью-Йорка; долбили мотыгами землю, с ловкостью обезьян забирались на пальмы, сбрасывая оттуда орехи величиной с детскую голову; готовили пищу на кухнях Листеров, Кауфманов и Хигеров, подсчитывая подзатыльники, оплеухи и пинки, щедро раздаваемые женскими и мужскими руками, белые пальцы на которых были унизаны золотыми кольцами.
Европейцы научили туземное население пить ром, коньяк, виски, платить особый налог в пользу миссионеров и безропотно выполнять все приказания представителей «высшей расы». Лет тридцать назад, в середине девятнадцатого столетия, янки и бритты приступили к вывозу с острова каменных и деревянных идолов, которым молились самоанцы. Не желая ссориться с ними на небезопасной религиозной почве, белые просветители взамен искусно сделанных идолов, пригодных для музеев, привозили фабричного производства копии. Года за два до прибытия Стивенсона на остров местный судья приговорил Салмона Искендера к пятилетнему тюремному заключению за оскорбление жены консула США: вздорная дамочка ударила Искендера по щеке и плюнула ему в лицо, обозвав дураком, свиньей и болваном. Искендер пожаловался консулу; тот затопал ногами и приказал немедленно извиниться перед своей женой. Искендер послушно исполнил приказание, а потом надавал консульше пощечин, трижды плюнул ей в лицо и спокойно сказал своему господину, что вот точно так же била его мадам и приблизительно столь же щедро плевала ему в глаза.
«Этого нельзя делать, – заявил Искендер. – Вот я плюну в твои светлые глаза, господин; что скажешь на это?»
Консул испугался и убежал к себе в дом. Спустя неделю Искендер был осужден. Когда его хотели заковать в цепи, он, рассвирепев, набросился на судью и жандармов, избил их, а сам выбежал из помещения суда и скрылся. На следующей день загорелось жилище судьи. Еще через день двое неизвестных раздели догола жену консула на террасе ее дома и высекли пальмовыми листьями.
Искендера так и не нашли. Американский консул выписал себе слуг из Нью-Йорка. Негр, его жена и двое детей вскоре заменили повара, прачку и водоносов.
Матросы и офицеры с кораблей, стоявших на рейде, вели себя благовоспитанно с европейцами и всячески оскорбляли самоанцев. Жаловаться на обидчиков было некому и некуда. Белый – это господин; он выдумал порох, телеграф и поющую деревянную коробку с трубой. Белый молится своему богу в церкви, и туда не пускают самоанцев, но они позволяют рассматривать своих идолов и даже смеяться над ними. Миссионеры говорят, что идол – это безобразие и вовсе не бог, что настоящий бог, помогающий человеку, только у белых, что надо сжечь или разбить идолов и принять христианство. Белые – очень странные, непонятные люди; они что-нибудь пообещают, а потом говорят: «Ничего подобного, ты врешь!» Они целуют своим женам руку, и эта же рука бьет тебя. Они пьют вино, обманывают друг друга. Самоанец не понимает этого, он крепко держит данное слово, он готов в огонь и в воду ради своего друга; он не украдет, не обманет; он охотно служит белому, привязывается к его детям, но белому это, видимо, не нужно, белый равнодушен к самоанцу. О, если бы он был только равнодушен! Очень мало среди белых хороших, добрых людей.
На острове Уполо, куда прибыл Стивенсон, всё было не так, как он думал, как ему казалось, как хотелось бы ему…
В желтой соломенной шляпе с большими полями, с гитарой в руках, Фенни по трапу сошла на берег и огляделась. Всё не то и не так и не похоже на Таити и Апемама. Гм… Вот и приплыли?
Она щипнула струны гитары, всеми пальцами правой руки прошлась по ним несколько раз, что должно было означать приветствие мужу, под руку с Ллойдом шагавшему по каменным плитам набережной. Стивенсон – в белой куртке, Ллойд – в темных очках и полосатой пижаме.
– Кто такие? – спросил миссионера секретарь американского консульства, случайно оказавшийся в этот час у причала. – На актеров похожи.
– Актеры и есть, – подтвердил миссионер. – Вот тот, усатый, тенор, а который в очках – пианист, Женщина, как видите, гитаристка.
– Это, очевидно, те самые, которых ждут из Сан-Франциско, – предположил секретарь. – Что ж, всё же некоторое развлечение, преподобный отец! Женщина немолода, но…
– А вот и комическая старуха, – сказал миссионер, кивая в сторону миссис Стивенсон.
– Багаж у них бедный, – заметил секретарь.
– Актеры, – пренебрежительно отозвался миссионер.
Никто не ожидал Стивенсона на острове; он никому не сообщал о своем приезде, – он просто приплыл и вот сошел на берег, осмотрелся; взгляд его, задержавшийся на остроконечном шпиле церкви с четырехконечным крестом и окнах домов на набережной, стремительно пробежал по облакам над головой, по кораблям, стоявшим на рейде, по горизонту, затянутому непроницаемо лиловым туманом. «Здесь – навсегда, точка…» – подумал Стивенсон и вздохнул. Он не испытывал ни печали, ни радости, – чувство полнейшего равнодушия ко всему овладело им с первой же минуты, как только он оказался на берегу Уполо. Ни трепета, ни слез, одно лишь безразличие, которое он сам называл маской печали…
– Первый, кто подойдет к нам, – сказал Ллойд, – должен быть вашим читателем, мой дорогой Льюис! Вот, кажется, кто-то идет…
– Пьяный офицер, – сказала Фенни. – Никакого внимания! Взглянул и сплюнул.
– Мне уже скучно, – заявила миссис Стивенсон и зевнула.
– Кто-то направляется в нашу сторону, – нерешительно проговорил Ллойд, боясь ошибиться. – К нам!
– На нем белый сюртук, – сказала Фенни.
– Ему лет сорок, – добавила миссис Стивенсон.
– Приятное лицо, – сказал Ллойд.
– Походка американца, – небрежно, но твердо произнес Стивенсон.
Человек в белом сюртуке оказался очень влиятельным лицом на острове. Он быстро и очень ловко – не без такта и чувства собственного достоинства – познакомился с прибывшими, отрекомендовавшись так:
– Хэри Моорз из Мичигана, к вашим услугам!
Затем спросил, надолго ли мистеры и миссис прибыли сюда, есть ли здесь у них родственники и – ради бога, простите, – кто вы такие? Стивенсон назвал себя первый, не добавляя, что он писатель. Не желая слушать остальных приезжих, Хэри Моорз порывисто вскинул голову и не мигая, недоверчиво и вместе с тем влюбленно посмотрел в глаза Стивенсону:
– Писатель? Вы, сэр, тот Роберт Льюис Стивенсон, который стоит у меня на полке? Это вы, сэр?
Стивенсон кивнул головой.
– Великий боже! К нам приехал Стивенсон! – тоном мольбы о помощи закричал Хэри Моорз из Мичигана. – Вы будете плантатором, сэр! Ананасы, ванильное дерево, спаржа, бобы, лошади, коровы, свиньи! Да что же мы стоим! Эй, вы! – крикнул он кому-то, повернувшись в сторону главной улицы (она же и набережная). – Сюда! Великий боже, к нам прибыл Роберт Льюис Стивенсон! Сэр, я счастлив познакомиться с вами!
Путешественники направились в дом Хэри Моорза, где и жили в любезно предоставленных им двух комнатах не менее двух недель, пока происходила покупка земли, нудные хлопоты и веселая суета. Стивенсон приобрел в полную собственность 400 акров земли на расстоянии трех миль от порта, на высоте 800 футов над уровнем океана. Земля обошлась Стивенсону в 400 фунтов стерлингов, и два дома (один для Ллойда и четы Стронг) в 2000 фунтов плюс 400 фунтов – стоимость фруктовых деревьев. Когда здания вчерне были готовы, Ллойд и мистер Стронг отправились на родину Стивенсона за мебелью и книгами, – короче говоря (по выражению Стивенсона), «за потрохами бедного аиста».
Оставшиеся продолжали корчевать в своем саду пни, рубить кустарник, сажать цветы и деревья. Стивенсон трудился с утра до вечера. Иногда (и дажа очень часто) он бросал топор, отирал пот со лба и щек и в изнеможении опускался на землю. Самоанец Сосима – слуга и доверенное лицо Стивенсона – садился рядом с ним, подальше отодвигал дымящуюся жаровню (единственное и мало действующее средство от москитов) и на ломаном английском языке спрашивал:
– Зачем тебе, господин, так много работать? Ты богатый человек, но почему у тебя нет магазина? Откуда ты берешь деньги? Почему ты такой тонкий? Ты мало ешь? Сосима ест очень мало, но он посмотри какой! Ударь кулаком в грудь! Попробуй, толкни ногой в живот! Ничего, не бойся, ударь!
Он задавал сотню вопросов и подолгу слушал ответы, поправляя Стивенсона, когда тот путал порядок и отвечал не с начала, а с конца или середины.
– Ты лежи, господин, – говорил он принимавшемуся за работу Стивенсону. – Лежи! И твой жена тоже пусть отдыхает, а Сосима будет работать. Надо купить лошадь, господин!
Появилась лошадь, и с нею новый слуга – Лафаэл. Он ухитрялся работать втрое больше лошади. Стивенсон не раз предлагал своим слугам чаще отдыхать, на что они иопуганно таращили глаза и о чем-то шептались между собою. Стивенсон однажды угостил их вином и сам выпил с ними, а потом заявил, что сегодня он намерен заплатить им за труды. Сосима и Лафаэл ничего не поняли и в знак этого растопырили пальцы на своих руках, помахивая ими перед глазами Стивенсона. Когда же он протянул им новенькие, хрустящие кредитные билеты, и Сосима и Лафаэл обидчиво и даже оскорбленно сжали губы и опустили глаза.
– Но ведь у других, у кого вы работаете, вы брали деньги? – спросил Стивенсон. – Вы трудитесь, – значит, имеете право получить жалованье. Берите же, друзья мои!
– У других мы берем деньги, – ответил Сосима, и лицо его просияло, – но у тебя мы не можем брать деньги. Ты нас кормишь, подаешь руку, разговариваешь с нами, ты щедрый, добрый человек!
– Ты великий лесной дух Айту, – кстати добавил Лафаэл. – Когда ты смотришь на нас, мы хотим жить и служить тебе всегда.
– Эти деньги делают нам больно, – снова заговорил Сосима. – Ты сказал: «Друзья мои», а сам уходишь – далеко, как другие. Они кинут деньги, а сами не знают, какие у нас имена.
– Тебе нельзя курить, господин, – сказал Лафаэл и по-европейски погрозил пальцем. – Зачем ты пьешь дым?
– Зачем ты такой тонкий, как сабля у офицера? – снова приступил к своим вопросам Сосима. – Что ты тут будешь делать? Ты всегда хочешь быть нашим другом или тебе захотелось посмеяться над нами?
Стивенсон ответил, что он приехал сюда навсегда и что он любит тех, кто помогает ему, заботится о нем. Спустя неделю Фенни принялась лечить жену Лафаэла и преуспела в этом. По утрам у окна ее комнаты выстраивалась очередь самоанок с ребятишками; они приносили кокосовые орехи, ананасы и какие-то лепешки причудливой формы, здесь же, у окна в саду, снимали с себя свое легкое, похожее на детскую юбочку, одеяние и, не стыдясь и нимало не смущаясь, стройные, красивые, похожие на ожившую бронзу, просили прогнать злого духа, который мучит их – одну сильной болью в плече, другую где-то внутри, в животе, а вот эту скребет ногтями по спине и голове.
– Ты всё можешь! Ты всё видишь! Помоги нам!
Фенни помогала, но лекарства кончались, и она отправила Ллойду телеграмму с требованием привезти максимальное количество простейших медикаментов. Ллойд прибыл с целым транспортом мебели, книг, картин, кухонной утвари. К этому времени дома Стивенсона были закончены отделкой. Стивенсон один, без помощи горячо любивших его слуг, обставил свою комнату (она же кабинет и спальня): для книг были устроены полки, в углу поставлена деревянная койка, подле нее у окна – небольшой стол. Пианино, зеркала и диваны расположились в холле и комнатах Фенни. Ллойд уютно устроился в своем маленьком домике. Месяца два спустя был выстроен коттедж для супругов Стронг.
Мать Стивенсона заняла крошечное помещение по соседству с комнатой своего сына.
– Теперь нужно ждать специальных корреспондентов и фотографов, – сказал Хэри Моорз, принимая из рук Стивенсона сигару. – У вас хорошо, сэр. Ваша супруга очаровательна, – к ней так идет черное бархатное платье! Прекрасно воспитан ваш сын, сэр. Но вы, простите, грустны…
Стивенсон грустил. Мечта его исполнилась, – он на Самоа. Но хорошо ли ему? Чувствует ли он себя счастливым? Легко ли ему работается? Что пишет он сейчас, о чем намерен писать?
«… Я здесь, конечно, временный жилец, – писал он Бакстеру в конце 1890 года, – хотя я и помещик и обзавелся хозяйством весьма внушительным и знакомствами очень влиятельными. У меня обедают консул США, местный миссионер – он же судья на острове, немецкий консул, актриса Флеста, застрявший здесь путешественник-француз, несколько журналистов – люди, которым не повезло в Европе и абсолютно нечего делать здесь. Возможно, лишний здесь и я… Всё чаще и чаще вспоминаю родину, тоскую и, утешая себя, уповаю только на возможность покинуть этот кусок земли и снова начать странствовать по белу свету. Мой дорогой друг! Не ищите того, что мы называем счастьем, – пусть оно ищет нас (что оно и делает), а мы его пугаемся и, принимая за нечто другое, терзаем себя, глупо полагая, что нам дарованы не одна, а по меньшей мере две жизни… Я потихоньку и понемножку пишу новеллы; сюжеты для них мне подсказывают тоска, отчаяние и мое необузданное воображение… Соглашайтесь на все условия издателей, дорогой друг! Я сильно издержался. Если я умру в этом году, мои родные не смогут назвать себя богатыми наследниками. Я должен написать еще по крайней мере три романа и два тома мелочей. Простите, дорогой мой, я уже устал. Болит спина, ноет в груди, я весь мокрый от испарины. Подробности истории с прокаженными и моим письмом в газеты вы прочтете неделю спустя. Всё это возмутительно и подло…»
Стивенсон писал это потому, что в марте 1890 года прочел в «Сиднейском пресвитерианине» письмо преподобного доктора Хайда из Гонолулу к своему другу-священнику преподобному Гейджу. Письмо содержало оценку жизни и деятельности отца Дэмиэна:
«… Дэмиэн был грубым и грязным человеком, упрямым фанатиком; он ничего не сделал, чтобы улучшить положение прокаженных в колонии на острове Молокаи. Он, наконец, был порочный и легкомысленный человек, и проказа, от которой он умер, явилась следствием его необузданных низких страстей…»
Стивенсон был возмущен. Его трясло ксак в лихорадке, когда он читал эту ложь, пасквиль и клевету на человека благородного и самоотверженного. Воспоминания о лепрозории, в котором Стивенсон пробыл восемь дней, еще жили в его памяти. В порыве негодования он написал в защиту отца Дэмиэна письмо доктору Хайду.
«… Вы клевещете, мистер Хайд! – писал Стивенсон. – Вы живете в уютной, теплой квартире и, конечно и бесспорно, видите мир только из окна своего кабинета и, не менее бесспорно, если никогда и не сделали ничего преступного, то также никогда не совершили ничего доброго, никому не помогли, ничьих ран не излечили и – я убежден в этом, – не рискнули на такой подвиг, который преподобному отцу Дэмиэну оказался вполне по силам: он был человеком долга, чести и благородства. Возможно, ему не был чужд фанатизм, и человек этот был неопрятен, но все же какой это большой, прекрасный человек! И я вместе с моей доблестной семьей говорю в лицо Вам, мистер Хайд: руки прочь от светлых риз, украшающих светлый подвиг! Не клевещите на высокий пример, столь необходимый в наши дни миру!..»
Письмо Стивенсона было опубликовано в той же сиднейской газете.
– Мистер Хайд прибегнет к закону о пасквилях, и вы жестоко пострадаете, сэр, – сказал Стивенсону американский консул. – Ждите грозы!
– Я ее вызвал, я не спущусь в долину, – останусь там, где и стоял – на самом видном месте, пусть меня поразит молния, – проговорил Стивенсон. Слово «молния» он произнес с усмешкой и даже презрением. Ему очень хотелось, чтобы памфлет его не остался без ответа; он ждал рассерженных «периодов и глаголов» по своему адресу от клеветника и, может быть, от целой группы обиженных им людей. Стивенсон понимал, какая опасность ему угрожала.
– Мы можем быть разорены, – говорил он Фенни и матери. – Нас могут изгнать с острова. Эти преподобные отцы Хайды сильны. Я жду любой гадости, они на это мастера.
– Я любуюсь вами, мой дорогой Льюис, – сказал Ллойд. – На вашем месте я поступил бы точно так же. Доктор Хайд не решится на борьбу с вами.
– На борьбу – да, не решится, – ответил Стивенсон, – но толкнуть или подставить ножку, это он может.
– Он трус, – сказала миссис Стивенсон, – а трус позволяет себе быть наглым только один раз в своей _жизни.
– Ни о чем не беспокойся, Луи, работай спокойно, – утешала Фенни.
Мать Стивенсона оказалась права: трус не позволил себе быть наглым дважды. Опубликованное письмо Стивенсона осталось без ответа…
Глава вторая
«И от судеб защиты нет»
«Владетель Баллангрэ» окончен и отправлен в Лондон.
В пять часов утра Стивенсон уже на ногах и приводит в порядок всё то, что накануне продиктовано Изабелле Стронг – сестре Ллойда. Очень хорошо удаются рассказы о туземцах, о жизни на острове; начата обработка дневниковых записей о грязной политике Англии, Америки и Германии, старающихся окончательно поработить коренное население острова. Стивенсон пишет статьи в газеты – английские, немецкие, американские, он обратился с личным письмом даже к императору Германии! Фенни долго хохотала над этой младенчески наивной выходкой мужа, а Ллойд молча неодобрительно смотрел в глаза отчиму и демонстративно вздыхал. Миссис Стивенсон заявила, что кайзер Вильгельм, конечно же, испугается, получив письмо писателя Стивенсона, отречется от престола и навсегда поселится на Уполо, чтобы иметь возможность и видеть и слышать великодушного Луи. Господи, надо же придумать такое – писать императору1 Добро бы он жил и царствовал на острове Святой Елены!.. Американский консул заявил однажды Стивенсону:
– Вас вышлют отсюда, сэр. Вы плохой дипломат. Вы большой писатель, и я не понимаю, чего вы хотите.
Стивенсон хотел счастья тем, кого он любил. Ему лестно было называться Дон Кихотом, он был человеком бесстрашным, прямым, великодушным. Двери его дома были широко открыты для всех тех, кого европейское население острова презрительно называло «туземным сбродом». Самоанцы любили Стивенсона с чувством благоговения и страха, – страх происходил от понятного ожидания скорой перемены в характере Стивенсона. Слуги в имении Вайлима старанием Фенни, Ллойда и самого «белого и бледного господина» уже умели говорить по-английски и не раз открыто заявляли ему:
– Мы боимся, что ты уедешь от нас, и тогда нам будет плохо. На плантациях наши братья работают восемнадцать часов в сутки, и они всегда хотят есть, они всегда голодны. Пока ты здесь, ты борешься с людьми злыми. Но ты уедешь, и…
– Я никуда не уеду, – отвечал Стивенсон. – Может быть, в ближайшие дни я покину вас на месяц; я хочу побывать в Сиднее. Я навсегда с вами, – вот в этом доме я и умру.
– Зачем тебе умирать! Живи всегда. А когда ты умрешь, если этого захочешь, – что же будет делать тот, кто подсказывает, нашептывает тебе интересные истории? Куда он денется?
Стивенсон отвечал, что этот добрый дух перейдет на службу к другому человеку.
– К нашему вождю? – спрашивали самоанцы.
Матаафу самоанцы боялись, чтили и в глубине души своей не понимали, для чего он существует и в какой мере он еще и король, если телом рабов его распоряжаются белые? Год назад Германия посадила на королевский трон своего ставленника – Тамазесе. Не значит ли это, что один король должен управлять днем, а другой – ночью? Англия и Америка поддерживают Матаафу и открыто снабжают его снаряжением и боеприпасами. Стивенсон слепо вмешивается в события, происходящие на острове. Лазутчики Германии, проникавшие в его дом под видом гостей, без особого труда выведывали нужные им данные о настроении и тактике Тузиталы – так стали называть Стивенсона самоанцы, что на их языке означало «повествователь». Тузитала не умел хитрить, подличать и скрывать свои мысли и намерения. Случалось, что он откровенностью своей ссорил представителей трех стран, по-разбойничьи расположившихся на острове. За круглым столом в зале для гостей прямо против Стивенсона обычно сидел консул США; рядом с бритым, в профиль похожим на ястреба стариком сидел консул английский, и слева от хозяина дома грузно восседал немец Шнейдер, тугой на ухо и зоркий на оба глаза.
Звенели бокалы, дымились сигары и папиросы, неслышно входили и выходили слуги; в открытые окна тугой пахучей волной вливался крепкий аромат цветущих растений и сонное ворчание океана. Стивенсон сидел в кресле. Иногда он читал новый рассказ; чтение прерывалось восторженными возгласами, аплодисментами Фанни, Ллойда и миссионера Курца. Шнейдер задавал вопрос: «А что будет дальше?» Стивенсон отвечал: «Еще не придумал, жду, что подскажет фантазия или сама жизнь». Шнейдера интересовала предполагаемая подсказка жизни. Тут-то обычно и начиналась стычка. Стивенсон откровенно заявлял, что самоанцев необходимо оставить в покое, не воображать, что они хуже европейцев. Гости молча пили, переглядывались друг с другом, полагая, что в обстановке домашней, за круглым столом, только и возможно чтение чужих мыслей и угадывание, на чью мельницу работает гостеприимный мистер Стивенсон, высоко почитаемый белый, бледный господин, Тузитала, Дон Кихот из Эдинбурга.
– Остров наш невелик, жизнь на нем открыта, как на сцене, – сказал однажды Стивенсон, и гости настороженно прислушались. – На сцене – мы, белые, в зрительном зале – туземцы. Мы ведем роскошный образ лизни; они голодают и, конечно, далеки от мысли благодарить и благословлять нас. На плантациях, принадлежащих Германии, применяются палка, хлыст, кулак, сверхурочные работы. Пушки, стоящие на борту немецкого крейсера, направлены на северный берег острова…
– Стволы орудий всегда направлены в ту или иную сторону; – деликатно заметил один из гостей – офицер с немецкого крейсера.
– Но почему-то их не повернут на юг, – вскользь, лукаво улыбаясь, заметил Стивенсон.
– На английском крейсере пушки целятся на запад, – усмехнулся герр Шнейдер и посмотрел на мистера Утварта, английского консула.
– На западе у нас стоят бараки рабочих, законтрактованных правительством Великобритании, – не совсем деликатно заметил Стивенсон.
Мистер Джеймс – американский консул – тоном паиньки-мальчика заявил, что на крейсере его правительства, пушки накрыты чехлами и глядят в небо.
Стивенсон расхохотался.
– Двое дерутся, третий посвистывает, обозревая луну и звезды! Простите, дорогой сэр, – обратился он к Джеймсу, – на плантациях, принадлежащих Америке, только за одну неделю отправлены в госпиталь десять избитых туземцев. Я навестил их. Они сжимали кулаки, грозя отомстить.
– Вы плохой дипломат, дорогой сэр, – соболезнующим тоном проговорил английский консул.
– Горжусь этим, – отозвался Стивейсон и поклонился автору бездарной дипломатической реплики. – Человеческое сердце должно быть вне какой-либо игры, сэр! Оно обязано принимать сторону несчастных и биться в унисон с сердцами тех, кому очень сильно достается от белых. Мы на маленьком острове, а не в Европе, сэр. Было бы очень хорошо, если бы наш круглый стол объединял только любовь и сострадание и ко всем чертям отправил отвратительное орудие современной дипломатии – лживый, бессовестный язык!
– Вы, сэр, величайший из Дон Кихотов! – воскликнул герр Шнейдер, остервенело затягиваясь сигарой.
– Как жаль, что на нашем острове мне не найти Сервантеса, – печально отозвался Стивенсон и предложил гостям перейти к карточному столу.
Тонкая бестия – американский консул – от имени присутствующих попросил хозяина Вайлимы прочитать что-нибудь из написанного им за последние дни, – искусный сочинитель увлекательных приключений, наверное, обнаружит себя в своей писательской работе: мысли, намерения и некие предполагаемые действия свои припишет герою рассказа или романа. Приятно слушать, нетрудно читать в душе наивного простака, за каким-то чертом поселившегося на одном из островов архипелага Самоа, где жизнь ничем не отличается от той, которую он столь романтично оттолкнул от себя…
– Пожалуйста, сэр, – еще раз попросил американский консул, и его поддержали и остальные гости.
Стивенсон согласился. Он прошел в свой кабинет, взял папку с рукописью. Двое слуг остановили его в холле; кланяясь, улыбаясь и не отводя взора от глаз своего хозяина, они попросили его разрешения присутствовать при чтении и им.
– Мы всё поймем, Тузитала, – сказал Сосима. – Мы никому не помешаем! Мы встанем за оконную занавеску и запретим себе дышать, Тузитала!
– Нет, так нехорошо, – сказал Стивенсон. – Один из вас сядет позади меня, другой – рядом с немцем.
– Тузитала шутит! – испуганно произнес Лафаэл.
– Прошу вас сделать так, как мне хочется, – озорно играя глазами, проговорил Стивенсон. – Я буду читать одну очень страшную историю, и все гости будут ахать и стонать. Они будут стонать и ахать громче, если вы первые закричите «ой!» и схватитесь за голову, словно вас укусила дюжина москитов!
– Тузитала кое-чему научился у этих белых, которые всегда ходят в гости в черном, – со смехом проговорил Сосима и ударил себя по голым коричневым бокам. – Береги себя, Тузитала, – эти господа хитрые и злые!
– Во всех случаях жизни мы должны оставаться добрыми, но… – Стивенсон погрозил пальцем, – но не терять ума!
– Что такое ум? – спросил Лафаэл.
– Это то, что у всех у нас бьется вот здесь, – Стивенсон приложил ладонь свою к сердцу Сосимы, а потом и Лафаэла.
– Но ведь и у твоих гостей ум тоже здесь, – недоуменно пожимая плечами, произнес Сосима. – Почему же тогда…
– Потому, что у моих гостей ум только вот здесь, – Стивенсон кончиком пальца ударил себя по лбу. – Только здесь и никогда в сердце, друзья мои! Идемте, нас ждут.
Он прочел главу из романа «Потерпевшие кораблекрушение». Роман этот был начат совместно с Ллодом, – отчим «построил конструкцию», пасынок «изготовлял винты и сверлил отверстия для них».
– А полировали мы вместе, – после шутливого вступления продолжал Стивенсон, приглаживая усы и отбрасывая со лба заметно редеющие волосы. – Я и мой друг Ллойд решили развлечься. Герой нашего романа скульптор Лоудон Додд живет во Франции. И я и Ллойд на страницах романа вспоминаем наше недавнее прошлое. Мы знаем и любим Францию и ее народ. Далее – предприимчивый американец Пинкертон пытается разбогатеть у себя на родине.
– Кто же терпит кораблекрушение? – поторопился спросить американский консул.
Стивенсон поджал губы и взглядом посоветовался с Ллойдом – выдать сюжетную тайну или помалкивать… Этот взгляд перехватил Лафаэл.
– О! – воскликнул он. – Кораблекрушения не было! Я уже всё понимаю! Прости, Тузитала, расскажи господам про те истории, которые ты пишешь о нас!
Щнейдер тяжело повернулся на стуле и яростно надкусил кончик сигары. Американский консул снисходительно пожал плечами и потянулся за ломтиком ананаса, одиноко лежавшим на глиняном блюде. Английский консул исподлобья смотрел на Сосиму, покусывая тонкие, бледные губы. И никто не взглянул на Стивенсона, а сделать это следовало бы: он поощрительно подмигивал слугам своим, давая понять, что со своей стороны поддерживает их возбужденные реплики, подчеркивает присутствие их среди гостей и вообще на стороне того «шокинга», который, надо думать, дурно подействует на пищеварение консулов.
– Возможно, что кораблекрушения и не было, – после длительной паузы произнес Стивенсон и поежился: влажное, резкое дуновение ветра колыхнуло занавеску, пламя шестнадцати свечей в люстре над столом вытянулось и качнулось вправо. Фенни озабоченно посмотрела на мужа и, выйдя на минуту из столовой, вернулась с белым шерстяным платком, которым и укутала мужу плечи и грудь.
– Мои друзья, – Стивенсон взглянул на слуг, – тонко почуяли движение сюжета. Поступить иначе, обмануть читателя – значит добиться только внешнего эффекта. Дать читателю именно то, о чем он догадывается, чего он хочет (а хочет он всегда чего-то нравственно высокого, доброго), но обмануть в точности догадки, – означает выигрыш в эффекте внутреннем. Загадка должна теплиться в. недомолвках, а недомолвка – это то, что в английской литературе называется глубинным течением. Француз сказал бы так: подтекст. Это глубинное течение уловили мои слуги. Нам, европейцам, следовало бы…
– Имеются ли у вас, сэр, сочинения баз подтекста? – прервал герр Шнейдер.
Стивенрону стало совестно за гостя, и он опустил голову. Ллойд шагнул к окну, Фенни тактично закашлялась. Американский консул допускал, чго вопрос его коллеги вполне здрав, кстати, но не без яда. Консул английский, наоборот, думал, что в заданном вопросе только один яд и ничего больше,
– Глубинное течение, или, что то же, подтекст, герр Шнейдер, – не поднимая головы, ответил Стивенсон, – это душа человеческой речи. В речи художника он еще и глаза.
– Не понимаю, простите, – пожал плечами герр Шнейдер. – Я человек простой. И я так понимаю, что подтекст – это просто-напросто хитрость, верно? А к чему она? Неужели нельзя быть искренним? Скажите, а в библии есть подтекст?
– Оттуда он и пошел, – поднимая голову и оживляясь, ответил Стивенсон, всем сердцем радуясь тому, что консул Германии не совсем тупой человек. – Вся библия, герр Шнейдер, держится на глубинном течении, иначе она не поддавалась бы толкованию.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































