Текст книги "Пушкин"
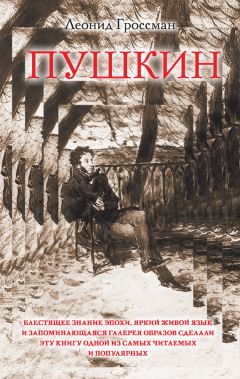
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Но старушке уже недолго пришлось управлять ее хозяйством. После кратковременной болезни нянюшка тихо скончалась на руках Ольги Сергеевны 31 июля 1828 года.
Скромны были похороны бывшей крепостной, уже неразрывно связавшей свое смиренное имя с историей русской литературы. Поэт Языков в стихотворении «На смерть няни А. С. Пушкина» верно предсказал, что ее образ не умрет «в поучительных преданиях про жизнь поэтов наших дней». Этот лирический некролог был широко оправдан временем. Народной сказительнице, легенды которой записывал Пушкин, чьи песни он преображал в свои волшебные поэмы и чей простодушный и мудрый образ он столько раз любовно зарисовывал в своих творениях, суждено было пережить многих прославленных писателей своей эпохи. Сильнее и глубже всех «муз романтизма» она участвовала в поэтическом движении пушкинской плеяды. Как лесной родник, питающий великие реки, она была живым источником притчи Жуковского о царе Берендее и бессмертных фантазий Пушкина о царе Салтане, о мертвой царевне и о том несравненном лукоморье, где «лес и дол видений полны»… Наряду с чудесными вымыслами и минувшая быль эпохи императриц, хорошо запомнившаяся рабе Ганнибалов, питала ее устные рассказы и могла служить Пушкину для художественной хроники о его предках. «Ты занимала нас, добра и весела, про стародавних бар пленительным рассказом», – писал в 1827 году Арине Родионовне ее восхищенный слушатель Языков. И верный ее памяти Пушкин вскоре по-своему справил поминки по этой народной сказочнице в яркой бытовой живописи своего «Свата Ивана»:
…Да еще ее помянем:
Сказки сказывать мы станем —
Мастерица ведь была
И откуда что брала!
И куды разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!..
В бурную историю жизни Пушкина особый, ровный и теплый свет льется от образа этой северной крестьянки, ласкавшей мальчика, утешавшей узника и вдохновлявшей гениального поэта. Если друзьям его и не удалось отыскать ее «крест смиренный», чтоб увековечить для потомства надгробный холмик этой замечательной песельницы, образ ее неизгладимо запечатлелся в сердцах русских людей. Кто не помнит «Филиппьевну седую», кто не любит няню Татьяны? Кто не чувствует в чертах крепостной старушки Лариных живой прообраз сердечной русской женщины, которую Пушкин с такою сыновней нежностью называл в жизни своей «мамушкой», а в стихах своей «голубкой дряхлой»? Вдохновительница величайшего национального поэта, Арина Родионовна всегда будет жить в благодарной народной памяти вместе с его бессмертными творениями.
III
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
1
18 ноября 1827 года Пушкин получил срочный вызов к московскому обер-полицеймейстеру. Грозный генерал Шульгин сообщил ему запросы военно-судной комиссии: «им ли сочинены известные стихи, когда и с какой целью» и «почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в сих стихах изъясненное»? Под «злоумышленниками» имелись в виду руководители восстания 14 декабря. Пушкину, таким образом, высказывалось подозрение правительства в его осведомленности о готовившемся военном покушении на самодержавие.
«Александр Пушкин не знает, о каких известных стихах идет дело, и просит их увидеть», – написал поэт против первого пункта, а на второй ответил: «Он не помнит стихов, могущих дать повод к таковому заключению».
27 января Шульгин представил Пушкину в запечатанном конверте отрывок из «Андрея Шенье», известный в обществе под заглавием «На 14 декабря». Отрывок начинался прославлением событий 1789 года во Франции:
Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Всё ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали.
Пушкину оставалось только восстановить историю своей элегии и указать на подлинный смысл фрагмента.
Он объяснил, что стихи написаны им задолго до «последних мятежей», что относятся они к французской революции и имеют в виду взятие Бастилии, присягу в манеже, ответ Мирабо, перенесение тел Вольтера и Руссо, казнь Людовика XVI, деятельность Робеспьера и Конвент. Такое обилие исторических имен и фактов исключало возможность приурочения этих стихов к современности. «Все сии стихи, – заключал Пушкин, – никак без явной бессмыслицы не могут относиться к 14 декабря».
Независимость и резкость последней фразы звучала вызовом власти, и так именно она и была воспринята высшими инстанциями. «Дерзость» поэта, брошенная прямо в лицо органам верховного сыска, отразилась на окончательном приговоре по этому делу, которое тянулось еще полтора года. Только 28 июня 1828 года Государственный совет дал резолюцию «в отношении к сочинителю Пушкину», «что по неприличному выражению его в ответах своих насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения поручено было иметь за ним секретный надзор». Заключение это было утверждено Николаем I.
Одновременно с органами политического следствия выступает против Пушкина и официальная церковь. На этот раз обвинение в государственных преступлениях возбуждает против него «первенствующий иерарх православия» – петербургский митрополит Серафим, боевой политик и воинствующий церковник. 28 мая 1828 года до него дошли списки «Гавриилиады». Можно представить себе, с каким негодованием воинствующий монах читал иронический рассказ о том, как
Всевышний бог склонил приветный взор
На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей…
Грозный митрополит, подвергавший беспощадному сожжению богословские трактаты за малейшее отклонение от буквы священных текстов, увидел в пушкинской поэме дьявольское наваждение, о котором счел необходимым немедленно довести до сведения самого царя.
Николай I распорядился взять под арест распространителя богохульной поэмы штабс-капитана Митькова и поручить рассмотрение дела особой комиссии с неограниченными полномочиями.
Высокие сановники поручили произвести первый допрос поэта петербургскому военному генерал-губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову – тому самому, по имени которого полицейский карцер стали называть «кутузкой».
Не подозревавший о новой беде Пушкин летом 1828 года «кружился в вихре петербургской жизни». Он много играл в карты, и к этому времени относится его «баллада об игроках» («А в ненастные дни…»). Одновременно он увлекся женщиной бурного характера и больших страстей – Аграфеной Закревской, которую Баратынский назвал Магдалиной, а Пушкин «беззаконной кометой». Среди этих развлечений он неожиданно получает в начале августа вызов к петербургскому генерал-губернатору.
Вспомнилась несчастная весна 1820 года. Вызов к Милорадовичу, толки о крепости, о Сибири и Соловках, ссылка на юг… О чем теперь его будут допрашивать?
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду…
Кабинет Голенищева-Кутузова ничем не напоминал собрание художественных редкостей Милорадовича. Новый генерал-губернатор был чужд всякой театральности. Он был угрюм и суров. Именно ему в 1826 году было поручено руководить казнью декабристов.
Сухо и строго, держа перед глазами документ, он предложил Пушкину «во исполнение высочайшей воли» дать ответ власти: им ли писана поэма, известная под названием «Гавриилиада»?
Положение оказывалось не менее серьезным, чем в 1820 году. За оскорбление церкви закон угрожал ссылкой в отдаленные места Сибири.
После некоторой паузы Пушкин решительно и твердо отказался от «Гавриилиады» и признал только, что в лицейские годы имел собственноручный список этой поэмы (очевидно, поэт предполагал, что в руках правительства находится один из автографов запретного произведения).
Через две недели после первого допроса Пушкин снова был вызван к петербургскому военному губернатору.
«Государь император соизволил поручить мне спросить у вас, – заявил Голенищев-Кутузов, – от кого получили вы в 1815 или 1816 году в лицее поэму «Гавриилиада», ибо открытие автора уничтожит всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под вашим именем».
Высочайшее недоверие выражалось довольно открыто. Но изменять показание уже было поздно. Пушкин дал письменный ответ: «Рукопись ходила между офицерами Гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, вероятно, в 1820 году».
Но следственное упорство Николая I не так легко было сломить. Получив новое «запирательство» поэта, он отдает приказ о вызове Пушкина уже не к генерал-губернатору, а к председателю верховной комиссии для прочтения ему новой «высочайшей» резолюции.
Пушкин предстал перед главнокомандующим Санкт-Петербурга и Кронштадта графом П. А. Толстым. Сановный старец объявил ему царскую резолюцию:
«Призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем».
Это было прямым выражением «высочайшего» недоверия и одновременно требованием полного сознания.
Пушкин погрузился в долгое размышление. Необходимо было сознаться; но как идти на это после прежних официальных показаний? Единственный выход – непосредственный ответ Николаю I.
«Позволено ли будет написать прямо письмо царю?» – задал он вопрос Толстому. Получив утвердительный ответ, Пушкин написал письмо «на высочайшее имя».
Взятый Николаем I курс на строгую маскировку всех репрессий, предпринимаемых против Пушкина, привел и на этот раз к демонстративному жесту «прощения»: дело о «Гавриилиаде» было прекращено. Правительство получило сознание подследственного и владело документом, который в случае нового выступления его автора бил наверняка.
Но не только власть судила поэта, – свершался и обратный суд. По карандашному тексту чернового показания Пушкина о «Гавриилиаде» сделан чернилами набросок «Анчара». 9 ноября 1829 года Пушкин написал это сдержанно-гневное стихотворение – один из самых сильных протестов против угнетения человека человеком:
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
Тираническое единовластие, беспощадно попирающее права личности и жизнь народов, бросающее на верную смерть «рабов» во имя укрепления своей мощи кровопролитнейшими завоеваниями, – в таких немногих чертах раскрывалась коренная сущность «неправедной власти», тяготевшей над судьбами страны и ее первого поэта.
2
В начале декабря Пушкин уже был в Москве. Недолгое пребывание в ней оказалось на этот раз переломным в его «изменчивой судьбе» и определило все дальнейшее направление его жизни.
Вскоре после приезда на одном из балов Пушкин увидел девушку замечательной красоты «в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове». Это была шестнадцатилетняя Наталья Гончарова, которую только что начали вывозить в свет. Классическая правильность ее черт и глубокая задумчивость взгляда производили на всех неотразимое впечатление; в ней вскоре стали отмечать «страдальческое выражение лба» и особый характер «красоты романтической». «Голова у меня закружилась», – вспоминал Пушкин тот декабрьский вечер 1828 года.
«Страдальческое выражение» не было случайной деталью этого точеного облика. Красавица девушка росла в тяжелой обстановке. Огромное состояние калужских купцов и заводчиков Гончаровых было вконец промотано дедушкой Афанасием Николаевичем. Это ставило всю семью в трудное и ложное положение. Отец прелестной Натали, Николай Афанасьевич Гончаров, с ранних лет страдавший меланхолией, впоследствии заболел острой формой умопомешательства с буйными припадками и неистовыми криками по ночам. До шести лет Наталья Николаевна росла у дедушки на Полотняных заводах, а затем попала в тяжелую обстановку московского родительского дома, где детей приходилось подчас удалять в мезонин с железными дверями, чтобы обезопасить от диких припадков отца. Мать семьи отличалась в молодости замечательной красотой и даже отвоевала у императрицы Елизаветы Алексеевны ее возлюбленного Охотникова; но с годами Наталья Ивановна опустилась, стала невыносимым деспотом и наводила своим взбалмошным характером трепет на всю семью. По фамильным преданиям, «в самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых». Характеру младшей это сообщило черты замкнутости и робости, рано подмеченные Пушкиным; но, судя по ее сохранившимся письмам, она проявляла большую сердечность к близким, много душевного тепла и внимания к ним. Эти документы семейной переписки опровергают традиционное мнение о Наталье Николаевне как о пустой и бездушной женщине и объясняют тот искренний тон привязанности и теплой дружбы, которыми неизменно проникнуты все письма поэта к жене.
Познакомившись с Гончаровыми, Пушкин начал бывать в их доме, где молодое поколение относилось к знаменитому автору с живейшим интересом, а одна из дочерей, восемнадцатилетняя Александра, знала наизусть его стихи и тайно мечтала о нем. Но бедная девушка была некрасива и не могла претендовать на успех у поэта.
Мать-Гончарова нисколько не разделяла восхищения своих дочерей Пушкиным. Насквозь проникнутая ханжеством, вечно окруженная монахинями и странницами, помешанная на церковной обрядности, она не выносила вольнодумных речей и скептических острот своего будущего зятя. Что же касается младшей дочери, то она была чрезвычайно застенчива, «скромна до болезненности», «тиха и робка». Успех у знаменитого писателя подействовал на нее подавляюще. «Я надеюсь приобрести ее расположение со временем, но во мне нет ничего, чем бы я мог ей нравиться» – таково было мнение самого Пушкина.
Но и его отношение к шестнадцатилетней девушке было полно застенчивости, робости и благоговейного восхищения. Он, как художник, преклонялся перед такой совершенной красотой в жизни, воспринимал ее как явление из мира искусства. Недаром его первое посвящение невесте открывается такой характерной «артистической» строфой:
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
На первых порах Пушкин полон нерешительности, весь погружен в созерцание, мечтает навсегда остаться зрителем «одной картины»…
Тем не менее в конце апреля 1829 года он просит Толстого-Американца быть его сватом у неприветливой Натальи Ивановны. 1 мая Толстой сообщает ему дипломатическую резолюцию старшей Гончаровой, оставляющую вопрос вполне открытым. «Этот ответ не есть отказ, – писал ей в тот же день Пушкин. – Вы позволяете мне надеяться». Но ответ все же не был согласием. Пушкин счел необходимым поступить так, как это принято при отказе: в тот же день он выехал из Москвы в далекую Грузию, где уже второй год шла война России с Турцией.
IV
ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ
1
От «милости» властей и «популярности» в столичном обществе Пушкин испытывал непреодолимую потребность бежать – в деревню, в чужие края, в Париж или в Пекин, – лишь бы освободиться от обступившей его «тупой черни».
Давно замышленный «побег» отчасти получил свое осуществление в самовольной и стремительной поездке поэта на турецкий фронт. В кавказской армии сражались друзья-декабристы. В стратегический план главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом Паскевича входило завоевание черноморских портов Трапезунда и Самсуна, откуда так легко было «поехать посмотреть на Константинополь». Такая возможность, видимо, снова, как и в 1824 году, соблазняет поэта. Во всяком случае путешествие в действующую армию давало хотя бы временное избавление от Петербурга.
Пушкин сам рассказал в 1836 году по записям своего путевого журнала 1829 года всю эту замечательную главу своей биографии: посещение под Орлом опального Ермолова (вызвавшее в дорожном дневнике поэта изумительный портрет «Голова тигра на Геркулесовом торсе»); пребывание в калмыцкой кибитке под Ставрополем (получившее отражение в степном мадригале «Прощай, любезная калмычка!»); переезд по Военно-Грузинской дороге (отразившийся в «Обвале», «Кавказе» и «Монастыре на Казбеке»); две-три недели в Тифлисе, где местное общество венчало знаменитого певца Кавказа; встречу с телом Грибоедова, военные действия Паскевича, посещение арзрумского гарема и чумного лагеря. Одна глава автобиографии Пушкина написана им и не нуждается в пересказе. Но ее можно истолковать историческими материалами.
Накануне тридцатых годов, с их тисками и гнетом, летом 1829 года в последний раз блеснула молодость Пушкина. Удаль азиатской войны, опасности горной дороги, восточные бани и грузинские песни, воздушные строфы самого путешественника о «шатре» Казбека и холмах Грузии – все это кажется продолжением далеких южных лет с их скитаниями, таборами, черкесскими песнями, мечтой о заморских краях и бессмертными поэмами.
Путешествие в Арзрум было возвратом к лучшей поре, новым свиданием с Николаем Раевским, новым созерцанием Эльбруса и непосредственным наблюдением творца «Кавказского пленника» над жизнью, нравами и песнями горных народов.
Столь ценивший «сладостный союз поэтов», Пушкин в новой поездке чрезвычайно расширил круг своих личных общений с мастерами размеренной речи.
Недалеко от Казбека он встретил поезд иранского принца Хосрев-Мирзы, посланного в Петербург с извинениями за убийство Грибоедова и всей русской миссии. Принца сопровождал знаменитый поэт и ученый Фазиль-хан. Пушкин просил представить его персидскому писателю и был очарован простотой его обращения и «умной учтивостью» его беседы. Сохранились наброски его стихотворного посвящения Фазиль-хану, в котором русский поэт несколько по-восточному благословляет день и час, когда судьба соединила его в горах Кавказа с собратом по искусству, и благословляет новый путь тегеранского лирика «на север наш суровый, где кратко царствует весна, но где Гафиза и Саади знакомы имена…». Среди этих неотделанных черновиков блещет великолепная строфа:
Ты посетишь наш край полночный,
Оставь же след в своих стихах,
Цветы фантазии восточной
Рассыпь на северных снегах.
В Тифлисе Пушкин познакомился с крупнейшими поэтами современной Грузии – Александром Чавчавадзе (тестем Грибоедова) и Григорием Орбелиани. Это были знатоки русской поэзии; они способствовали знакомству странствующего поэта е народным творчеством своей родины.
В честь Пушкина был устроен праздник с музыкой, пением, танцами. В загородном винограднике за Курою были собраны «песенники, танцовщицы, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии, – сообщал впоследствии устроитель этого празднества. – Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунывная персидская песнь, и Ахало, и Алаверды, и Якшиол…». Пел имеретинский импровизатор под аккомпанемент волынки. Национальное искусство еще ярче выступало на фоне сменявшего временами грузинских музыкантов европейского оркестра, игравшего марш из «Белой дамы» Боальдье.
«Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений. Как часто он вскакивал с места после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось и как он от души предавался ребячьей веселости!»
«Голос песен грузинских приятен», – записал Пушкин в своем «Путешествии», а один из романсов, прозвучавших на этом вечере, он перевел и поместил в своей книге. Это «Весенняя песнь» поэта Дмитрия Туманишвили, расцвеченная восточными орнаментальными образами и красивым строфическим припевом «От тебя ожидаю жизни!». Можно поверить мемуаристу, что под утро, взволнованный этим богатством красочного искусства Грузии и горячими приветствиями тифлисских друзей, венчавших поэта живыми цветами, Пушкин сказал им: «Я не помню дня, когда был веселее нынешнего…»
Дальнейшее путешествие дало новые встречи уже с азербайджанскими поэтами: в Кахетии Пушкин познакомился с Мирза-Джан Мадатовым, автором анакреонтических песен; в штабе Паскевича ему представили одного из крупных писателей Азербайджана, Абас-Кули-Ага Бакиханова, сына изгнанного бакинского хана. Он хорошо владел восточным и западным языками – персидским и французским. Эти встречи не прошли бесследно. Личность и творчество Пушкина были горячо восприняты азербайджанской поэзией, через несколько лет раскрывшей свою любовь и поклонение убитому русскому певцу элегическою поэмою молодого Мирза-Фатали Ахундова.
2
В эти летние месяцы 1829 года сбылась давнишняя мечта Пушкина увидеть войну и даже принять в ней участие.
Его лицейские мечтания о военной деятельности, его стремление броситься в борьбу Греции с Турцией, его прошение о поступлении в действующую армию в 1828 году – все это свидетельствовало о прочной склонности поэта лично и непосредственно оборонять Родину, служить ее историческим задачам, бороться за ее независимость. Интерес к идее «вечного мира» аббата Сен-Пьера никогда не угашал в нем влечения к военной деятельности, возбужденного «грозой двенадцатого года» и окрепшего в среде царскосельских гусар и кишиневских штабных. Один из них, полковник Липранди, умный и зоркий наблюдатель, категорически утверждал, что Пушкин с его «готовностью на все опасности» был бы выдающимся военным и прославился бы на этом поприще, как и на своем поэтическом.
Пушкину предстояло увидеть настоящую, «большую» войну. Как раз в июне 1829 года начинала развертываться сложная, трудная и весьма ответственная кампания. С весны новое расположение турецких войск довольно отчетливо раскрывало намеченный неприятелем план генерального летнего наступления на русскую армию. Из Арзрума, центра военных сил Турции и ставки сераскира, решено было произвести одновременное наступление по всей линии русского фронта, то есть на Гурию, Карс, Ахалцых и Баязет. Русский Кавказский корпус, сравнительно немногочисленный, находился под серьезной угрозой. Необходимо было предупредить намерение турецкого главнокомандующего и сохранить за собой инициативу наступления, угрожая таким важным неприятельским пунктам, как Арзрум и Трапезунд.
В середине мая Паскевич выступил из Тифлиса в поход, а в начале июня уже находился в окрестностях Карса. Здесь, у самой подошвы Саганлугского хребта, на берегу Карс-чая, при разоренном селении Котанлы, Пушкин нагнал русский отряд утром 13 июня, за несколько часов до его выступления на Арзрум.
Так начинался военный поход творца «Полтавы».
В пятом часу дня корпус двинулся на «древний Тавр». Небольшой отряд с целью демонстрации был направлен влево на главный турецкий авангард. Колонной командовал генерал Бурцов, видный член «Союза благоденствия», приобщивший лицеистов Пущина, Кюхельбекера и Вольховского к своей вольнолюбивой «артели». С тех пор он отбыл тюремное заключение в 1826 году и был переведен на Кавказ, где его выдающиеся военные дарования вскоре доставили ему генеральский чин. Это был один из талантливейших командиров Кавказского корпуса, которому Паскевич неизменно поручал самые ответственные задания. Имя его было знакомо Пушкину со школьной скамьи.
Но поэт примкнул теперь не к Бурцову, а к другу горячеводских и гурзуфских дней – Николаю Раевскому, начальнику нижегородских драгунов. «Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку», – вспоминал впоследствии поэт (в этой же части служил и его брат Лев Сергеевич). Полк находился в резерве – друзья неторопливо вслед за главными колоннами двигались по горным дорогам, ведя дружескую беседу после долгой разлуки.
Хотя Николай Раевский считался «прикосновенным» к делу 14 декабря, но в корпусе Паскевича он командовал в решительных сражениях всей кавалерией. Пушкин был рад, что к военному делу его приобщит этот умный друг, кому он посвятил «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье».
К восьми часам вечера войска расположились привалом к лощине, прикрытой холмами от неприятельских разъездов. Здесь, у бивачных огней, Пушкин был представлен Паскевичу.
Это был один из известнейших современных полководцев. Мнения о нем, правда, расходились, он имел многочисленных недоброжелателей и критиков, но несомненным фактом оставались его удачные военные операции, которые нельзя объяснить только случайностью и счастьем. Главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом был отличным организатором походов. Даже весьма мало расположенный к Паскевичу Денис Давыдов, не пощадивший красок для изображения его недостатков (самонадеянность, тщеславие, самовластье и пр.), считал своим долгом «отдать полную справедливость его примерному бесстрашию, высокому хладнокровию в минуты опасности, решительности, выказанным во многих случаях, и вполне замечательной заботливости его о нижних чинах».
К желанию Пушкина совершить поход в рядах его войск Паскевич отнесся с полным сочувствием. Еще в мае он получил от Бенкендорфа извещение, что Пушкин «по высочайшему его императорского величества повелению состоит под секретным надзором», каковой надлежит сохранить над ним и «по прибытию его в Грузию». Соответственное извещение и было сделано Паскевичем тифлисскому военному губернатору. Лично же командир кавказских войск стремился высказать Пушкину свое внимание. «Он был весел и принял меня ласково», – писал поэт об их первой беседе.
В штабе главнокомандующего в ночь на 14 июня Пушкин увидел своего лицейского товарища Вольховского, «запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мной, как старый товарищ», – вспоминал впоследствии Пушкин.
В штабе Паскевича поэт встретился и с братом своего лучшего друга – декабристом Михаилом Пущиным, только что вернувшимся с рекогносцировки неприятельских позиций.
«Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их? – обратился к нему новоприбывший. – Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках…»
Михаил Пущин мог пообещать поэту самую скорую встречу с неприятелем. Только что законченное им обследование лагерного расположения турок на высоте Милли-Дюз побуждало к неотложному выступлению.
Ранним утром 14 июня отряд двинулся дальше и вскоре расположился на левом берегу речки Инжа-Су, уже на поверхности Саганлугского хребта, в восьми верстах от неприступного лагеря знаменитого турецкого полководца трехбунчужного Гагки-паши.
После полудня большая партия куртинцев и делибашей[8]8
К у р т и н ц ы – отборные части турецкой конницы; д е л и б а ш и – особые отряды удальцов-головорезов в пятьдесят человек.
[Закрыть] атаковала передовую цепь казаков. Это и была «перестрелка за холмами», описанная Пушкиным. Поэт вскочил на лошадь и бросился в свой первый бой. Раевский сейчас же отрядил майора Семичева сопровождать Пушкина и удерживать его воинственные порывы. Выехав из ущелья, поэт увидел на склоне горы синюю казачью шеренгу, выгнутую дугой, а на вершине хребта – гарцующих турецких всадников в высоких чалмах и пунцовых доломанах:
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.
Турки поразили поэта дерзостью своего наездничества. Увлеченный картиной сражения, он схватил пику одного из убитых казаков и – в своей круглой шляпе и бурке – бросился на неприятельских всадников. Майор Семичев почти насильно вывел его из передовой цепи. Вокруг происходили удалые стычки и молниеносные смертельные встречи; одну из них Пушкин запечатлел в неподражаемых по своей динамичности стихах:
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Поистине прав был Гоголь, сказав, что слог Пушкина «летит быстрее самой битвы».
Паскевич решил разрезать растянутую неприятельскую линию и опрокинуть разделенные части противника. Маневр удался. Раздвоенная беспрерывным артиллерийским огнем турецкая конница метнулась в противоположные стороны. «Картечь хватила в самую середину толпы», – описал это военное зрелище Пушкин. Немедленно же в обоих направлениях были посланы сильные части для преследования.
Но в это время на скате горы появились густые колонны турецкой пехоты и кавалерии: сам сераскир арзрумский во главе своего тридцатитысячного корпуса спешил на помощь Гагки-паше. В шесть часов вечера русские войска двинулись на турок тремя колоннами, из которых одной, состоявшей из всей кавалерии, командовал Николай Раевский. Произошел один из самых решительных боев всей Арзрумской кампании – сражение при селении Каинлы. Войска сераскира были разбиты и к ночи опрокинуты за Саганлугские горы.
«На другой день, – писал Пушкин, – в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня[9]9
Дальнейший разговор у Пушкина по-французски.
[Закрыть]. «Не утомил ли вас вчерашний день?» – «Немного, пожалуй, граф». – «Огорчен за вас, ибо нам предстоит переход, чтоб подойти к паше, а затем и преследовать неприятеля десятка на три верст».
В девятом часу утра корпус уже находился против Милли-Дюза, у лагеря «первого сановника по сераскире». Обрывистые берега речки Ханы-Су и глубокие скалистые овраги делали его неприступным. Но после безрезультатных переговоров о сдаче Паскевич повел пятью колоннами войска на неприятеля. Поражение сераскира предопределило исход нового наступления. Турки бросились бежать врассыпную. Гагки-паша со своим штабом сдался в плен. Путь на Арзрум был открыт.
В эти дни решительного сражения Пушкин разъезжал по горным вершинам, наблюдая отдельные моменты боя: марш Бурцова на левый фланг, артиллерийскую подготовку Муравьева, налет турецкой конницы, контратаку татарских полков. Пушкину удается спасти раненого турка, которого хотели прикончить штыками; он наблюдает агонию татарского бека, рядом с которым неутешно рыдает его любимец.
«Лошадь моя… остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет осьмнадцать: бледное девическое лицо не было обезображено; чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом…»
Это было новое ощущение войны, первое подлинное представление о ней. Не парадная героика, а действительная битва, беспорядочная и нестройная, тяжелая и оскорбительная, – «война в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти» (так через двадцать пять лет сформулирует Лев Толстой). Главы «Путешествия в Арзрум», где дана глубоко правдивая картина боя во всей его неприкрашенной трагической сущности, – первый опыт новейшей батальной живописи, утвержденной в мировой литературе «Войной и миром».
3
21 июня Паскевич вступил в арзрумский пашалык, а 23 июня, в девять часов вечера, занял древнейшую крепость турецкой Армении, воздвигнутую римлянами, – Гассан-Кале, передовой оплот горной столицы Анатолии. 27 июня, в день полтавской победы, русские войска вступили в Арзрум. В плен сдались сам сераскир и трое его пашей – трехбунчужный Осман-паша и двухбунчужные Абут-Абдулла-паша и Ахмет-паша. Один из них вскоре встретил Пушкина пленительным восточным приветствием:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































