Текст книги "Пушкин"
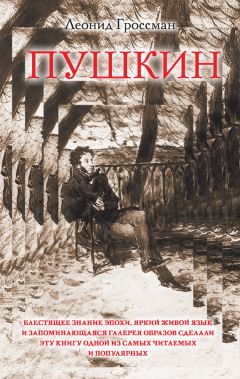
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Поэт считал себя обязанным реагировать на полученное оскорбление. Главным виновником всего происшедшего он считал дипломата Геккерна. Поскольку конфликт с Дантесом был внешне ликвидирован, Пушкин решает получить сатисфакцию от его приемного отца. Около 20 ноября он пишет Геккерну резкое письмо. Главная сила удара заключалась в оскорблении посланника как государственного деятеля, как «представителя коронованной главы», заклейменного прозвищем развратной старухи.
Но прежде чем нанести эту эпистолярную пощечину, Пушкин решает испробовать другой путь: обесчестить голландского посланника в глазах правительства, при котором он аккредитован. 21 ноября он сообщает Бенкендорфу историю с безыменными письмами и отмененной дуэлью. «Тем временем, – заключал он, – я удостоверился, что анонимное письмо исходило от г. Геккерна, о чем полагаю своим долгом довести до сведения правительства и общества».
Столь важное обвинение члена дипломатического корпуса вызвало спешные меры со стороны Бенкендорфа, и уже через день, 23 ноября, Пушкин имел аудиенцию у царя.
Это был второй прием Пушкина Николаем I. С памятной беседы в сентябре 1826 года прошло десять лет. За это время царь неуклонно придерживался в своем отношении к поэту однажды принятой тактики – всячески длить его заточение и поддерживать полную скованность под видом предоставления ему гражданской свободы и даже царских милостей. Как «первый дворянин» своей страны, как глава легитимизма и предводитель политической реакции, он всемерно разделял ненависть петербургской аристократии к вольнодумному сочинителю, насильственно прикрепленному к враждебной ему среде. Государево око – III отделение – твердо считало Пушкина «великим либералом», ненавистником всякой власти. «Осыпанный благодеяниями государя, он до самого конца жизни не изменился в своих правилах, – констатировал вскоре один жандармский документ, – а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных». Отзыв, не лишенный проницательности, но весьма недвусмысленно свидетельствующий об отношении царской власти к поэту.
В беседе 23 ноября Пушкин, вне всякого сомнения, повторил свои обвинения. Он подчеркнул оскорбительность безыменных писем для его собственной и для жены его чести и настаивал на своем убеждении, что автором их является голландский посланник. Такое разоблачение, чреватое чрезвычайным скандалом в щекотливой сфере международных отношений, вызвало, конечно, пристальное внимание Николая I и, вероятно, побудило его к вмешательству. Нужно предполагать, что он взял на себя расследование дела и, в случае подтверждения подозрений Пушкина, обещал дать ему в каком-то виде удовлетворение, пока же связал его словом не прибегать к новой дуэли без «высочайшей» санкции. Об этом можно судить по тому, что после беседы в Зимнем дворце Пушкин был вынужден на время отказаться от намеченного им плана борьбы с Геккерном, и написанное письмо, пылавшее такой страстью и гневом, осталось неотправленным.
2
В эти тревожные месяцы Пушкина ожидала радость встречи со старинным другом – Александром Тургеневым. Он вернулся в Петербург 25 ноября «из Парижа через Симбирск» и 27-го присутствовал на премьере «Ивана Сусанина».
«Я был вчера на открытии театра, – писал 28 ноября Тургенев своему брату Николаю, – ставили новую русскую оперу «Семейство Сусаниных» композитора Глинки, и все было превосходно: постановка, костюмы, публика, музыка и балеты. Двор присутствовал почти в полном составе. Ложи были украшены нарядными женщинами. Я нашел Жуковского в добром здоровье… Вяземский менее грустен. Пушкин озабочен одним семейным делом…»
Но эта мучительная озабоченность не мешала все же поэту живо интересоваться художественными событиями и продолжать обычную для него творческую жизнь. Личная драма не в состоянии была поколебать внутренний строй гениальной натуры. Разговор Пушкина в то время поражал замечательными прозрениями и высокой образностью. Встречавшаяся с ним в конце 1836 года графиня де Сиркур (урожденная А. С. Хлюстина) писала через год Жуковскому: «Его дар угадывать, что он только мысленно мог себе представить, так же поразил меня, как и то поэтическое направление, какое бессознательно принимала обо всем его мысль; разговор его обнаруживал ту зрелость, которую я не находила даже в его лучших стихах; я покинула его, предсказывая ему безграничное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого конца…»
В эти последние недели своей жизни Пушкин отдается культурным впечатлениям, интенсивно живет художественной современностью. Выдающееся событие – нарождение русской национальной оперы – привлекает его пристальное внимание. Он подробно беседует с бароном Розеном, автором либретто «Ивана Сусанина», о драматической стороне композиции и даже берет у него текст оперы для детального изучения и анализа. Пушкин ценил «думу» Рылеева о Сусанине и ее основную патриотическую тему:
Кто Русской по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!
Он беседует с Глинкой о его новом замысле оперы на сюжет «Руслана и Людмилы» и говорит композитору о своем желании многое переработать в своей юношеской поэме.
Пушкин посещает в университете лекции о русской литературе, восхищая своим присутствием студентов и профессора. Плетнев поднялся на кафедру «в воодушевленном состоянии», по свидетельству одного слушателя. «В дверях аудитории показалась фигура любимого поэта с его курчавою головою, огненными глазами и желтоватым нервным лицом». Пушкин сел на заднюю скамью и внимательно прослушал лекцию. В заключение, говоря о будущности русской литературы, Плетнев назвал Пушкина. «Возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя». Петербургское студенчество гордилось великим поэтом и было в восхищении от личного знакомства с ним.
Осенью 1836 года Пушкин посещает выставки в Академии художеств. Здесь его внимание привлекли статуи скульпторов Пименова и Логановского, изобразивших – вместо традиционного античного дискобола – русских юношей, играющих в свои национальные игры – свайку и бабки. «Слава Богу! наконец и скульптура в России явилась народная!» – заметил Пушкин сопровождавшему его президенту академии Оленину. И, отойдя в сторону, поэт записал в духе своей «Царскосельской статуи» два четверостишья о «русской удалой игре» – последняя дань великого поэта мастерам отечественного искусства.
Встречи с Александром Тургеневым уводят Пушкина от безотрадной современности в мир исторических знаний. «Он как-то особенно полюбил меня, – сообщал вскоре Тургенев о поэте, – а я находил в нем сокровище таланта, наблюдения и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные…» Пушкину был дорог этот старый друг его семьи, которого он знал с малых лет. Они посещают вместе театр, Академию наук, общих друзей, поднимают и решают в своих беседах интереснейшие проблемы общекультурного значения. Пушкин даже собирался поместить в «Современнике» 1837 года «глубоко занимательную» статью «Труды Александра Тургенева в римских и парижских архивах».
15 декабря Тургенев до полуночи засиделся у Пушкина. Обсуждали «Слово о полку Игореве»; поэт «в словах песнотворца» чувствовал тот «дух древности», который неопровержимо утверждал в его глазах подлинность памятника.
Вступивший в литературу в самом разгаре битв за обновляющийся русский язык, Пушкин остается до конца его организатором и хранителем. «Есть у нас свой язык; смелее – обычаи, история песни, сказки», – писал поэт в годы своей южной ссылки. Незадолго до смерти он высказывает тревогу за дальнейшую судьбу родной речи: «Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется». Восхищаясь богатством «прекрасного нашего языка», Пушкин признавал, что извлек из него небывалую силу и перековал поэтическое слово: «Я ударил о наковальню русского языка, и вышел стих – и все начали писать хорошо».
Тургенев заинтересовался новыми стихами своего друга. Пушкин раскрыл тетрадь и прочел одно из своих последних произведений – «Памятник». Слушателю запомнилась строфа:
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит…
Новый год Тургенев встречал вместе с Пушкиным у общих друзей Вяземских. Здесь собрались Карамзины, Мещерские, Строгановы, Пушкины, сестры Гончаровы, Жорж Геккерн. Графиня Строганова была та самая Наталья Кочубей, которой поэт увлекался в беспечные лицейские годы, – его «первая любовь», напоминавшая о прекрасной заре жизни, о робких встречах у синего мраморного обелиска в честь кагульской победы; этот памятник был им воспет некогда в его царскосельских «Воспоминаниях» и недавно снова бегло очерчен в «Капитанской дочке».
На этот раз Пушкин мало беседовал с вдохновительницей своих ранних элегий и поздних онегинских строф. Он был озабочен и грустен… «Вот наступает новый год, – писал Пушкин в конце декабря своему отцу, – дай Бог, чтобы он был для нас счастливее предыдущего». Еще не миновал годовой траур по скончавшейся матери. «Семейная история», о которой говорил весь город, становилась непереносимо мучительной. Чтобы рассеять мрачность друга, внимательный и чуткий Тургенев читал письмо, только что полученное из Парижа от брата Николая; это напоминало первую петербургскую молодость, «Арзамас», «Вольность», «Деревню», «Зеленую лампу». Но личная драма омрачала все и придавала воспоминаниям неизбывную горечь. С Пушкиным чокались, старались рассеять его задумчивость, желали счастливого года.
Ему оставалось жить меньше месяца.
VIII
СМЕРТЬ ПОЭТА
1
«Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? – писал Пушкин за два-три года до смерти. – Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда».
После французской революции такое новое соотношение сил чрезвычайно тревожило «аристократов породы и богатства» во всей Европе. Оно вызывало их беспрестанную борьбу с представителями передовой литературы. Одной из причин падения Карла X были изданные им ордонансы о печати. В январе 1837 года российское крыло легитимизма выступило против высшего представителя русской мысли, поэтического таланта и печатного слова. Это выступление было подготовлено длительными попытками медленно деморализовать противника, обессилить его личными огорчениями и нравственно изнурить постоянным раздражением его взыскательного самолюбия. Вызванная этим глубокая интимная драма подготовила исход акта политической мести.
Друзья Пушкина с тревогой следили за ростом его семейного конфликта. Внучка Кутузова, Дарья Федоровна Фикельмон, высоко ценившая поэта, записала в самый день его смерти свои впечатления о разыгравшейся трагедии: «Все мы видели, как росла и ширилась эта гибельная гроза. То ли тщеславье госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце – она во всяком случае не могла больше отталкивать или сдерживать проявления этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую осторожность благоразумного человека, нарушая все светские приличья, выказывал на глазах всего общества проявления такого восхищения, которое было совершенно недопустимо по отношению к замужней женщине – она бледнела и трепетала под его взглядами, было очевидно, что она совершенно потеряла возможность обуздать этого человека, который доведет ее до крайности…»
Все это произвело полный психологический переворот в семейной жизни поэта. Уж не Наталья Николаевна вспоминала «измен печальные предания» и корила мужа его прошлыми увлечениями – Пушкин чувствовал необходимость стать ее «поверенным» и по возможности руководителем в той драме чувства, которую переживала молодая женщина. В обществе продолжались встречи, обращавшие на себя всеобщее внимание неприкрытой нежностью обоих участников этого громкого романа. Любовная драма Натальи Николаевны только углубилась после ноябрьской интриги, в результате которой любимый ею человек становился мужем ее родной сестры. Об этом свидетельствуют воспоминания некоторых членов семьи Пушкина, рисующие картину их чрезвычайно осложнившихся взаимоотношений зимой 1836/37 года.
«Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно, и потому, как в чаду, выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкой (Е. И. Загряжской), не боясь поверить выпавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра (Н. Н. Пушкина) открыть ей глаза, поверяя все хитросплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений. На все доводы она твердила одно: «Сила моего чувства к нему так велика, что рано или поздно оно покорит его сердце». Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна, в свою очередь, не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека. «Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить!» – запальчиво бросила она ей в лицо».
Такова была сложная и мучительная психологическая борьба в доме Пушкина, еле прикрытая внешне праздничными приготовлениями к свадьбе; вид квартиры, напоминавшей модную и бельевую лавку (по выражению самого поэта), приводил его «в неистовство». В начале января ему показали широкий золотой браслет с тремя одинаковыми сердоликами и гравированной надписью: «В знак вечной привязанности от Александрины и Натальи». Это изделие петербургского ювелира возвещало переезд Екатерины Николаевны из квартиры Пушкиных в голландское посольство, где она в качестве баронессы Геккерн становилась хозяйкой нидерландской миссии.
10 января 1837 года Екатерину Гончарову обвенчали с Дантесом. Наталья Николаевна присутствовала на венчании, но уехала сейчас же после службы. Дом Пушкиных оставался закрытым для молодых Геккернов (Дантес, официально усыновленный голландским посланником в мае 1836 года, носил с этого времени его фамилию).
«Но они встречались в свете, – рассказывала впоследствии средняя из сестер Гончаровых – Александра Николаевна, – и там Жорж продолжал демонстративно восхищаться своей новой свояченицей: он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого. Пушкин не принял этого положения вещей, ибо характер его не допускал этого, и он воспользовался представившимся случаем, чтоб вспыхнуть и написать старому Геккерну известное письмо, которое могло быть смыто только кровью».
С этим знаменитым письмом, одной из самых сильных и поразительных страниц эпистолярного наследия Пушкина, Александра Николаевна познакомилась перед самой его отправкой. Пушкин в то время не имел от нее тайн. Некоторое утешение от всех тяжелых переживаний этой зимы он неизменно находил в обществе своей младшей свояченицы. Это была та бледная девушка, которая задолго до свадьбы поэта знала наизусть его стихи и тайно мечтала о нем. Пушкин рано оценил отношение новой родственницы и заметно выделил ее своей симпатией из общей, довольно чуждой ему гончаровской семьи. Еще летом 1834 года, упоминая в письме к жене ее сестер, он называет Александру Николаевну «моя любимица». Когда с осени этого года сестры Гончаровы поселились в доме Пушкиных, обнаружились новые привлекательные черты ее характера: она не проявила особой склонности к придворной и великосветской жизни, не стремилась стать фрейлиной, была равнодушна к нарядам и отдалась почти всецело заботам о своих маленьких племянниках. Это усилило расположение к ней поэта и укрепило их близость: по свидетельству Вяземских, «Пушкин подружился с нею…». С. Н. Карамзина утверждает, что он был «серьезно влюблен в Александрину…».
В ряду женских обликов пушкинской биографии Александра Николаевна Гончарова заслуживает, быть может, самого почтительного упоминания. Ее любовь к поэту была по-настоящему жизненной и действенной. Она не ждала от любимого человека мадригалов или посвящений, но старалась всячески облегчить ему жизнь. Именно с ней Пушкин совещался о тайных своих горестях и притом в самую трагическую пору. Она всячески облегчала материальные затруднения своего зятя, предоставляя в его распоряжение свои деньги и ценности. Именно она сумела внести много тепла и участия в бурные переживания 1837 года, которые причинили и ей столько тяжелых страданий. Можно представить себе состояние несчастной девушки, когда, читая пушкинское письмо, она поняла, что поединок неотвратим. Не ее слабым девическим рукам было удержать стихийный ход событий.
2
Пушкин мучительно переживал свою семейную трагедию. Его тревожила, по свидетельству В. А. Соллогуба, влюбленность царя в Наталью Николаевну. В обществе ходили глухие слухи о невозможности для такой ослепительной красавицы избежать обычной участи каждой миловидной фрейлины Зимнего дворца: «из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти». На эту тему поэт, по свидетельству самого Николая I, имел с ним краткий и смелый разговор за три дня до своей дуэли.
«Одному Богу известно, – продолжает Соллогуб, – что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом».
25 января Пушкин получил новое безыменное письмо. В нем сообщалось о тайном свидании Дантеса с Натальей Николаевной. Поэт показал письмо жене, которая тут же объяснила ему смысл анонимного извещения: Жорж Геккерн потребовал у нее свиданья под угрозой самоубийства для переговора о важнейшем семейном деле. Он заверял честью, что ничем не оскорбит ее достоинства. Свидание состоялось на квартире их общей знакомой Идалии Полетики в кавалергардских казармах. Оно оказалось хитростью влюбленного человека. Наталья Николаевна, тотчас же прервав беседу, «твердо заявила Геккерну, что останется навек глуха к его мольбам…».
Такое объяснение было принято Пушкиным с внешним спокойствием. Он оставил на этот раз жену без обычных гневных вспышек, но со словами: «Всему этому надо положить конец».
В тот же день Пушкин написал предельно резкое письмо Геккерну, воспользовавшись ноябрьским черновиком и попутно бросив ряд оскорблений по адресу приемного сына посланника. Перед вечером к Пушкину явился атташе французского посольства д’Аршиак с вызовом от Дантеса. В тот же вечер на балу у графини Разумовской Пушкин предлагал секретарю английского посольства Медженису быть его секундантом. Это было последнее появление поэта в петербургском свете: по словам Карамзиной, «он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил…».
В среду 27 января 1837 года среди переговоров и переписки о предстоящем поединке, в непрерывных заботах о секунданте, о пистолетах, об условиях дуэли Пушкин, как всегда, провел утро за литературной работой. В последний раз сидел он за своим письменным столом, опускал перо в чернильницу с бронзовой статуэткой негра, подходил к своим длинным книжным полкам за нужным томом.
Дуэльные события неумолимым ходом уже врывались в литературные занятия. Секундант Дантеса настойчивыми записками требовал подчинения дуэльному кодексу, то есть безотлагательного совещания свидетелей.
Но с обычной закономерностью своей творческой воли, быть может, еще более проясненной мыслью о смертельной опасности, Пушкин спокойно и уверенно продолжал свою текущую кабинетную работу.
Он читал, выбирал материалы для «Современника», вел письменные переговоры с новым сотрудником. «После чаю много писал», – отмечено в заметках Жуковского. В номере «Северной пчелы» от 27 января была напечатана статья «Жизнь Петра Великого в новой своей столице». Если Пушкин успел прочесть это сообщение о смутных событиях 1706 года на Волге, Дону и Яике, оно явилось последним изученным им источником к истории Петра Великого.
Нужно было закончить и одно дело по «Современнику». Писательница Ишимова согласилась перевести для его журнала сцены английского поэта Барри Корнуолла.
Отмечая 27 января пьесы, особенно близкие ему, Пушкин выделил пять «драматических изучений», среди них опыты о ревности и мщении – «Амелию Уентуорт» и «Людовико Сфорца».
Пушкин завертывает книгу в плотную серую бумагу, надписывает адрес и быстро набрасывает сопроводительную записку. Это его знаменитое последнее письмо к Александре Осиповне Ишимовой:
«Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете – уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»
Такова последняя запись Пушкина. Уходя из жизни, он посылает безвестному младшему товарищу по их общему делу – служению русской литературе – свою озаряющую похвалу, бодрящую ласку и прощальный привет.
Писать более было некогда. Предстояло спешно сговориться с Данзасом, отправиться во французское посольство к д’Аршиаку, послать за пистолетами к оружейнику Куракину, условиться о месте и часе встречи, переодеться, как для вечернего выхода, в свежее белье и до наступления сумерек обменяться огнем с противником. Сколько дел, и как мало времени!
Редактор «Современника» отодвинул книги, положил перо и отошел от письменного стола.
Последний литературный день поэта Пушкина был окончен. Двадцатилетний творческий труд его обрывался навсегда.
Это было в среду 27 января 1837 года в одиннадцать часов утра.
3
Последние совещания о своей дуэли Пушкин имел с лицейским товарищем Данзасом, который никогда не был его другом. Когда в 1820 году Пушкин был близок к самоубийству, рядом с ним были такие друзья, как Чаадаев и Николай Раевский. Он мог с ними обсудить вопрос о жизни и смерти. Теперь ему пришлось обратиться к школьному соученику, внутренне совершенно чуждому. Пушкин один только раз упомянул имя Данзаса в лицейских годовщинах и лишь для того, чтобы отметить, что он был «последним» в их классе. Последним он оказался и в рядах друзей. Он не пытался, как в свое время Липранди, Соболевский, Нащокин, Жуковский и Соллогуб, расстроить поединок или по крайней мере смягчить его условия. Вместе с д’Аршиаком он занялся организацией дуэли á outrance, то есть до смертельного исхода. Расстояние между барьерами всего десять шагов, что само по себе делало смерть почти неминуемой. Но ее неизбежность гарантировал жестокий четвертый пункт составленных секундантами правил: в случае безрезультатности первого обмена выстрелами дуэль возобновлялась, «как бы в первый раз», на тех же беспощадных условиях.
Приведем неизвестный рассказ о дуэли Пушкина из крупнейшего европейского журнала сороковых годов. Это вообще первое печатное описание знаменитого поединка, о котором в николаевской России запрещено было писать:
«Все это происходило в январе. Снег, затверделый от мороза, сверкал вдалеке за городом под холодными лучами зловеще багрового солнца. Двое саней, сопровождаемые каретой, одновременно выехали из города и остановились за Новой Деревней, отстоящей в трех-четырех километрах от Петербурга. Оба противника вошли в небольшую березовую рощу. Их секунданты – оба весьма достойные люди – выбрали площадку среди просеки, образованной деревьями… Пушкин наблюдал за их действиями нетерпеливым и пасмурным взглядом. Как только печальные приготовления были закончены, соперники стали друг против друга. Предоставленные им на продвижение пять шагов были также отмерены, и два плаща отмечали границы расстояния, которые им запрещено было переступать. Был подан знак. Г. Дантес сделал несколько шагов, медленно поднял свое оружие, и в тот же миг раздался выстрел. Пушкин упал; его противник бросился к нему. «Стой!» – крикнул раненый, пытаясь приподняться. И, опираясь одной рукой о снежный наст, он повторил этот возглас, сопроводив его резким выражением: «Я еще могу выстрелить и имею на это право». Г. Дантес вернулся на свое место, приблизившиеся было секунданты отошли в сторону. Поэт, перенеся с трудом тяжесть своего корпуса на левую руку, стал долго целиться. Но, вдруг заметив, что его оружие покрыто снегом, он потребовал другое. Его желание было немедленно выполнено. Несчастный невероятно страдал, но его воля господствовала над физической болью. Он взял другой пистолет, взглянул на него и выстрелил. Г. Дантес пошатнулся и, в свою очередь, упал. Поэт испустил ликующий крик: «Он убит!..» Но эта радость длилась недолго. Г. Дантес приподнялся; он был ранен в плечо; рана не представляла никакой опасности. Пушкин потерял сознание. Его перенесли в карету, и все с грустью направились в город»[21]21
Даем перевод этого отрывка, опуская или выправляя некоторые неточности. Полный текст опубликован нами в издании «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», IV–V. М. – Л., 1939, стр. 417–434. Автор статьи – лектор французского языка в Петербургском университете Шарль де Сен-Жюльен.
[Закрыть].
Непростительная беспечность Данзаса начала сказываться в полной мере с первого же момента мучительного и грозного ранения Пушкина: ни врача, ни кареты для спокойной доставки тяжело раненного, ни хотя бы бинта и тампона для первой помощи (такая забота входила в круг обязанностей секунданта). Данзасу пришлось пойти на компромисс, несвободный от некоторого унижения, и, скрыв это обстоятельство от Пушкина, принять «любезность» его противников, предложивших карету Геккерна для перевозки истекающего кровью поэта.
На обратном пути он почувствовал сильные боли и сказал Данзасу: «Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу».
Эти простые слова раскрывают всю глубину трагизма, пережитого под конец жизни Пушкиным.
Уже совсем стемнело, когда они подкатили к дому на Мойке. Быстрый, стремительный Пушкин, любивший взлетать одним духом по лестницам, впервые не мог шевельнуться. Данзас вызвал его камердинера. Старый, поседевший Никита, некогда сопровождавший Пушкина в прогулках по Москве, деливший с ним невзгоды южной ссылки, взял его в охапку, как ребенка, и понес по ступеням. Час назад на окровавленном снегу, перед врагами, раненый сохранял неприступную замкнутость и спокойствие. Но в старом Никите было нечто родное, сердечное, почти материнское; от него можно было желать и ждать участия. И Пушкин обратился к нему за последним словом утешения: «Грустно тебе нести меня?..» И Никита, как мать больного ребенка, покрепче обнял его, осторожно пронес по передней и бережно опустил в кабинете среди книжных полок на диван, с которого Пушкину уже не суждено было подняться.
Началось медленное умирание поэта, длившееся почти двое суток. «Что вы думаете о моей ране?» – спросил раненый доктора Шольца, первого из врачей, привезенных к нему. «Не могу скрывать, она опасная». – «Скажите мне, смертельная?» – «Считаю долгом не скрывать и того». – «Благодарю вас, вы поступили, как честный человек; мне нужно устроить семейные дела». И, окинув взглядом свои книжные полки, Пушкин в последний раз обратился к верным спутникам своего труда: «Прощайте, друзья!» Приехавший вскоре лейб-хирург Арендт подтвердил безнадежность положения.
Пушкин поручил Жуковскому передать Николаю I свою просьбу о прощении за нарушение данного им слова не прибегать к новым решительным шагам без совещания с царем. Вскоре друг-поэт привез ответную записку с прощением и обещанием обеспечить осиротелую семью.
После нестерпимо мучительной ночи Пушкин утром 28 января простился с женою и детьми, пожал руки Жуковскому, Вяземскому, Виельгорскому, пожелал проститься с Карамзиной. Он просил выхлопотать прощение Данзасу. Чувство невыносимой тоски, обычное при воспалении брюшины, не проходило. Все лечение сводилось почти исключительно к холодным компрессам и опиуму.
Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта (помимо Шольца и Арендта, здесь были также профессора И. В. Буяльский и X. X. Саломон, врачи К. К. Задлер, И. Т. Спасский и В. И. Даль; двое последних дежурили почти неотлучно). Доктора, по мнению современных специалистов, должны были воздержаться в беседах с Пушкиным от смертельного прогноза, обеспечить ему максимальный покой, не устраивать процессии прощающихся друзей, оберегать от лишних волнений[22]22
Приведем мнение историка русской хирургии А. М. Заблудовского. Лечение Пушкина велось правильно, но общее обслуживание больного оказалось неудовлетворительным (отсутствие сиделки, присутствие посторонних и пр.). Предотвратить смерть было невозможно, но можно было облегчить страдания умирающего. В наши дни операция и переливание крови могут в таких случаях привести к спасению, хотя и в настоящее время рана, подобная пушкинской, весьма тяжела и нередко приводит к смерти (А. М. З а б л у д о в с к и й. Русская хирургия первой половины XIX века. «Новый хирургический архив», 1937, т. XXXIX, кн. 1, стр. 19–24).
[Закрыть].
Из этого отзыва следует, впрочем, выделить Даля. Врач-писатель, обожавший Пушкина, он сумел внести в ледяную безнадежность этой медленной агонии немного тепла и надежды. Был момент, когда сам умирающий поддался его бодрящему воодушевлению. Приехав к постели раненого 28 января в два часа дня (как только он узнал о событии), Даль застал здесь «страх ожидания смерти» на всех лицах и смущенную беспомощность знаменитых врачей: «Арендт и Спасский пожимали плечами…» Появление увлекательного «сказочника», повестями которого Пушкин так восхищался в 1832 году, с которым провел он неразлучно несколько незабываемых дней в Оренбурге, искренне порадовало умирающего. Он улыбнулся приехавшему, пожал ему руку, заговорил с ним впервые на «ты» (то есть «побратался» с ним накануне смерти). Свои последние часы Пушкин был с ним «повадлив и послушен, как ребенок», и выполнял беспрекословно все его просьбы и предписания.
Когда к вечеру, после пиявок, поставленных Далем, пульс больного стал ровнее, реже и мягче, врач-писатель решился опровергнуть единодушный смертный приговор прочих медиков: он осторожно «провозгласил надежду». Этим он доставил последнюю радость Пушкину. На его твердое заявление «мы за тебя надеемся, право, надеемся» поэт крепко пожал ему руку и ответил без возражения: «Ну, спасибо!..» Даль, несомненно, облегчил физическое и душевное состояние умирающего Пушкина. Ночь проходила без мучительных приступов, больной до самой зари не отпускал руки Даля. В пять часов утра Жуковский уехал к себе «почти с надеждою».
Но через два часа, вернувшись на Мойку, он услышал категорический прогноз Арендта: «Пушкин не переживет дня». Пульс катастрофически падал, руки начинали холодеть. В полдень консилиум врачей признал состояние Пушкина совершенно безнадежным. Жуковский написал последний бюллетень для посетителей, наполнявших приемную: «Больной находится в весьма опасном положении». В третьем часу Даль позвал Жуковского, Вяземского, Виельгорского: «Отходит!» Пушкин еще протянул руку товарищу, прося в полубреду поднять его «да выше, выше!» над книгами, над полками: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Затем лицо его прояснилось, сознание вернулось, он тихо произнес: «К о н ч е н а ж и з н ь». Действительно, конечности стыли по плечи, по колени, дыхание замедлялось и стихало…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































