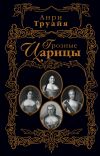Текст книги "Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига вторая"

Автор книги: Лев Бердников
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Побежденная трудность, или баталии вокруг сонета

Нет, сносить такое было больше никак невозможно! Обиды, утеснения и каверзы, чинимые профессору элоквенции Василию Тредиаковскому издателем академического журнала “Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие” Герардом Фридрихом Миллером, требовали безотлагательной сатисфакции. Спасти дело мог разве только скорый и обстоятельный донос. “По какой бы он власти и по чьему повелению лишает он моего законного права тем, что моих пьес не принимает от меня в книжки и… не печатает?” – гневно вопрошает профессор в своем извете, поданном в канцелярию Академии наук 15 ноября 1755 года. Он с горечью пишет о том, как однажды Миллер говорил с ним пренебрежительно и резко, на что он, профессор, “извне замолчал, а внутри раздирался на части”. И сигнализирует академическим “сочленам”, что сей нахал… “некоторые сочинения с нами головою не рассматривал, и их втер в Ежемесячные книжки по своему произволению”, и призывает немедленно сбросить “Миллерово иго”. Вдобавок ко всему помянутый Миллер еще и враль первостатейный, ибо нарушил обещание, им же в предуведомлении к журналу пропечатанное: “Вноситься не будут сюда никакие явные споры, или чувствительные возражения на сочинения других, ниже иное что, с обидою написанное против кого бы то ни было”. А Миллер “властью, нимало ему не данною, но им против права похищенною”, из номера в номер упорно публикует безнравственные “стишки полковника Сумарокова”. И среди прочих удостаивает печати зело оскорбительные и лично против него, Тредиаковского, направленные “нестройные, маловажные и почти смеха достойные стишонки, из которых те именно, кои занимают последнее место за месяц август”. Вот эти самые:
СОНЕТ
нарочно сочиненный дурным складом, для показания того, что есть ли мысль изрядна, стихи порядочны, рифмы богаты, однако при неискусном, грубом и принужденном сложении все то сочинителю никакого плода, кроме посмешества, не принесет.
Вид, богиня, твой всегда очень всем весь нравный,
Уязвляет оный бы ни увидел кто.
Изо всех красот везде он всегда есть славный,
Говорю без лести я предо всеми то.
Всяко се наряд твой есть весь чистоприправный,
А хотя бы твой убор был бы и ничто,
Был, однак, бы на тебе злату он не равный,
Раз бы адаманта был драгоценняй сто.
Ти покорный я слуга много и премного,
Пышно хоть одета ты иль хотя убого.
Полюби же ты меня, ах! немного хоть.
Объяви, прекрасна бровь, о любви всей прямо,
И на час ко мне хотя, о богиня, подь
Иль позволь пойти к себе поклониться тамо.
В этом образчике “дурного склада” Тредиаковский сразу же узрел “посмешество” над собой и собственным “сложением”. Сумароков – в который уже раз! – “с цепи спустил своевольную в лихости свою музу” и “прободает [его] столь чувствительно и ненавистно”. Едва ли, однако, можно согласиться с литературоведом Александром Морозовым, что мишенью этой пародии на Тредиаковского явилась его “Ода в похвалу цветка розе” (1735) по причине некоторой близости стихов “Адамант се перл есть в цене коль разный” (“Ода…”) и “Раз бы адаманта был драгоценняй сто”. Список подобных совпадений умножится, если обратиться и к более поздним “Сочинениям и переводам, как стихами, так и прозою” Тредиаковского (1752). Почти на каждой странице текста бьют в глаза такие “разные перлы” сочинителя, как “подъемля бровь высоко”, “со всего богиня вида” и т. п. А потому сомнений нет: Сумароков здесь, что называется, “в тредиаковщину заехал”, то бишь пародировал общий стиль опусов Тредиаковского. Вот как характеризовал этот стиль асессор Академического собрания Григорий Теплов (который, взяв сторону Миллера, и самого профессора “ругал, как хотел, и грозил шпагою заколоть”): “В многоречии своем… он столь особлив же, что едва ли можно в роде человеческом быть другому Тредиаковскому. Школьные фигуры риторические он употребляет во всех своих сочинениях и некстати и почти беспрерывно… Эпитеты его обыкновенные, репетиция беспрестанная, амплификация также, за которую от многих уже бит не единожды; плеоназмы все те, которые обыкновенно мы слышим в его речах и читаем в его сочинениях”.

Вот и Сумароков, издевательски копируя поэтическую манеру Тредиаковского, подвергает осмеянию многословие, фонетическую усложненность, перенасыщенность стиха вспомогательными словами (“затычками”), которыми Тредиаковский подгоняет длинный стих к нужному ритму. Не остались без внимания пародиста и латинизированный синтаксис, пристрастие к инверсиям и безграничная свобода, с которой Тредиаковский совмещает в пределах одного стиха вульгаризмы и архаизмы: “Раз бы адаманта был драгоценняй сто”. И неожиданные, употребленные здесь невпопад, междометия часто встречаются во многих песнях, одах и элегиях Тредиаковского. Но существеннее, что пародия Сумарокова направлена на сам жанр, автор ее стремится подорвать авторитет Тредиаковского как начинателя и законодателя русского сонета – роль, на которую тот так долго и упорно претендовал.
Тредиаковский обращался к сонету на всех этапах творчества, постоянно совершенствуя этот излюбленный им жанр. А для него сонет был обязательным и вечным жанром в новой русской поэзии, “щасливый сей Феникс”, как называл его поэт. Афористическое определение сонета “Феникс”, настоятельно повторяемое Тредиаковским, было заимствовано им из трактата “Поэтическое искусство” (L’art poetique, 1674) Николя Буало-Депрео (1636–1711). Однако, аттестуя сонет таким образом, законодатель французского Парнаса подчеркивал невозможность создания совершенного сонета. Для него это лишь символ, недосягаемый идеал:
Но тщетно трудятся поэты много лет,
Сонетов множество, а Феникса все нет.
(Пер. Эльги Линецкой).
Тредиаковский ориентировался на французскую поэзию XVII века, но это не было “пустым, рабским, слепым” подражанием. Освоение сонета отвечало настоятельным потребностям русской литературы – созданию новой жанровой системы, поэтического языка, преодолению инерции “непрерывных” рифм, господствовавших в книжной силлабической поэзии XVII века. Поэтому надлежало непременно найти этот “Феникс” и сделать его достоянием отечественной культуры. То, что для француза Буало невозможно, для русского стихотворца – задача архитрудная, но выполнимая. По его словам, “труд прилежный все побеждает”. В этом сказалась его российская вера в себя.
Замечательно, что во всех рассуждениях Тредиаковского о создании новой русской культуры и языка настойчиво звучит пафос победы над трудностью. Так, в небольшой по объему “Речи к Российскому собранию” Тредиаковского (1735) слово “трудность” повторяется 17 (!) раз. Он говорит о предстоящей деятельности, “в которой коль много есть нужды, толь много есть и трудности”, о том, что она “еще больше силы требует, нежели в баснословном Сизифе”. Но он полон оптимизма: “Трудность в нашей должности не толь есть трудна, чтоб побеждена быть не могла”. И в заключение резюмирует, что “доказал… пользу, славу и могущую победиться трудность”. И сонет – один из самых совершенных поэтических видов, с его ясностью мысли, лаконизмом, чистотой слога, сложнейшей стихотворной техникой, – всемерно отвечал этому посылу. Русский поэт заявляет о великом труде, обязательном для создания сонета. Примечательна в этом отношении своеобычная трактовка Тредиаковским “Поэтического искусства” Буало. Французский стихотворец говорит лишь о сложности сонетных правил (rigoureuses lois) и слово “труд” применительно к сонету не употребляет. В переводе же Тредиаковского читаем:
Слух есть, некогда сей бог (Аполлон – Л.Б.) нравный
увязался,
Да в несносный вринет стихотворцев труд,
Тягость дать Сонету почитай сверх мер в седьм пуд.
Что до образцового сонета, то в его поиске Тредиаковскому надлежало проявить и недюжинный вкус, и чувство изящного. Ведь во Франции XVII – начала XVIII века сонеты исчислялись сотнями, да что там – тысячами, их писали Венсан Воатюр, Жан Батист Руссо, Пьер Корнель, Жан Расин, Поль Скаррон, Жан де Лафонтен, Франсуа де Малерб, Теофил де Вийо, Бернар Ле Бовье де Фонтенель, сам Буало-Депрео и многие другие пииты. Достаточно сказать, что Марк Антуан Жирар де Сент-Аман был автором 40 сонетов, Исаак де Бенсерад – 77, а Франсуа де Менар – 219 сонетов! Они были в большом ходу, как модные аксессуары, тафтяные мушки или оправы стильных лорнетов, но в окостеневших поэтических формах трудно было отыскать печать индивидуальности.
Русский поэт Тредиаковский свой выбор сделал. С берегов Сены он привез в Россию конспект лекций, слушанных им в Сорбонне. Здесь был переписанный им от руки сонет Жака Вале де Барро (1599–1673) “Grand Dieu! que tes jugements sont remplis d’equite”, о котором впоследствии он скажет: “подлинно, что сей токмо может тем Фениксом назваться, каковаго господин Боало-Депро в Науке своей о Пиитике говоря о Сонетах желает”. При этом он с самого начала вознамерился соблюсти прихотливую рифмовку сонета (в отличие от немецкого переводчика сонета де Барро в том же академическом журнале Anmerkungen uber die Zeitungen). И в этом видится его осознанное стремление “победить трудность”.
Напомним, этот сонет в переводе Тредиаковского был опубликован в академических “Примечаниях на Ведомости” в апреле 1732 года (тогда его будущему литературному сопернику Александру Сумарокову еще не минуло и пятнадцати лет). Так российская поэзия получила образец нового жанра. То был медитативный сонет, сонет покаяния и милосердия (что вполне отвечает высоким нравственным идеалам русской классической литературы). И Тредиаковский вполне сознавал и новизну, и пользу от предпринятого им дела. В письме к приятелю, Алексею Вешнякову, от 6 мая 1732 года он называет стихотворение “мой русский сонет” и подчеркивает, что он “первый на нашем языке”. При этом он с самого начала вознамерился соблюсти прихотливую рифмовку сонета (в отличие от немецкого переводчика сонета де Барро в том же академическом журнале Anmerkungen uber die Zeitungen). И в этом видится его осознанное стремление “победить трудность”.
“Трудности” сонета соответствовало и место, которое уготовил ему Тредиаковский в жанровой иерархии. Сонет как таковой для него неизменно “высокий” жанр, а приписываемая ему тема – “важная и благочестивая”. Поэт сознательно возвысил тему переведенного им сонета либертена де Барро, устранил всякие намеки на кощунственное его понимание, то есть, как говорят филологи, отождествил действительного и условного автора русского текста, что было принято в высоких классицистических жанрах.
Концепция высокого сонета, на которой настаивал русский поэт, противоречила живой французской стихотворной практике (а Тредиаковский, не восприимчивый к итальянской сонетной традиции, считал этот жанр “родом превосходнейшим французския эпиграммы”) и базировалась именно на его своеобразном толковании и оценке “образцового” текста де Барро. “Важная и благочестивая материя” (соответственно – “красный и высокий” слог), а также строфика этого сонета закономерно для поэта-классициста становятся не индивидуальными, а жанровыми признаками. Вослед де Барро он постоянно соблюдает две перекрестные рифмы в катренах (характерно, что в переводе на русский язык итальянского сонета-панегирика Джузеппе Аволио он отказывается от воспроизведения опоясанной рифмовки).
Тредиаковский неустанно совершенствует свои сонеты. Он занят поиском идеального сонетного метра и в этих целях дважды (!) перерабатывает свой перевод текста де Барро. А после переложения “Поэтического искусства” Н. Буало он принимает к руководству его труднейшее правило о сонете: “И слово дважды в нем не смеет прозвучать!”. И действительно, в третьей редакции его “Сонета с славнаго французскаго де Барова” нет ни единого словесного повтора!
Особая значимость сонета утверждается и в литературной теории Тредиаковского. Уже в 1730-е годы сонет становится для него мерилом ценности других жанров, причем не только стихотворных (мадригал, эпиграмма), но и прозаических (дедикация). Первенствующее место отводил он сему жанру и в эпиграмматической поэзии, к классу которой он, по западноевропейской традиции, относил и сонет. Сонет у него “надменный”, он “мудр и замысловат”; рондо же, баллады, триолеты, маскарады – всего лишь “небольшие штучки”, о которых читателю “не стоит заботиться много”. Явно более низкое их положение в предлагаемой Тредиаковским жанровой иерархии подтверждается и соответствующими его “опытками”. Одно из правил сонета распространяется Тредиаковским и на “самый высокий род стихотворения” – оду. Все это должно укрепить во мнении, что сонет Тредиаковский ставил чрезвычайно высоко.
Не то его младший современник Александр Сумароков. В своей программной “Эпистоле о стихотворстве” (1747) он определил “состав” сонета как “игранье стихотворно”, “хитрая в безделках суета”. Литературоведом Валентином Федоровым уже указывалось на несоответствие этой характеристики посылу Н. Буало – “Сонет без промахов поэмы стоит длинной”. Более значимым представляется полемичность этого заявления Сумарокова утверждению Тредиаковского о “важной материи” сонета. Вместе с тем, слова Сумарокова – “В сонете требуют, чтоб очень чист был склад” – приобретали здесь вполне конкретный характер именно в связи с сонетной традицией Тредиаковского. Это становится яснее, если рассматривать требование “чистоты склада” на фоне нападок Сумарокова на Тредиаковского (выступающего здесь под уничижительным именем Штивелиус[12]12
Штивелиус – имя ученого-педанта, протагониста комедии датского писателя Людвига Хольберга (1684–1754) “Брамарбас, или Хвастливый офицер” (Bramarbas, oder der grofsprecherische Ofcier, 1741), использованное Сумароковым для обозначения своего литературного противника – Тредиаковского.
[Закрыть]), который “речи и слова все ставит без порядка”, склад которого “гнусен”. Остро полемично звучат и такие пассажи Сумарокова:
Однако тщетно то, когда искусства нет,
Хотя творец, трудясь, струями пот прольет…
Без пользы на Парнас слагатель смелый всходит,
Коль Аполлон его на верх горы не взводит,
Когда искусства нет, иль ты им не рожден,
Не строен будет глас и слог твой принужден.
Примечательно, что в сумароковском определении сонета употреблена неопределенно-личная форма “требуют”: “В сонете требуют, чтоб очень чист был склад”, в то время как характеристика других жанров (оды, песни, элегии, эклоги и т. д.) дается в “Эпистоле о стихотворстве” от первого лица. Тем самым поэт дает понять, что слова о “чистоте склада” сонета не авторские (хотя и спроецированные на русскую литературную ситуацию).
Но представляется совершенно недостаточным ограничивать это привнесение исключительно правилами Буало (хотя тот же Тредиаковский писал, что его “Эпистоле о стихотворстве русском – вся Буало Депрова”). Ведь между трактатами Буало и Сумарокова – дистанция огромного размера! Русский стихотворец уготовил сонету роль самую ничтожную: в “Эпистоле о стихотворстве” собственно сонету уделена лишь одна (!) строчка; у Буало же – 21(!); в “Поэтическом искусстве” Буало поставил сонет на четвертое место в жанровой иерархии, а Сумароков сместил его на десятое. Вообще, незаинтересованность Сумарокова вопросами поэтики сонета вполне очевидна. Он сознательно исключил сонет из обязательных для новой русской поэзии жанров.

Непосредственное влияние на такую его литературную позицию оказал Жан-Батист Мольер, к которому Сумароков относился с пиететом и называл “славнейшим изо всех комиков на свете”. А, по словам английского литературоведа Эверетта Олмстеда, “Мольер ненавидел сонет и дважды использовал этот жанр в сатирических целях”. В его комедии “Ученые женщины” (Les femmes savantes, 1672) задействован педант и строчкогон Триссотен (в первых представлениях он был назван Tricotin, затем Trissottin, то есть трижды дурак), который громко читал вслух свой высокопарный претенциозный “Сонет принцессе Урании на лихорадку”:
Зачем неосторожно так
В покое, убранном прелестно,
Обласкан вами столь чудесно
Был самый ваш жестокий враг?
Пусть судят люди так и сяк, —
Расстаньтесь с гостью неуместной,
Она старается бесчестно,
Чтоб жизни дивной сок иссяк.
Как! Титула не признавая,
Кровь точит лихорадка злая
И день, и ночь – исчез покой!
Без дальних слов – скорей на воды,
И там невольницу свободы
Топите собственной рукой.
(Перевод Маргариты Тумповской).
На самом деле, Мольер приводил здесь текст подлинного сонета (1663) писателя и галантного поэта аббата Шарля Котена (1604–1681), советника Людовика XIV, завсегдатая парижских салонов и Отеля де Рамбуйе. В комедии текст подвергнут сокрушительной критике некоего Вадиуса, который заявляет: “Сонет за круглый вздор я лишь могу почесть”. И еще: “Употребленье слов твердит скорей о том, / Что неразрывна связь педанта с дураком”. Историки точно установили, что за Вадиусом скрывался литератор Жиль Менаж (1613–1692), причем сама сцена уничтожающего разноса сонета была подсказана Мольеру Буало-Депрео, который тоже высмеивал писания Котена, изощрявшегося в бездумном рифмачестве.

О том, что комедия Сумарокова “Тресотиниус” (1750)[13]13
Комедия была поставлена любительской труппой Сухопутного шляхетного кадетского корпуса на Придворном кадетском театре 30 мая 1750 года. По сведениям П. Рулина (Изв. Отд. рус. яз. и словесности. 1923. Т. XXVIII. – Л., 1924, С. 14), публиковалась отдельным изданием в 1750 году, однако ни в одном из книгохранилищ России она не обнаружена.
[Закрыть], равно как и ее одноименный протагонист, – калька с французского, сомневаться не приходится. Объектом сатиры становятся здесь, однако, профессор элоквенции Тредиаковский и прочие академические буквоеды, кичившиеся своей показной ученостью. Само имя “Тресотиниус” актуализируется благодаря созвучию с фамилией “Тредиаковский”. Причем педант этот “знает по-арапски, по-сирски, по-халдейски, да диво, не знает ли он еще по-китайски; и на всех этих языках стихи пишет, как на русском языке” (и француз Котен слыл знатоком не только латыни и греческого, но также сирского, халдейского и древнееврейского языков). Как и в мольеровской комедии, Тресотиниус декламирует сочиненные им вирши. Однако вместо сонета (не получившего в России распространения) сей пиит предлагает вниманию слушателей любовную песню: “Однако ж не поскучитель послушать, а песенка сочинена очюнь, очюнь, подлинно говорю, что очюнь хорошо; да еще и хореическими, сударыня, стопами”. Сумароков пытается здесь дискредитировать Тредиаковского как поэта-песенника.[14]14
Вот какое определение дал Тредиаковский “мирской песне”: “Содержание песен часто, и почитай всегда, есть любовь, либо иное что подобное, легкомысленное и только сердце человеческое улещивающее; речь же самая бывает в них иногда сладкая, часто суетная и шуточная, нередко мужицкая и ребячья”. (Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы. Т. 2. СПб., 1752, С. 31). В 1730–1740-е гг. Тредиаковский был крупнейшим поэтом кантов, и его песни “Весна катит, зиму валит”, “С одной страны гром” и особенно “Стихи похвальные России” (они дошли до нас в 36 списках!) были чрезвычайно популярны. Своей поэзией он дал образцы всех жанровых разновидностей кантов: псалмов, духовно-дидактических, панегирических, любовных и шуточных стихов. Однако начиная с 1750-х годов, тексты Тредиаковского бесследно исчезают из рукописной литературы. Зато появляются песни Сумарокова – “Не грусти, мой свет”, “Негде в маленьком лесу”, “Прости, мой свет, в последний раз”. То был язык чувств качественно иного выразительного строя, отвечавшего новым эстетическим требованиям второй половины XVIII века. Музыковед Татьяна Ливанова, изучившая рукописные песенные сборники XVIII века, разделяет их на два хронологических периода – Тредиаковского и Сумарокова, и говорит о явственно обозначившемся водоразделе между ними. Исследователь также отмечает, что сумароковское “чувство нового” “по-своему преломляется и действует не только в области ‘печатной’ лирики, но и в самой смешанной бытовой рукописной литературе, не ведающей даже имени автора”. Именно Сумароков стоял у истоков нового лирического жанра – песни-романса, между тем как Тредиаковский остался в русле традиции полупесни-полуканта.
[Закрыть]
В “Тресотиниусе” сатирический эффект достигается тем, что искреннее сердечное чувство излагается архаичным, тяжеловесным, “принужденным” слогом. Возникает вопиющий диссонанс, что и делает этого педанта комическим персонажем:
…Бровь твоя меня пронзила, голос кровь мою зажег,
Мучишь ты меня, Климена, и стрелою сшибла с ног…
Понятно, что Тредиаковский не мог не принять эту комедию на свой счет и назвал ее плодом “остробуйной музы” Сумарокова и “новым и точным пасквилем”. Обращает на себя внимание и “Мизантроп” (Le Misanthrope, 1666) Мольера, который Сумароков назвал “лучшей комедией” французского автора. А здесь выведен стихослагатель Оронт, также докучавший окружающим чтением сочиненного им высокопарного сонета.
Обратимся к композиции “Эпистолы о стихотворстве” Сумарокова. Здесь, как и в “Мизантропе”, после слов о не естественности сонета (“хитрая в безделках суета”) следует характерное признание автора: “Мне стихотворная приятна простота”, а затем, совсем в духе Мольера, дается характеристика жанра песни:
Слог песен должен быть приятен, прост и ясен,
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен;
Чтоб ум в нем был сокрыт и говорила страсть;
Не он над ним большой – имеет сердце власть…
Нет сомнений, что и сам пародийный сонет Сумарокова сделан с оглядкой на “дурной склад” сонета, представленного Мольером. Однако в русских культурных условиях текст актуализировался, обретая вполне определенное и остро злободневное звучание. Показателен в этом отношении перевод комедии “Мизантроп”, сделанный в 1750-е годы литературным единомышленником Сумарокова Иваном Елагиным (опубликован в 1782 году под заглавием “Мизантроп, или Нелюдим”). Вот какой русский сонет произносит здесь Оронт:
Надежда подлинно нас часто услаждает,
И усыпляет та скорбь нашу иногда;
Но скорбную она утеху нам рождает,
Коль с нею мы не зрим веселья никогда.
Как прежде ты, мой свет, Надежду мне являла,
То было к горькому мученью моему;
Я зрел убыток ты как в том претерпевала,
Надежду мне суля, как другу своему.
Но если вечно ты быть твердой предприяла,
И к вечному меня мученью оковала,
Так знай, что смерть меня избавит от того.
Надеждой долго мне не вечно веселиться;
В отчаянье тому надежда обратится,
Кто тщетно так, как я, надеялся чего.
Обилие односложных слов, инверсий (“Кто тщетно так, как я, надеялся чего”), утяжеленных конструкций (“Я зрел убыток ты как в том претерпевала”), несопрягаемых понятий, оксюморонов (“скорбную она утеху нам рождает”) позволяют увидеть в этом переложении характерные особенности стиля Тредиаковского. Да и в самой переводной комедии обнаруживаются параллели с некоторыми ремарками Сумарокова (ср. его – критика “принужденного сложения” Тредиаковского и реплика Альцеста о “принужденных и натянутых словах, как натура никогда не говорит”). В комедии бичуется ревнитель сонета Оронт, и в нем угадывается Тредиаковский. Чего стоит филиппика о “господине с сонетом, который себя между знающими считает и в противность всему свету хочет быть автором”. А уж аттестация Оронта – “прескучный враль”, стихи которого “столько несносны, сколько и проза”, – стала хрестоматийной характеристикой Тредиаковского, перепевавшейся на все лады его многочисленными хулителями.

Но вернемся к “Сонету, нарочно сочиненным дурным складом”. Примечательно, что в позитивной части заглавия текста Сумароков, по сути дела, пересказывает отдельные пиитические правила Тредиаковского:

И в самой пародии воспроизводятся характерные черты сонетной поэзии Тредиаковского – семистопный хорей с усеченной 4-й стопой, а также перекрестная рифмовка катренов.
Само собой разумеется, что склад Тредиаковского, являющийся основным объектом пародии, присущ и его сонетам, а потому и стилистическая полемика оказывается связана с полемикой жанровой. Можно, однако, указать на ряд параллелей текста Сумарокова и сонетов Тредиаковского. Так, в стихах “дурного склада” встречаем словесные нагромождения “очень всем весь нравный”, “везде он всегда есть славный”, “всяко се наряд твой есть весь чистоприправный” (ср. со сходными конструкциями у Тредиаковского: “милостив всегда к нам быть”, “коль есть правоты полн твой суд”, “се к твоим Азия вся ногам припадает”). Архаичную форму местоимения “ти” (“ти покорный я слуга много и премного”) мы находим и в сонете Тредиаковского 1735 года (“буди же по твоему, то когда ти славно”). Грешат сонеты Тредиаковского и обилием междометий (“Ей! о! Господи!”, “Здравствуй! о! преславна!”), инверсий, односложных слов, что выходит наружу и в сумароковской пародии. Вчитаемся в текст: отнесение частицы “бы” к местоимению и вынесение подлежащего на конец предложения (“Оный бы ни увидел кто”) влечет за собой неуместное акцентологическое выделение частицы “то”; инверсия ограничительной частицы “хоть” вопреки правилам обуславливает неуклюжую форму “подь” (причем “неблагозвучные” слова “хоть”– “подь”, “то” – “кто” еще и рифмуются). Диковато выглядит и инверсия наречия “тамо” (“Иль позволь пойти к себе поклониться тамо”).
Но существеннее для нас, что в пародии Сумароков воссоздает в общих чертах лирическую ситуацию “важных” сонетов Тредиаковского с их характерной подчиненностью говорящего лица адресату. Но если у Тредиаковского подчиненность эта вполне оправданна (в его сонетах заключено обращение либо к Богу, либо к земной “богине” – императрице), то здесь она обретает подчеркнуто комический характер. Ибо псевдолирический субъект будто бы тоже покоряется “богине”, но под “богиней” разумеется здесь светская красавица, перед которой он рассыпает свои неуклюжие комплименты.[15]15
Ср. в Элегии II Тредиаковского 1735 года:
Ни велика, ни мала, схожа на богиню,Поступью же превзошла всякую княгиню;Со всего же и всегда зрилась благородна,И богам, богиням быть та казалась сродна.
[Закрыть] Безволие говорящего лица, его сбивчивая речь, усыпанная архаизмами, междометиями, нелепыми синтаксическими конструкциями, делают героя “несостоявшимся петиметром”, влюбленным педантом. Сей “покорный слуга” вымаливает у “богини” долгожданную взаимность. В противном случае, он просит у нее соизволения “пойти к себе поклониться тамо”. Исход такого косноязычного объяснения, как мы видели, был решен Сумароковым еще раньше, в комедии “Тресотиниус”, где “спесиха слатенька” (так ее называет педант) Клариса отвергла его хореическую любовную песенку, а заодно и его “аргументальную” страсть. Сумароков показывает, что искусственный и принужденный склад особенно несуразно и нелепо выглядит в монологе влюбленного.[16]16
Этот прием сатирического осмеяния Тредиаковского путем введения его языка в бытовую любовную ситуацию будет использован впоследствии в комедиях XVIII века. Так, в комедии “Опекун-профессор”, представленной московским театром в 1794 году, профессор элоквенции Старон толкует своей возлюбленной Елизе “о словосцеплении, роде, виде, истолковании” (Российский Феатр Ч. 24. СПб., 1788, С. 10). “Сочинитель в прихожей” из одноименной комедии Ивана Крылова, между прочим, похваляется тем, что пишет сонеты, читает вертопрашке Новомодовой свои хореические вирши (Российский Феатр. Ч. 11. СПб., 1794, С.182, 203).
[Закрыть]
Тредиаковский был прав, называя сонет “дурного склада” маловажным. Комический эффект достигался как раз путем снижения важной темы, а также “выискиванием странных оборотов и выражений, не приличных предметов ему фигур и прочих украшений”. И многие положения Тредиаковского здесь сознательно искажены. Обещание Сумарокова, что в тексте будет заключена “мысль изрядна”, нарушено; то же самое можно сказать и о “стихах порядочных”. Вопреки требованиям Тредиаковского о запрете словесных повторов, сонет “дурного склада” изобиловал ими (обратил ли вообще внимание Сумароков на эту “побежденную” Тредиаковским трудность?).[17]17
Подобные ухищрения Сумароков считал педантскими и высмеивал в комедии “Тресотиниус”: “Тут есть такие тонкости, что они от многих и ученых закрыты. Правда, многим кажется, что это безделка; однако позвольте мне, моя государыня, сказать, что в этой безделке очень много дела, что я аргументально доказать могу”.
[Закрыть] Ясно одно: Сумароков намеревался развенчать авторитет основоположника русского сонета. При этом провозглашаемая старшим поэтом победа над трудностью подавалась Сумароковым как навязывание читателю затрудненной стихотворной речи.
Парадокс, однако, заключался и в том, что канонизатором сонета в России, в конечном счете, стал не Тредиаковский, а именно Сумароков, не придававший поначалу сонету никакого значения. Поэт обратился к этому жанру совершенно безотносительно к его ценности. Вообще, эволюция взглядов этого поэта на сонет не позволяет видеть в нем популяризатора жанра. Всем своим творчеством он как бы преодолевает неестественность сонета, объединяя несколько стихотворений в цикл, что дало ему возможность разработать тему, для которой одиночный сонет представлялся поэту слишком узким. Таким образом, в “игранье стихотворном” отыскивались новые содержательные возможности. Используя мотивы европейской сонетной поэзии (Пьера де Ронсара, Жана Эно, Тристана П’Эрмита, Пауля Флеминга, Жака Вале де Барро), он, как говорили тогда, склонял иностранные образцы “на наши нравы” и, как отметил замечательный литературовед Григорий Гуковский, создал в России “искусство сонета”.
А что Тредиаковский? Он продолжал разрабатывать “мудрый и замысловатый” сонет. Показателен в этом отношении его текст “Добродетель почитающих ея венчает” (1759), заканчивающийся сентенцией:
О смертный! умудрись: безмерность кажда грех,
А средство всех довольств – едина добродетель.
Говоря о сонетном наследии Тредиаковского, следует иметь в виду, что до нас дошли далеко не все его опыты в этом жанре. Академик Петр Пекарский упоминает оставшуюся после поэта рукописную книгу “Собрание сонетов разных”. Судьба этой рукописи неизвестна, но и имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют об огромном значении, которое придавал поэт сему жанру. Работу над созданием сонета он соотносил с идеей бескорыстного служения отечественной литературе. Так, в 1752 году он корил некоего автора, радевшего лишь о материальном благе (“для обеда там не ждет щастья от Сонета”), а затем подтвердил свое право на этот упрек. Претерпевая нужду и лишения, Тредиаковский воплотил нравственный смысл своего многолетнего труда – перевода “Римской истории” Шарля Роллена – в помещенной в этом издании новой редакции Сонета о добродетели. И здесь же, в Предуведомлении к XII тому, отставной полунищий профессор[18]18
Он писал тогда, что испытывал “крайности голода и холода с женою и детьми… Только у меня нет ни полушки в доме, ни сухаря хлеба, ни дров полена”.
[Закрыть] рассудил за благо отстаивать свой приоритет во введении сонета в русскую словесность. Писал, что это он, Тредиаковский, “утвердил, сколько позволил, округ Сонетный”.
Возможно, троп “сонет – Феникс” обрел для него и жизненную основу. Мифическая птица, возрождающаяся из пепла, могла сопрягаться Тредиаковским с этим самым Сонетом о добродетели, который он предпослал переводным сочинениям Роллена! И ведь что примечательно: в 1747 году, во время пожара в его доме, рукописи переводов сгорели, а затем, словно из тлена, из небытия, были восстановлены им заново! Не такие уж это “далековатые” идеи!
В воззрениях Тредиаковского на сонет заслуживает внимания завидное постоянство в оценке этого жанра. Это тем более замечательно, что, по словам литературоведа Павла Беркова, “к концу своей деятельности он почти полностью отказался от тех положений, с которыми выступил в начале ее”. Достаточно сказать, что законодателем русского сонета Тредиаковский провозгласил себя в то самое время, когда аттестовал рифму как “пустое украшение стихам”. Он писал тогда, что “самое первенствующее наше стихосложение было всеконечно без рифм” и что стихи без рифм возвращают “к древнему нашему сановному, свойственному и пристойно-совершенному стихосложению”. И в это же самое время он безоговорочно принимает максиму Буало: “Стоит без хулы Сонет долгия Поэмы”.
Так, в последние годы творчества для Тредиаковского существовали два главных жанра в поэзии – эпос (“долгая поэма”), где он пришел к отказу от рифмы, и сонет, где высокоорганизованная система рифм настойчиво утверждалась. Примечательно, что тезис о равноценности сонета и эпопеи был повторен им в 1765 году, как раз во время работы над созданием знаменитой “Тилемахиды”. Можно говорить, таким образом, о явном противоречии в теоретико-литературных воззрениях поэта, и виновник тому – сонет, к коему наш профессор элоквенции не мог быть беспристрастным.
Между тем, почти четверть века Тредиаковский оставался единственным русским стихотворцем, обратившимся к сонету. Конечно, это связано с его изоляцией на литературной арене: в силу ряда причин он стал “самой изолированной фигурой в русской литературе”. Кроме того, сонеты его никак не могли стать эталонными для русской поэзии. Как пояснил современник Григорий Теплов: “Что бы за нужда брать сложения его стихи за образец, когда по сие время, кроме его самого, никто в образец для показания красоты стихотворческой их не принимал?” А. С. Пушкин выразился более определенно: “Влияние Тредиаковского уничтожается его бездарностью”. В этой связи уместно привести слова современного литературоведа о первом русском ревнителе сонета: “Судьба действительно трагическая: знать и не уметь сделать, понимать и не уметь доказать!”
Истинный начинатель новой русской поэзии, обладавший даром самостоятельного создания новых стихотворных форм, Тредиаковский, похоже, признал, что именно творчество Сумарокова стало образцовым для современников. Это Сумароков заложил традицию философского, любовного, панегирического, духовного, сатирического сонета в России XVIII века. За ним воспоследовали Алексей Ржевский, Михаил Херасков и Елизавета Хераскова, Алексей и Семен Нарышкины, Александр Карин, Иполлит Богданович, Михаил Попов, Василий Майков, Михаил Муравьев, Гаврила Державин и многие другие поэты XVIII века. И достойно внимания, что на смертном одре Тредиаковский завещал посвятить Сумарокову сочиненную им трагедию “Деидамия”, как он указал, “в знак вечные памяти” (она была опубликована в Москве в 1775 году).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.