Читать книгу "Холстомер. Избранное"
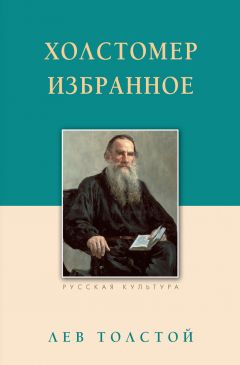
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
А вот Матрешкин, дворовый, красную кумачовую рубаху вчера купил в городе, надел, да и сам не рад, как народ на него дивится. Вот Фоканычева девка с дворовыми идет, с Маврой Андреевной разговаривает, оттого что она грамотница, в монастырь хочет идти. Вот Минаевы идут сзади, и баба все воет, должно хоронила кого. А вон Резунова молодайка идет, все в пеленки лицо прячет. Видно, родила, причащать носила. Вон Болхина старуха с клюкою, шла, устала, села. Все жива старуха. А уж лет сто будет. А вот и мои – старик большими шагами шагает, и все горб у него такой же, – думал Тихон. – Вот и она…»
Тихон с другого конца улицы узнал свою бабу. Маланья шла с солдаткой и еще с двумя бабами. С ними же шел замчной солдат в новой шинели, казалось, уж пьяный, и что-то рассказывал, махая руками. Цвета на Маланье всех ярче показались Тихону.
А Маланька шла точно так же, как и другие бабы, ни наряднее, ни чуднее, ни веселее других. На ней была понева клетчатая, обшитая золотым галуном, белая, шитая красным рубаха, гарусная занавеска, красный платок шелковый на голове и новые коты на шерстяных чулках. Другие были и в сарафанах, и в поддевках, и в цветных рубахах, и в вышивных котах. Так же, как и другие, она шла, плавно и крепко ступая с ноги на ногу, помахивая руками, подрагивая грудью и поглядывая по сторонам своими бойкими глазами. Она шла, смеялась с солдатом и про мужа вовсе не думала.
– Ей-богу, наймусь в выборные, – говорил солдат, – потому, значит, в эвтом деле оченно исправно могу командовать над бабами. Меня Андрей Ильич знает. Я тебя, Маланья, замучаю тогда.
– Да, замучаешь, – отвечала Маланья. – Так-то мы летось земского в риге, лен молотили, завалили, портки стащили да так-то замучили, что побежал, портки не собрал, запутался. То-то смеху было!
И бабы покатились со смеху, даже остановились от хохота, а солдатка-хохотунья присела, ударила себя по коленкам ладонями и завизжала хохотом.
– Ну вас совсем, – сказала Маланья, локтем толкая товарку и понемногу затихая от смеха.
– Ей-богу, приходи, – сказал солдат, повторяя то, что он уже говорил прежде, – сладкой водки куплю, угощу.
– Ей муж слаще водки твоей, – сказала солдатка, – нынче приехать хотел.
– Слаще, да как нет его, так надо чем позабавиться для праздника, – сказал солдат.
– Что ты мое счастье отбиваешь? – сказала Маланья. – Больше водки покупай, Барчев, всебеспременно придем.
И вдруг Маланье вспомнилось, что муж второй праздник обещал приехать и не приезжает, и по лицу ее пробежало облако. Но это было только на одно мгновенье, и она опять начала смеяться с солдатом. Солдат шепотом сказал ей, чтобы она одна приходила.
– Приду, Барчев, приду, – громко сказала Маланья и опять залилась хохотом.
Солдат обиделся и замолчал.

Анисим Жидков, который видел, как Тихон въехал в деревню, стоял у порога своей избы; мимо самого него проходили бабы. Когда Маланья поравнялась с ним, он вдруг ткнул ее в бок пальцем и сделал губами «крр…», как кричат лягушки. Маланья засмеялась и наотмашь ударила его.
– Что, хороводница, лясы точить с солдатом, муж глаза проглядел, – сказал Анисим смеючись, и, заметив, как Маланья вся вспыхнула, покраснела, услыхав о муже, он прибавил степенно, так, чтобы она не приняла за шутку:
– Ей-богу. В самые обедни на тройке приехал. Магарыч за тобой.
Маланья тотчас же отделилась от других баб и скорым шагом пошла через улицу. Пройдя через улицу, она оглянулась на солдата.
– Мотри, больше сладкой водки покупай, я и Тихона приведу, он любит.
Солдатка и другие бабы засмеялись, солдат нахмурился.
– Погоди ж ты, чертова баба! – сказал он.
Маланья, шурша новой поневой и постукивая котами, побежала до дома. Соседка посмеялась ей еще, что муж гостинца – плетку привез, но Маланья, не отвечая, побежала к избе.
Тихон стоял на крыльце, смотрел на свою бабу, улыбался и похлопывал кнутом. Маланья стала совсем другая, как только узнала о муже и особенно увидала его. Красней стали щеки, глаза и движения стали веселее и голос звучнее.
– И то, видно, плетку в гостинец привез, – сказала она, смеясь.
– Ай плоха плетка-то? – сказал муж.
– Ничего, хороша, – отвечала она, улыбаясь, и они вошли в избу.
Вслед за бабой пришел старик и пошел с Тихоном смотреть лошадей. Маланья скинула занавеску и принялась помогать матери собирать обедать, все поглядывая на дверь. Старик вошел в избу, старуха стала разувать его. Маланья побежала на двор к Тихону, схватила его обеими руками за пояс и так прижала к себе, что он крякнул и засмеялся, целуя ее в рот и щеки.
– Право, хотела к тебе идти, – сказала Маланья, – так привыкла, так привыкла, скучно да и шабаш, ни на что бы не смотрела, – и она еще прижалась к нему, даже приподняла его и укусила.
– Дай срок, я тебя на станцию возьму, – сказал Тихон, – тоже тоска без тебя.
Гришутка вышел из избы и, посмеиваясь, позвал обедать. Старик, старуха, Тихон, Гришутка и солдатенок, помолившись, сели за стол; бабы подавали и ели стоючи.
Тихон ни гостинцев не роздал, ни денег не отдал отцу. Все это он хотел сделать после обеда. Отец, хотя был доволен всеми вестями, которые привез Тихон, все был сердит. Он всегда бывал сердит дома, особенно в праздник, покуда не пьян. Тихон достал денег и послал солдатку за водкой. Старик ничего не сказал и молча хлебал щи, только глянул через чашку на солдатку и указал, где взять штофчик.
Тройка была хороша, денег привез довольно. Но старику досадно было, что сын карего мерина променял. Карего мерина, опоенного, сам старик прошлым летом купил у барышника и никак не мог согласиться, что его обманули, и теперь сердился, что сын променял такую, по его мнению, хорошую лошадь. Он молча ел, и все молчали, только Маланья, подавая, смеялась с мужем и деверем. Старик прежде сам езжал на станции, но не знал этого дела и прогонял две тройки лошадей, так что с одним кнутом пришел домой. Он был мужик трудолюбивый и неглупый, только любил выпить и потому расстроил свое хозяйство, когда вел его сам. Теперь ему весело и досадно было не за одного карего мерина, но и за то, что сын хорошо выстоял на станции, а сам он разорился, когда ездил ямщиком.
– Напрасно коня променял, добрый конь был, – пробормотал он.
Сын не отвечал. Понял ли он или случайно, но Тихон ничего не сказал и начал рассказывать про своих мужиков, стоявших на станции, особенно про Пашку Шинтяка, который всех трех лошадей продал и даже хомуты сбыл.
Пашка Шинтяк был сын мужика, с которым старик вместе гонял и который обсчитал во время оно старика. Это была старая вражда. Старик вдруг засмеялся так чудно, что бабы уставились на него.
– Вишь, лобастый черт, в отца пошел; неправдой не наживешься небось.
И вслед за тем старик, поевши каши, утер бороду и усы и весело стал расспрашивать сына о том, как он выстоял эти два месяца, как бегают лошади, почем платят, с видимой гордостью и удовольствием. Сын охотно рассказывал, и разговор еще более оживился, когда запыхавшаяся солдатка принесла зеленый штофчик; старуха вытерла тряпкой толстый, с донышком в два пальца вышины стаканчик, и отец с сыном выпили по порции.
Особенно понравился старику рассказ сына о царском проезде.
– И сейчас подскакал фельдъегерь, соскочил, едут, говорит, через десять минут будут, по часам значит. Сейчас глянул Михаил Никанорыч на часы. «Тихон, – говорит, – мотри, все ли справно». Моя, значит, четверка заплетена, выведена. Готово, мол, не ты повезешь, а мы поедем.
И Тихон, засунув свои оттопыренные большие пальцы за поясок, тряхнул волосами и оглянулся на баб; они все слушали и смотрели на него. Маланья с чашкой присела на краю лавки и тоже встряхнула головой точно так же, как муж, как будто она рассказывала, и улыбнулась, как будто говоря:
«Каковы мы молодцы с Тихоном!» Старик положил свои обе руки на стол и, нахмурившись, нагнул голову набок. Он, видимо, понимал всю важность дела. Солдатка, размахивая руками от самых плеч вперед себя и вместе, как маятником, прошла из двери, но, подойдя к печке, села, услыхав, о чем речь, и начала складывать занавеску вдвое, потом вчетверо и потом опять вдвое и опять вчетверо. Старуха же, имевшая только одну манеру слушать всякий рассказ, веселый ли он был или грустный, приняла эту манеру, состоящую в том, чтобы слегка покачивать головой, вздыхать и шептать какие-то слова, похожие на молитвы. Гришка же, напротив, всякий рассказ слушал так, как будто только ждал случая, чтобы покатиться со смеху. Теперь он это и сделал; как только Тихон сказал свой ответ становому: «Не ты повезешь, а мы», он так и фыркнул. Тихон не оглянулся на него, но ему показалось нисколько не удивительно, что Гришка смеется, – напротив, он даже поверил, что рассказ его очень забавен.
– Только сейчас осмотрел я еще, значит, лошадей с фонарем, ночь темная была, – слышим, гремят с горы, с фонарями, два шестерика, пять четверней и шесть троек. Сейчас все по номерам. Сейчас передом Васька Скоморохинский наш с исправником прогремел. Тройку в лоск укатал, уж коренной волочится, колокольчик оборвал. Уж исправник не вышел из телеги, а котом выкатился на брюхо. Сейчас: «Самовары готовы?» – «Готовы». – «Пару на мост живо послать», – перила там сгнивши были. Шинтяка живо снарядили с каким-то дорожным. Сейчас сам с фонарями подкатил прямо к крыльцу. Володька вез. Ему говорили, чтобы не заезжал по мосту, лошадей не сдержал. Живо подвели наших. Все справно было. Гляжу, Митька постромку закинул промеж ног, так бы и оставил.
– Что ж, говорил что? – спросил старик.
– Сейчас говорит: «Какая станция?» Сейчас исправник: «Селюковка, – говорит, – ваше высокое царское величество». А? – представил Тихон. – А? – и притом так чудно выставил величественно грудь, что старуха так и залилась, как будто услыхала самую грустную новость. Гришка засмеялся, а солдатенок маленький с полатей уставился на старуху бабку, ожидая, что будет дальше.
– Заложили шестерик, сел фолетором наш Сенька…
– То-то бы Гришутку посадить, – вставил старик, – обмер бы.
– Так бы отзвонил, – отвечал Гришка, показывая все зубы, с таким выражением, что видно было, что он не побоялся бы ни с царем ехать, ни с отцом, ни с старшим братом разговаривать.
– Сенька сел, – продолжал Тихон, пошевеливая пальцами. – Светло было, как днем, фонарей двадцать было; а как тронули – ничего не видать.
– Что ж, сказал что-нибудь? – спросил старик.
– Только слышал: «Сейчас, – говорит, – хорошо, – говорит, – прощай». Тут смотритель, исправник: «Смотри, – говорят, – Тихон». Чего, думаю, не ваше смотрение; помолился Богу. Вытягивай, Сенька. Только сначала жутко было. Огляделся мало-мальски – ничего, все равно что с работой ехать. Пошел! Думаю, как еще ехать? А под самую гору приходит, а тут еще захлестнули, сукины дети, постромку, как есть соскочила, – так на вожже всю дорогу левая бежала. Под горой исправника задавил было совсем. Он слезал за чем-то. «Пошел!» – покрикивает. Уж и ехал же, против часов четыре минуты выгадал.
Старик несколько раз, после каждого стаканчика, требовал повторения этого рассказа.
Помолившись, встали от стола. Тихон отдал двадцать пять рублей денег и гостинцы.
– Ты меня, батюшка, отпусти, теперь работа самая нужная на станции, и беспременно велели приезжать, – сказал он.
– А как же покос? – сказал старик.
– Что ж, работнику хоть пятнадцать рублей до Покрова заплатить. Разве я с тройкой того стою? Я до Покрова постою, так, бог даст, еще тройку соберу. Гришутку возьму.
Старик ничего не сказал и влез на полати. Повозившись немного, он позвал Тихона.
– То-то бы прежде сказал. Телятинский важный малый в работники назывался, Андрюшка Аксюткин. Смирный малый, небывалый. И как просила Аксинья. «Чужому, – говорит, – не отдала бы, а ты, кум, возьми Христа ради». Коли уж нанялся, так не знаю, как и быть, не двадцать же рублев заплатить, – сказал старик, как будто это невозможно было, как ни выгодна бы была гоньба на станции.
Солдатка, слышавшая разговор, вмешалась.
– Андрюха еще не нанялся, Аксинья на деревне.
– О! – сказал старик. – Поди покличь.
И тотчас же, махая руками, солдатка пошла за нею. Маланька вышла на двор, подставила лестницу и взлезла на сарай; скоро за ней вышел и скрылся Тихон.
Старуха убирала горшки, старик лежал на печке, перебирая деньги, привезенные Тихоном. Гришка поехал в денное и взял с собой маленького Семку, солдатенка.
– Аксинья к Илюхиным с сыном наниматься ходила. Она у кума Степана, я ей велела придтить, – сказала солдатка, – да старики на проулке собрались, луга делить.
– А Тихон где?
– Нет его, и Маланьки нет.
Старик помурчал немного, но делать было нечего, встал, обулся и пошел на двор. С амбара послышался ему говор Маланьи и Тихона, но, как только он подошел, говор затих.
«Бог с ними, – подумал он, – дело молодое, пойду сам».
Потолковав с мужиками о лугах, старик зашел к куму, поладил с Аксиньей за семнадцать рублей и привел к себе работника. К вечеру старик был совсем пьян. Тихона тоже целый день не было дома. Народ гулял до поздней ночи на улице. Одна старуха и новый работник, Андрюшка, оставались в избе. Работник понравился старухе: он был тихий, худощавый парень.
– Уж ты его пожалей когда, Афремовна, – говорила его мать, уходя. – Один и есть. Он малый смирный и работать не ленив. Бедность только наша…
Афремовна обещала пожалеть и за ужином два раза подложила ему каши. Андрюшка ел много и все молчал.
Когда поужинали и мать ушла, он долго молча сидел на лавке и все смотрел на баб, особенно на Маланью. Маланья два раза согнала его с места под предлогом, что ей нужно было достать что-то, и что-то засмеялась с солдаткой, глядя на него. Андрей покраснел и все молчал. Когда вернулся старик хозяин пьяный, он засуетился, не зная, куда идти спать. Старуха посоветовала ему идти на гумно. Он взял армяк и ушел. Ввечеру того же дня поставили двух прохожих солдат к Ермилиным…
Холстомер
История лошади
Посвящается памяти М.А. Стаховича
Глава I
Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее лес… Люди начали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.
– Но-о! успеешь, проголодалась! – сказал старый табунщик, быстро отворяя скрипящие ворота. – Куда? – крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.
Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.
Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.
– Ho-о! – еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.
Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.
– Балуй! – опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.
Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.
– Что вздыхаешь? – сказал Нестер.
Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбранили за это «дрянью» и стали стягивать подпруги.
При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и что он всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.
Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщичьей посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику, Ваське, и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька, а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, леший! Но-о! Аль спишь. Отворяй, пущай наперед матки пройдут», – и т. д.
Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по две, по три, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.
Молодая кобылка-шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, взнесла задом и взвизгнула, но все-таки не посмела забежать вперед серой, старой, осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.
За несколько минут столь оживленный варок печально опустел, грустно торчали столбы под пустым навесом, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми, нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.
«Знаю теперь: как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, – думал мерин. – Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других; я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит; пускай сидит боком», – рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги.
Глава II
Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от огибавшей его реки.
Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пес!» – проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно; он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, без всякого приготовления, оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то, только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого вниманья на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уже есть, он выбрал где поотложе и просторнее берег и, моча копыта и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицей.
Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, встряхнул голову и, отойдя в сторону от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок, на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.
Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая, и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.
Мерин был роста большого – не менее двух аршин трех вершков. Мастью он было вороно-пегий; таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, с боку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно – на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок, еще длинный, от челки висел сзади за ухом; открытый лоб был углублен и шершав; на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое.
Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пежина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее, но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка; черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса. Другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие копыта, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное – такую кость головы, глаз – большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, и тонкую шкуру и волос.
Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.
Как живая развалина, он стоял одиноко посреди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.









































