Читать книгу "Холстомер. Избранное"
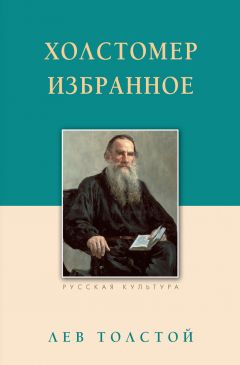
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава XX
В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками, несколько таких же кресел, раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтенький открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову.
– Что, завтракать будете, ваше сиятельство? – сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха в чепце, большом платке и ситцевом платье.
Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь.
– Нет, не хочется, няня, – сказал он и снова задумался.
Няня сердито покачала на него головой и вздохнула:
– Эх, батюшка Дмитрий Николаевич, что скучаете? И не такое горе бывает, все пройдет – ей-богу…
– Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка Маланья Финогеновна? – отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться.
– Да как не скучать, разве я не вижу? – с жаром начала говорить няня, – день-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите; уж и кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям, а то виданное ли дело? Ваши года молодые, так обо всем сокрушаться! Ты меня извини, батюшка, я сяду, – продолжала няня, садясь около двери. – Ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет: только себя губишь, да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой: он этого не чувствует, право. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала… – усовещивала его няня.
Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колене, вяло дотронулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий… Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовленны, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор, и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительною ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давыдки Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного, жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе отвечающие на истязания и лишения. То он видит бойкую, осмелившуюся на дворне кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно, и он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно». То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе склоняющаяся к нему на плечо. То он видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» – шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванки, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это, – думает он и шепчет: – Странно!» – продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, что его не пустят в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело; и он видит серое, раннее, туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных возов с большими черными буквами. Толстоногие, сытые кони, погромыхивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза, под гору, шибко бежит почта, звеня колокольчиками, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги.
– А-а-ай! – громко, ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.

У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп с своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который под рогожей передка славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронеслись мимо; Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоялого двора тройками скрипят тесовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные возы под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает: издалече ли и много ли ужинать будут, с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими, сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и, раз тридцать сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи, помилуй», и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами – и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше…
«Славно!» – шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он не Илюшка, тоже приходит ему.
Два гусара
…Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова.
Д. Давыдов

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, – в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, – в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.
Глава I
– Ну, все равно, хоть в залу, – говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.
– Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный, – говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». – Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать: так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый нумер, – говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.
В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек – здешних дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.
Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.
– Сашка! – крикнул граф, – дай ему!
Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.
– Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.
– Сашка! Дай ему целковый!
Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.
– Будет с него, – сказал он басом, – да у меня и денег нет больше.
Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.
– Вот пригнал! – сказал граф, – последние пять рублей.
– По-гусарски, граф, – улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. – Вы здесь долго намерены пробыть, граф?
– Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и нумеров нет, черт их дери, в этом кабаке проклятом…
– Позвольте, граф, – возразил кавалерист, – да не угодно ли ко мне? Я вот здесь, в седьмом нумере. Коли не побрезгуете покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!
– Право, граф, погостите, – подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек: – куда вам торопиться! A ведь это в три года раз бывает – выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф!
– Сашка! давай белье: поеду в баню, – сказал граф, вставая. – А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть.
Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, что «все дело рук человеческих», и вышел.
– Так я, батюшка, к вам в нумер велю перенести чемодан, – крикнул граф из-за двери.
– Сделайте одолжение, осчастливьте, – отвечал кавалерист, подбегая к двери. – Седьмой нумер! не забудьте.
Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:
– А ведь это тот самый.
– Ну?
– Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар, – ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была – мы вместе сотворили. А молодчина, а?
– Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего такого не заметно, – отвечал красивый молодой человек. – Как мы скоро сошлись… Что, ему лет двадцать пять, не больше?
– Нет, он так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? – он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар-душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!
И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с ранжевыми отворотами, с тем, чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.
– Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. – Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом. – Едешь, бывало, перед эскадроном, под тобой черт, а не лошадь, в лансадах вся; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, – говорит, – пожалуйста – без вас ничего не будет – проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут – есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей на своих… Ах, черт возьми, времечко было!
Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой нумер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастии, которое ему выпало на долю, – жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что, – приходило ему в голову, – как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или… дегтем вымажет, или просто… Нет, по-товарищески не сделает…» – утешал он себя.
– Блюхера накормить, Сашка! – крикнул граф.
Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.
– Ты уж не утерпел: напился, каналья!.. Накормить Блюхера!
– И так не издохнет: вишь, какой гладкий! – отвечал Сашка, поглаживая собаку.
– Ну, не разговаривать! Пошел, накорми.
– Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.
– Эй, прибью! – крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.
– Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека, – проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.
– Он мне зубы разбил, – ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера, – он мне зубы разбил, Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь – вот что! Потому, он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?
Полежав немного, он встал, накормил собаку и почти трезвый пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.
– Вы меня просто обидите, – говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели. – Я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостию готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!
– Спасибо, батюшка, – сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, – спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?
Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются.
– И игра есть порядочная, – рассказывал он. – Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в 8-м нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж не скупой – последнюю рубашку отдаст.
– Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, – сказал граф.
– Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.
Глава II
Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и пятнадцать тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, – что уже и казенных недоставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту – валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных недоставало уже двух с половиною тысяч.
Улан играл четыре ночи сряду.
Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но в сущности по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы, – задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он сбирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.
Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.
«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь», – подумал он.
«Погубил я свою молодость», – сказал он вдруг сам себе, не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость – он даже вовсе и не думал об этом, – но так ему пришла в голову эта фраза.
«Что теперь я буду делать? – рассуждал он. – Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая барыня, – подумал он отчего-то. – Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало 2 500 рублей. «Поставлю первую 25, вторую угол… на семь кушей, на 15, на 30, на 60… – 3 000. Куплю хомуты и уеду. Не даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.
– Что, давно встали, Михайло Васильич? – спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.
– Нет, сейчас только. Отлично спал.
– Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского… не слыхали?
– Нет, не слыхал… А что же, еще никого нет?
– Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.
Действительно, скоро вошли в нумер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по целым ночам всегда семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.
– Надо вообразить, – говорил он. – Москва – первопрестольный град, столица – и по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих – и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.
Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался.
– Что ж, господа, золотое-то времечко терять! За дело так за дело.
– Да вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравится, – сказал грек.
– Точно, пора бы, – сказал гарнизонный офицер.
Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.
– Будете метать? – спросил улан.
– Не рано ли?
– Белов! – крикнул улан, покраснев отчего-то, – принеси мне обедать… я еще не ел ничего, господа… шампанского принеси и карты подай.
В это время в нумер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского и через пять минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя па него, и подтрунивал над его молодостью.
– Экой молодчина улан! – говорил он. – Усищи-то, усищи-то!
У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.
– Что, вы играть собираетесь, кажется? – сказал граф. – Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! – прибавил он, улыбаясь.
– Да вот, собираются, – отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт. – А вы, граф, не изволите?
– Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. Проигрался под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то с перстнями, должно быть, шулер, – и облапошил дочиста.
– Разве ты долго сидел там на станции? – спросил Ильин.
– Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель не забудет. – А что?
– Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенницкая рожа, плутовская, – лошадей нет, говорит; а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату, знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказываю отворить настежь все двери и форточки: угарно будто бы. Ну, и тут тоже. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце – градусов двадцать было. Смотритель разговаривать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на деревню… Я к двери; говорю: давай лошадей, так уеду, а то не выпущу, всех заморожу!
– Вот так отличная манера! – сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом: – это как тараканов вымораживают!
– Только не укараулил я как-то, вышел, – и удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке; она все чихала и Богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером притравливал, – отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер! Фю!
Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.
– Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болтун, – сказал Турбин, – любишь не любишь – дело хорошее.









































