Текст книги "В лаборатории редактора"
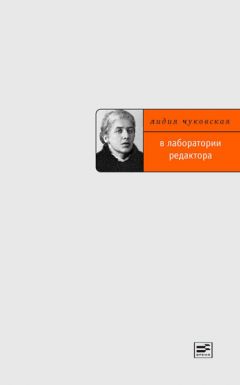
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
«– А вы, подруженьки, не стесняйтесь. Души-то ваши красивей наших ковров»[267]267
Там же, с. 28.
[Закрыть].
Так и сказали официантки и нянюшки: «Души-то ваши красивей…»? (Откуда, между прочим, в гостинице нянюшки?) И к тому же сказали хором? Читаешь и кажется, что речь тут идет не о служащих советской гостиницы, а об оперном русском хоре: «Не стесняйтесь, подруженьки», – поют нянюшки и кланяются дояркам в пояс… Правда, следующая фраза не совсем из оперного репертуара, более современная: «Для государственного дела приехали»[268]268
Ф. Панферов. Раздумье // «Знамя», 1958, № 10, с. 28.
[Закрыть]. Замысел у автора был торжественный, но несоответствующий стиль уничтожил замысел: смесь пейзанства с современностью вызывает комический эффект. Читая роман, слушая воляпюк, на котором изъясняются герои, невольно вспоминаешь песню, выдаваемую каким-то сочинителем за народную:
Недостоверен язык героев, недостоверны многие чувства и целые эпизоды. Можно ли поверить, например, что Аким Морев, которого автор стремится нарисовать человеком непошлым и умным, объясняется с любимой женщиной в таких выспренне-забавных выражениях:
«– Вы не допустили меня к себе, как наша полупустыня вчера не допустила воду»[270]270
Ф. Панферов. Раздумье // «Знамя», 1958, № 10, с. 63.
[Закрыть] —
и вот так комментирует в беседе с самим собой знаменитые строки Пушкина:
«…Пушкин сказал: любви все возрасты покорны. Елене– то да, но покорна ли она тем, кто в возрасте?»[271]271
Там же, № 8, с. 66.
[Закрыть].
Можно ли поверить, что пожилая татарка, жена знатного чабана, заметив, что дочь ее, красавица Марьям, знаменитая Марьям, вырастившая в степи необыкновенных коров, влюбилась в секретаря обкома (ночью Марьям не спит и страстно чертит имя любимого человека в дневнике наблюдений за коровами), – можно ли поверить, что мать, обеспокоенная любовью дочери к Акиму, идет ночью в степь и, опустившись на колени, молится звездам, просит звезды излечить Марьям от любви к Акиму потому, дескать, что секретарь обкома, «большой начальник», недоступен для Марьям, как звезда?
«…Санья вскинула глаза к небу, усеянному трепетными звездами. Опустившись на колени, зашептала:
– Мы можем смотреть на вас… но достать не можем. Марьям может смотреть на Акима, но достать его, как и вас, не может»[272]272
Ф. Панферов. Раздумье // «Знамя», 1958, № 10, с. 10.
[Закрыть].
Всякие, конечно, бывают матери, и о чем угодно они могут молиться звездам. Санья старуха и воспитана в старое время? Пусть так, но почему с таким умилением и без всякой брезгливости передает эту холопскую молитву автор, почему редактор не поставил на полях большой вопросительный знак? Марьям хоть и дочь чабана, но она образованная, ученая; Аким Морев хоть и занимает высокий пост, но по происхождению человек из народа, сын рыбака; почему же Морев недоступен для Марьям, как звезда, словно речь идет не о людях демократической страны, не знающих социального неравенства, а о каком-нибудь графе, в которого, на горе себе, влюбилась бедная пастушка?
Загипнотизированный – или испуганный? – блеском знаменитого имени, редактор счел себя обязанным верить всему, что преподносит читателю заслуженный литератор: и выдуманным происшествиям, и выдуманному языку, и прелести «сок-бабы», и праву автора небрежно обращаться с грамматикой, и тому, что читатель простит автору недостоверность, безвкусицу, описки, неряшество – все решительно простит за современную тему. Не поверил редактор, в сущности, только в одно: в то, что в нашей литературе, невзирая на темы и лица, в самом деле объявлена беспощадная война всякой антихудожественности, безвкусице, фальши, всякому неряшеству. Вот в это он, по-видимому, не поверил, и потому в романе заслуженного его не смутили ни явные описки: «Первым появился Опарин, за последние недели прямо помешавшийся на строительстве Большого канала»[273]273
Там же, с. 23.
[Закрыть], ни патетическое изображение округлого девичьего живота: «… живот… не втянут, но и не отвисает»[274]274
Ф. Панферов. Раздумье // «Знамя», 1958, № 10, с. 81.
[Закрыть]; ни безмолвное восклицание предколхоза, внезапно заметившего, как под платьем у его заместительницы «резко выделилось… красивое бедро и нога… «Мать-то какая дремлет!»[275]275
Там же, № 7, с. 33.
[Закрыть]… Все это редактор счел нужным в неприкосновенности доставить читателю. А ведь нередко случается, что в рукописи автора молодого и незнаменитого редактор – не этот, так другой! – встречает с высокомерной подозрительностью самые невинные строки.
Вот, например, повесть о Зое и Шуре Космодемьянских. В чем только не сомневался, к чему не придирался редактор одного альманаха, читая эту рукопись!
Вот маленькая Зоя рисует дом с высокой зеленой крышей, с трубой, а рядом яблоню с круглыми яблоками, и большое солнце на небе.
«Даже рисунки аполитичны», – отмечает редактор.
Шура побывал в Третьяковской галерее. Ему очень понравилась знаменитая картина Серова – «Девочка с персиками».
«Не та картина!» – отмечает редактор.
В последних классах школы Зоя очень увлеклась Чернышевским. Автор рассказывает, как она работала над сочинением о любимом писателе.
«А Чапаева-то нет!» – язвит на полях редактор.
У Зои и Шуры умер отец. Глава называется «Горе». Редактор не хочет, чтобы писали о горе.
«Всю главу снять!» – командует он на полях.
Вообще, что греха таить: недолюбливают многие наши редакторы упоминаний о горе, изображения горя. По– видимому, они полагают, что если о нем не будет написано в книгах – его и в жизни никто не приметит…
В один областной город приезжает корреспондент центральной газеты. Ему поручено дать в очередной номер 150 строк
0 большом и радостном событии: в городе открывается Дворец культуры. Но совершилось несчастье: на окраине завалился недостроенный шестиэтажный дом. Весь день машины «скорой помощи» возят в больницу раненых, весь день работают на развалинах спасательные бригады – а вместе с ними и приезжий корреспондент. Каково же его удивление, каково негодование, когда, проезжая после мучительного дня мимо нового Дворца культуры, он слышит звуки веселой музыки, видит гирлянды сверкающих лампочек. Праздник состоялся, несмотря на катастрофу, на человеческие жертвы!.. Такое тупосердие глубоко возмущает автора повести – и героя.
Но не редактора. Редактор спешит стать на сторону незадачливого начальства.
«Такие факты есть, – пишет редактор. – Но зачем этот факт втиснут в роман – неизвестно».
Праздник устроили в день, когда более уместно было бы надеть траур? Редактор находит это в порядке вещей…
«Пеплом, что ли, головы посыпать всему району?..» – с издевкой спрашивает он.
…Да, к чему только не придирается, бывает, редактор, читая рукописи «незаслуженных» авторов! И к большому, и к малому, и к содержанию, и к слогу. А главное, ко всему свежему, не тривиальному.
Еще одна рукопись на столе у редактора.
«Она лежит, завернувшись в широкий чабанский плащ, – пишет автор о девушке-чабане, – на пригретой солнцем траве. Тесемки белобарашковой шапки завязаны под подбородком. Прохладный румянец – дитя мороза и солнца – пламенеет на щеках».
Редактор подчеркивает «дитя мороза и солнца». Не слишком ли смел этот образ? Бывают ли у мороза и солнца дети?
«Она теперь и представить себе не могла, как это она до сих пор жила без службы», – пишет автор.
«Она» – «она» – привычно подчеркивает редактор. Два раза «она» в одной фразе! Не много ли?
…Не слишком ли долго терпит наша общественность таких редакторов? Нельзя сказать, чтобы редакторы-упростители встречались в каждой редакции, нельзя сказать, чтобы редакторы-чиновники, потомки учителя-чиновника Беликова встречались у нас на каждом шагу, но все-таки не вывелись еще начисто ни те, ни другие. И случается, что годами мы даем возможность и тем и другим заниматься своей немудреной, однообразной, но весьма злокачественной деятельностью – то механической правкой, то попустительством, то бесцеремонным вмешательством в текст, и ни за то, ни за другое, ни за третье – ни за неумение, ни за равнодушие, ни за самоуправство – не принято у нас отстранять редакторов от работы. Отстраняют редактора только в том случае, если он проявит неосведомленность в каких-нибудь общеизвестных фактах или совершит политическую ошибку. Как будто пребывание на редакторском посту человека, к своей деятельности не подготовленного, человека, лишенного знаний, вкуса, чутья и слуха, неталантливого, к искусству глухого, робкого с именитыми и бесцеремонного с молодыми, не является уже само по себе безусловной политической ошибкой!
Глава шестая
Редакционный оркестр
1
На столе у редактора рукопись. Первая книга молодого, начинающего автора. Повесть о советском городе, который во время войны пережил осаду. О взрослых и детях – журналистах и домашних хозяйках, врачах и железнодорожниках, пионерах, школьниках, учителях, о том, какой путь прошел каждый из них прежде, чем найти свое место в великой всенародной борьбе.
В первом варианте новое произведение отличалось одним существенным недостатком: некоторые страницы как будто сами мешали читать себя, воздвигая на пути у читающего десятки излишних подробностей. Бывает, что жизненно верных деталей у автора нет и действие развивается в пустоте – легко, быстро и неубедительно. Тут же, напротив, в погоне за достоверностью автор перегрузил повествование деталями. И действие местами не шло, а тащилось.
Подробности подробностям рознь. Когда они помогают лепить, вместе с внешним миром, внутренний мир героев, когда они туго натягивают струну драматизма, а не роняют ее, текст не кажется ни длинным, ни тяжеловесным. Такими животворными подробностями богата была и новая повесть. Но в первом ее варианте встречались и такие детали, которые, по сути дела, не создавали ничего, не служили ничему. Нельзя сказать, чтобы они были банальны или неправдивы – нет, но они были никчемны. Никчемны относительно цели.
Есть, например, в повести, в ее первой, еще довоенной части, такой эпизод. Михайленко, внештатный лектор райкома партии, приглашен на пионерский костер. Он должен рассказать детям о революционерах прошлого, о борцах с самодержавием. Перед детьми он выступает впервые. Ему хочется найти ключ к их сердцам, но он не знает, как возбудить их внимание. И чувствует себя неуверенно.
Дети сидят на траве, на круглой темнеющей лесной полянке. Сидят и вглядываются в лицо нового для них человека. И под этими взглядами опытный лектор немного робеет.
Ребята ждут – ждет и читатель.
Тем временем сделалось темнее, – написано было в первом варианте рукописи. – На темном небе проступили дрожащие звезды. Каждая звезда горела своим светом – синим, зеленоватым, желтоватым, красноватым, серебряным; луна поднялась выше и стала от этого как будто меньше, а поверхность ее заблестела. Облака на краю неба сделались плотнее, тяжелее и гуще; одно густое и длинное облако стояло поперек луны.
– Посмотрите на эти звезды, – сказал Михайленко.
Так начинал он свою лекцию. Но описание плотных облаков и блестящей луны заслоняло зеленоватые и желтоватые звезды; автор аккуратно и обстоятельно описал и луну, и облака, и небо, и цвет звезд, но каждая подробность существовала как-то сама по себе, не сливаясь с другими, не создавая ни вместе, ни порознь ничего заманчивого, что могло бы привлечь внимание Михайленко или ребят.
Редактор сказал об этом автору. Тогда автор, чтобы сделать описание звездного неба поинтереснее, к дрожащему блеску звезд прибавил еще причудливое синее свечение, а к плотным облакам на горизонте – странного вида туманности, то и дело пересекающие яркую поверхность луны.
Отрывок стал еще длиннее, но от этого нисколько не выиграл. Бывают на небе и причудливые свечения; и прозрачные туманности. Но здесь описание их ничему не служит, не говорит ни о чем. Бывают и бывают.
Редактор сделал новую попытку – противоположного свойства: предложил автору освободить описание неба от всего лишнего.
Автор вычеркнул синеву, прозрачность и туманности. Отрывок сделался вдвое короче, но силы не приобрел. Словно он весь был лишний. По-прежнему оставалось непонятным, почему, желая привлечь внимание слушателей, Михайленко предложил им взглянуть на небо.
Тогда редактор попросил автора не вставлять и не вычеркивать описаний, а попытаться увидеть небо глазами детей, сидящих в полутьме на полянке, хотя бы глазами Славки Василькова, одного из главных героев книги.
Тем временем сделалось темней, – написал в новом варианте автор. – Луна поднялась высоко и стала серебряной. Возле нее зажглась звезда, одна на все небо. Она дрожала как будто от радости, что стоит в этом огромном небе рядом с такой большой и прекрасной луной.
Теперь с этой звезды стоило начать разговор. Она сияла на небе одна, но зато ярко. Яркость ей придало не изобилие и не причудливость деталей, а отобранность их. Глядели на небо дети, глядел Славка – это именно ему, Славке, могло прийти на ум, что звезда, стоящая на небе рядом с луной, горда таким соседством. «Она дрожала как будто от радости, что стоит рядом с такой большой и прекрасной луной». Это его мысль, его интонация. Абзац перестал быть не только длинным – он перестал быть безличным. Ничего нет особенного, значительного в этих строках, но редактор обрадовался им. Они сомкнулись с одной из существенных линий повести, с подтекстом первой ее части. В первой части Славка Васильков представлен счастливым мечтателем, дружащим не только с товарищами и книгами, но и со шмелями и акациями, с волнами моря и камнями на берегу. Глядя на маленькую ракушку, выброшенную волнами, он видит морское дно со всеми водорослями и чудовищами; он умеет подсказать пчеле, какой цветок самый вкусный, и пчела благодарно жужжит в ответ; он дружит со шмелями, деревьями и маленькими красными маками. И весь братский, откликающийся на его призывы мир обещает ему заманчивое будущее; по натуре Славка поэт, первооткрыватель: будет ли он путешественником, геологом, летчиком – неизвестно, но он будет творцом.
Во второй части книги на Славкин поэтический мир всей своей мертвящей тупостью обрушивается фашизм. Богатство этого мира, духовное богатство Славки Василькова, – одна из основ замысла первой части. И звезда, и луна, очеловеченные жадным Славкиным воображением, прибавили еще одну черточку к этому богатству: сроднились с ракушкой, рассказывающей мальчику о дне моря, и с тяжело гудящим шмелем, о котором Славка подумал, что, наверное, у него моторчик внутри, заведенный раз навсегда («и рад бы остановиться и помолчать, да не может»). Тот же мальчик, что думал о шмеле с моторчиком внутри, думает теперь о звезде, и тот же взрослый человек – автор – неприметно улыбается, вслушиваясь в его думы. Если бы редактор, вместо того чтобы привести автора к этим строкам таким сложным и длинным путем, сам исправил абзац, текст мог бы стать лучше или хуже, бледнее или ярче, но он не сросся бы с подтекстом, в нем не отразилось бы зрение одного из героев и не прозвучал бы голос, выдающий душу книги, – голос ее автора.
Вот почему, хотя во время работы над книгой речь шла как будто всего лишь о вычеркивании подробностей, редактор настаивал, чтобы автор совершал эту операцию сам. И работая над многими главами, страдающими изобилием подробностей, автор с каждым днем наново убеждался, что занимается он, по сути дела, не сокращением, хотя рукопись и становится короче. Он удивился, приметив, что раздражающий избыток подробностей почти во всех случаях вызывался не изобилием, а недостаточностью – отсутствием той точки, с какой глядит в эту минуту герой или автор на совершающиеся события. Вот когда ее нет, этой всеопределяющей точки, когда мысль неотчетлива, а чувства вялы, тогда-то, без удержу и без разбора, и начинают размножаться подробности. И для того чтобы обуздать их и укоротить страницу, главу или часть, необходимо прежде всего определить эту точку и твердо стать на нее: тогда излишества отпадут сами собой, а то, что останется, выиграет в силе и ясности.
«…Своеобразие рисунка рождается не из… копирования находимых в природе форм, – пишет французский живописец Матисс, – и не из терпеливого накапливания тонко подмеченных мелочей, а скорее из глубокого чувства, с которым художник относится к избранному им объекту, направляя на него все свое внимание и проникая в его сущность»[276]276
Матисс. Точность не есть правда // Матисс. Сб. статей о творчестве. М.: Изд. иностр. лит., 1958, с. 69.
[Закрыть].
Да, так и в литературе: терпеливо накопленные, тонко подмеченные мелочи обогащают восприятие читателя лишь в том случае, если они вызваны к жизни, подняты на поверхность чувством и вся сила чувства служит познанию избранного художником объекта. Белые голуби и добрые извозчики, которых видит упоенный любовью Левин, не зря врываются в эту полную счастья главу: Толстой смотрит на них из глубины сердца Левина и туда – внутрь, вглубь! – ведут они читателя; фамилия куафера – Тютькин, – которую Анна читает на вывеске в последний час своей жизни, не зря отзывается издевательством, уродством: Анна оглушена уродством мира и ко всякому уродству особенно чутка отвернувшаяся от мира душа. Это детали работающие, а не праздные. «Все, что не приносит пользы картине, уже тем самым вредно… – пишет Матисс, – всякая излишняя деталь займет в восприятии зрителя место другой, существенной, детали»[277]277
Матисс. Заметки живописца // Там же, с. 11.
[Закрыть].
Работая над повестью, редактор предложил автору поискать эти существенные детали, тем самым снова и снова возвращая его воображение и чувство к основанию замысла. Ведь только те детали можно назвать существенными, которые диктуются существом книги, мыслью, на которую направлена вся сила авторских чувств. И каждая такая деталь, родившись, неизбежно вытесняет ненужные, как та единственная звезда, которая, засветившись в небе, вытеснила плотные тучи и блестящую поверхность луны. «Главное, разумеется, в расположении частей относительно фокуса, – говорит Лев Толстой, – и когда правильно расположено, все ненужное, лишнее само собой отпадает и все выигрывает в огромных степенях»[278]278
Письмо А. А. Фету. 5 сентября 1878 г. // Л. Н. Толстой, т. 62, с. 441.
[Закрыть].
Определение и укрепление этого центра, или, по толстовской терминологии, «фокуса», – первая задача редактора и автора, когда возникает необходимость сократить страницу, главу или часть. Для того чтобы понять, какая деталь существенна, а какая нет, надо прикоснуться к основе замысла, к задушевной идее автора.
…В середине повести начиналась война. Грозная весть настигла и потрясла всех героев книги: и тех, кто, как старый большевик Михайленко, и прежде сознавал неизбежность войны и готов был принять ее на свои плечи; и тех, кто, как Христина (Славкина соседка, женщина щедрой души, но легкомысленная, по-детски бездумная), был уверен, что война где-то там, далеко и их не коснется. Для всех – и для детей и для взрослых – с этой минуты начиналась новая, незнакомая жизнь. Каждая душа мужала по-своему: рост, мужание, закалка душ – вот тема второй части.
Осада! В изображении этой черной поры, занимавшем изрядную часть книги, было в первом варианте ее самое уязвимое место. Подробности разъедали ее. Автор накопил множество деталей, характерных для быта осажденного города. Четко были изображены коптилки, гаснущие каждую минуту, и карточки с отрезанными талонами в замерзшей детской руке, и грохот бомб, и звук мотора вражеского самолета.
С точностью и состраданием изображены были бедствия осажденных и их самоотверженная забота друг о друге. Но образ сражающегося, сопротивляющегося города не вполне удался автору: подробности тылового быта заслоняли его. Город не столько сражался, сколько терпел бедствие. Не то что бы в тексте не было сцен, изображающих оборону и подготовку к решительному сражению. Нет, они были. Люди гасили зажигалки на крышах домов и рыли противотанковые рвы в окрестностях. Но сцены эти, изобилующие деталями обороны, не были освещены изнутри светом разбуженного народного гнева. Военные главы необходимо было переработать, найдя вместо изобильных «существенные подробности». Существенные для возмужания душ. Какова задача этой части? «О том, как зреет гнев в сердцах» – вот о чем она должна рассказать, вот где ее существо. Редактор был уверен, что, обогащенная подробностями, которые рождены сущностью замысла, военная часть станет не длинней, а короче, что краткость явится косвенным результатом правильно найденного ударения.
«Сражающийся город, – сказал редактор автору, – заслонен здесь городом бедствующим. Подробностей быта много, подробностей обороны тоже, а мужания душ, закалки гневом – нет».
Автор начал было вычеркивать подробности быта; но это не решало дела: от этого новый центр, новый «фокус» не возникал. Нужно было добиться того, чтобы жажда победы на глазах у читателей разгоралась в каждой душе. Не только в душах таких людей, как Михайленко, прошедших революционную школу, но и таких, как Христина. Поначалу нехотя отправляется она копать рвы: ей кажется, что враг еще где-то далеко, да и не ее это забота – муж в армии с первого дня, а ей поспеть бы за мальчишкой приглядеть и за домом. Она едет туда, куда ее посылают, но едет, опаздывая, отбившись от соседей. С точными подробностями описана была автором ее дорога за город и труд людей, копающих рвы: блеск лопат под солнцем, комья осыпающейся земли, согнутые спины… Они, эти подробности, создавали картину труда, физического движения, но не создавали картины того движения душевного, которое заставило Христину вдруг озлиться на врага до бешенства, до тесноты в груди, и начать работать самозабвенно, так, словно и она вместе с этой развороченной землей испытывала боль от воронок. Лопата вспыхивала на солнце весьма достоверно, однако вспышки эти не разжигали основную мысль части. «Существенных подробностей», которые показали бы, почему так поднялась температура Христининого гнева, у автора не было.
«Моя "система" существует не для тех случаев, когда все понятно актеру само собой, – говорил Станиславский. – Тогда ему не нужны никакие "системы", а надо довериться своей интуиции. Но если чувство но откликается сразу, нужно знать приемы для его возбуждения»[279]279
К. С. Станиславский. Статьи. Речи. Беседы. Письма, с. 761, примеч. 9.
[Закрыть].
Уже в первом варианте повесть была искренней, правдивой и сильной. Вялыми были только отдельные ее места. Но нельзя было допустить, чтобы холодом, вялостью страдали хотя бы некоторые из глав, существенных для основного идейного замысла. Надо было добиться того, чтобы автор нашел краски для любви и ненависти – чувств, опаливших каждую душу. А для этого надо было напомнить эти чувства душе самого автора.
«…Чувства по приказу не приходят, – говорит Станиславский. – Никакими усилиями сознательной воли нельзя пробудить их в себе непосредственно… Однако наблюдение над природой творчески одаренных людей все же открывает нам путь к овладению чувствами… Путь этот лежит через деятельность воображения, которое в гораздо большей степени поддается воздействию нашего сознания. Нельзя непосредственно воздействовать на чувства, но можно расшевелить в себе в нужном направлении творческую фантазию, а фантазия… будоражит нашу аффективную память и, выманивая из скрытых за пределами сознания складов ее элементы когда-то испытанных чувств, по-новому организует их в соответствии с возникающими в нас образами»2.
Эти выводы, к которым пришел опытный режиссер, работая с актерами, совершенно совпадают с писательским опытом. И редактор, чтобы помочь писателю «выманить» из складов его памяти чувства, пригодные для образа Христины, попробовал расшевелить его творческую фантазию с помощью собственных воспоминаний. Ведь в сердце каждого пережившего войну она повернула свой нож по-своему.
«Поразило меня в один из первых месяцев, – припомнил редактор, – название русской деревни, написанное немецкими буквами. Немцы захватили деревню и для собственных надобностей поставили там эту дощечку. Мелочь эта – такая ничтожная сравнительно со всеми злодействами – с неожиданной силой пронзила мне душу. Старый друг привез мне с фронта дощечку, на которой по-немецки черной краской было выведено: "Kaschtschejewo" (Кащеево). И эти sch и tsch, изображающие русское "щ", это чужеродное написание русского слова, привело меня в бешенство, как насилие, совершенное на моих глазах».
Для Христины такое воспоминание не годилось. Она была малограмотна, то или другое написание слова не задевало ее. Но этого короткого разговора оказалось достаточно, чтобы задеть, растревожить воображение автора, а оно уже повело за собой его чувства и за ними и чувства Христины.
Что причинило автору первую острую боль в дни войны? Что превратилось в его личное горе? Искалеченные вершины сосен. Немцы засыпали бомбами землю его детства, то место на морском берегу, где он знал каждый камень, каждый бугорок песка, куда он приходил когда-то вместе с малышом, сынишкой соседа. Сонного его так тяжело было тащить обратно! Но так хороши там были сосны! В первые же ночи бомбежек этот клочок земли превратился в сплошную рану – в сплошную воронку. Верхушки сосен были снесены. С острой памятью об испытанном тогда горе и бешенстве сел теперь автор сокращать главу о рытье окопов. Теперь ему было чем одарить свою героиню. Он подарил ей день своего детства. При виде разрытой воронками земли в Христининой душе пробуждалась память о проведенном когда-то здесь, вот под этими обезглавленными соснами, возле вот этого, заваленного теперь землею ручья, каком-то далеком дне ранней молодости, когда она пришла однажды сюда с сонным ребенком на руках, тяжело оттянувшим ей плечи. Она пристроила спящего под сосной, положив ему кошелку под щеку, и, глядя на зеленые ветви и рыжие стволы, на ручей, размечталась о том, как поставит здесь шалаш – хотя бы без печки, бог с нею! – и переберется сюда жить навсегда. Ничего этого не случилось у нее в жизни, никакого шалаша она себе здесь не построила, но всегда помнила об этой полянке, как об обещанном счастье. И вот теперь сосны ее обетованной земли были изуродованы, земля разворочена бомбами, тишина убита звоном лопат и нарастающим гулом самолетов. При воспоминании о том давнем счастливом дне в душе у Христины вспыхивала испытанная ею когда-то нежность – и от этой нежности она естественно переходила к ненависти и жажде защитить, прогнать, не отдать. Она пришла сюда рыть окопы потому, что ей велели их рыть, но, увидев воочию оскорбленную землю, хватала лопату потому, что это был лучший способ излить свой закипающий гнев. Ненависть ее, как и нежность, стала задушевной, интимной.
И как будто вдруг отняли у Христины то, что… было всегда с нею…
…Видно, где-то на дне ее души лежал неприкосновенным весь этот день: и запах его, и цвет, и ощущение тяжести ребенка на руках, и еще что-то, что и определить трудно… Молодость, что ли? И все это разом поднялось и встало перед ней, как только она взошла на бугор и увидела долину, которой теперь не узнать.
…Христина стала неподалеку, рядом с работающими. Почти все были женщины. Христина приметила одну. Тощенькая, смотреть сзади – совсем девочка, она неловко взмахивала лопатой и то всаживала ее в землю так глубоко, что еле могла вытащить, то шаркала по поверхности, почти ничего не захватывая.
– Нет, – сказал младший лейтенант, оторвавшись от сосны и взяв у тощенькой лопату. – Надо вот как! И копать вон до той отметины… Иначе ров будет узкий, танк перемахнет – не заметит.
«Танк? Как танк?» – Христина вздрогнула. Сюда, на эту землю, на это самое место, где она стоит! На эту траву, под эти сосны! Немецкий танк с немецкими солдатами?!
…Христина взглянула на спину тощенькой в синей жакетке, которая усердно и неловко вонзала лопату в жесткую, слежавшуюся землю, и сказала про себя: «Эх ты, кто ж так копает! Вот как надо, – и она всадила свою острую лопату в землю ровно настолько, насколько было нужно, – смотри. – Она нажала ногой, лопата ушла еще глубже, но не слишком глубоко. – И вот этак, – она легко подняла лопату, полную земли. – Посмотри!» Христина отбросила землю в сторону. И снова лопата в земле («Вот так, смотри»), и снова земля отлетает в сторону («И вот этак, посмотри!»).
Солнце припекало ей спину, пыль, забравшаяся в горло, жестко щекотала его. Она работала, не останавливаясь, найдя тот ритм, при котором работа шла еще ловчей, еще лучше. «Вот так, смотри… И вот этак, посмотри!» – она повторяла эти слова, уже не думая о том, что они означают. Она слышала, как звякает кружка о бачок, как звенит, ударяясь в металлическое дно, вода, она даже чувствовала вкус этой воды, теплой, немного отдающей железом, но не позволяла себе отойти. «Вот так, смотри… И вот этак, посмотри!..»[280]280
Н. Ивантер. Жил-был мальчик. М.: Молодая гвардия, 1957, с. 200, 202–203.
[Закрыть]
Тут появились необходимые, трудящиеся подробности, подробности, отобранные чувством, которое владело Христиной: худенькая спина неумелой девушки, звон воды о кружку, память о тяжелом, сонном ребенке и о красоте сосен в тот давний день, – и потому стали ненужными, отвалились те общие псевдоподробности, которые удлиняли и загромождали эту сцену раньше. По количеству страниц сцена, может быть, не стала короче, но уже не ощущалась как длинная. Интимность любви, превратившая Христину в человека сражающегося, согрела отрывок. Следующее действие драмы, когда Христина, в третьей части книги, уже активно вступает в борьбу с врагом, вытекало из первого с полной естественностью.
…Работа над новым вариантом повести, работа, производившаяся по указаниям редактора, была окончена. Началась она с истребления ненужных подробностей, а привела к углублению эмоциональной основы событий, к большей отчетливости в обрисовке характеров, к созданию образа сражающегося советского города и тем самым к гораздо более полному воплощению главной мысли.
Редактор участвовал в работе над новым вариантом повести очень активно. Однако это вовсе не значит, что он активно правил ее. Это значит, что не только автору, но и ему, редактору, пришлось сильно поработать мыслью и воображением. Советовался ли с ним автор об отдельных чертах и характерах своих героев или о развитии сюжета, редактор, случалось, предлагал и новые живые черты, и новые неожиданные повороты, делясь с автором запасом собственных жизненных наблюдений. И все-таки следов своего почерка на страницах повести редактор не оставил. Даже работая над языком и стилем, стараясь освободить повествование от книжных, иногда пахнущих абстракцией оборотов речи, чуждых и событиям и героям и потому разрушавших общее впечатление, добиваясь от автора конкретности и легкости письма, редактор избегал браться за перо. Прочитывая вслух отдельные куски текста, восхищаясь энергией одних страниц и порицая вялость или неточность других, высмеивая смутные отвлеченности в изображении запутанных чувств или нарочитые красивости, иногда возникавшие в особо драматичных местах, редактор добивался того, чтобы и автору они показались смешноватыми или излишне утонченными, чтобы автор додумал, распутал свою иногда неясную мысль, а ясная мысль естественно находила себе выражение в языке простом и сильном…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































