Текст книги "В лаборатории редактора"
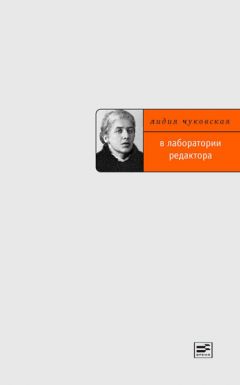
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
7
Совсем иной, но не менее сложной, кропотливой и тонкой была работа Маршака над рукописью другого начинающего писателя, И. Шорина. Жизненный материал, положенный в основу повести, и самый характер дарования автора – все было здесь иным, все требовало от редактора иных методов, иных приемов работы. Одно только сближало между собой обе редакторские задачи: имея дело с прозой и того и другого автора, редактор был особенно внимателен к ритму.
Шел 1933 год. Редакция давно уже искала писателя, кровно связанного с деревней. Книг о борьбе в деревне, книг, показывающих детям новых героев – деятелей нарождающегося колхозного строя – в детской литературе не было. Однажды из «самотека» был извлечен рассказ о мальчике и птичке; в этом сентиментальном и довольно бесцветном рассказе, лишенном примет времени, обращала на себя внимание одна страница, написанная с большою сердечностью. Автором оказался молодой деревенский учитель, уроженец Ленинградской области, родом крестьянин, Иван Шорин. Рассказ был возвращен автору, но он обещал попытаться написать повесть из жизни своих учеников, деревенских ребят. И скоро на столе у редактора лежала новая повесть.
С первых же страниц, написанных неразборчивым почерком и почти без знаков препинания, стало ясно, что автор – настоящий писатель, талантливый и своеобразный, что советская детвора получит наконец книгу о современной деревне.
В повести рассказывалось о двух школьниках, Шурке и Леньке, сызмальства влюбленных в лошадей. Семьи бедняцкие, лошадей нету, и лошадь, своя лошадь, – страстная мечта мальчишек. Их сначала подружил, потом поссорил, потом снова подружил удалой конек по имени Резвый, купленный, после долгого труда на Мурмане, Ленькиным братом. Сначала Резвый – Ленькин, потом – колхозный. Сначала Шурка страдает от того, что для Леньки их общая мечта о коне исполнилась, а для него нет; потом Ленька терзается тем, что колхоз поручает «доглядать коня» Шурке, а не ему. Перипетии этой дружбы-вражды, уход за Резвым, которого мальчики вместе помогают спасти из болотной трясины, а потом вместе лечат, – вот какова сюжетная основа повести.
Но содержание ее выходит далеко за пределы сюжета.
За скромной историей двух мальчиков и одного жеребенка встает вековое горе крестьян-безлошадников, горе, пропитавшее всю деревенскую жизнь, и мечта об общей работе на общей земле, рожденная этим горем.
Главная прелесть повести в ее лиричности, в ее языке. Этот странный учитель не всегда знал, где поставить запятую, а где – двоеточие, но язык знал в совершенстве, до тонкости – тот богатый, пластичный, образный язык, на котором говорит русское крестьянство, создавшее гениальные поговорки, сказки, песни. Шорин не только знал этот язык, но и чувствовал его, и в совершенстве, как истинный поэт, владел им, естественно вплетая в текст пословицы и поговорки, то ли подслушанные им у народа, то ли созданные народу в подарок. «Больно ловок на чужое с ложкой!»; «Неполный это человек, когда у него во дворе конское копыто не ночует»; «…Скота у нас – ветер во дворе заперт»[403]403
И. Шорин. Одногодки. Детиздат, Ленингр. отд., 1934, с. 34, 20, 17.
[Закрыть]. Нет, соответствия между темой и словесной тканью Шорину искать не приходилось (как приходилось сначала Т. Одулоку); язык его повести с первых строк был в полном ладу со всем тем, о чем автор вел свою речь: с густым осинничком и редким березнячком; с заболоченным лесом; с отросшей после косьбы травой; с малыми ребятишками, доверчиво ползающими в пыли под ногами старого коня, и, главное, с сознанием русского трудового крестьянства.
«Нет у человека в жизни огорода, в котором он бы как спутанная лошадь пасся!»[404]404
И. Шорин. Одногодки, с. 15.
[Закрыть] – говорит герой книги, Шурка Грачев, и не один смысл, но и материал, использованный для этого философского утверждения, самый материал делает для читателя ощутимым воздух революционной деревни. Позволяет увидеть ее ребятишек, деятелей и мечтателей вместе.
«Деловой парень Шурка, – говорит о Шурке Грачеве его приятель Ленька, – ко всякому делу прилипчив, а другие – те, что горох от барабана, от дела отскакивают»[405]405
Там же, с. 6.
[Закрыть]. Характеристика эта звучит как формула народной мудрости, ценящая человека по делам его, как народная поговорка.
Прелесть повести Шорина определяется теми же словами Белинского: форма связана здесь с содержанием так тесно, что оторвать ее от содержания – «значит уничтожить самое содержание». Пересказать побасенку из «Книги для чтения», ничуть не повредив ей, не умалив содержащегося в ней смысла, можно в два счета; повесть же И. Шорина пересказу без вреда для заключенных в ней чувств, мыслей, образов не поддается. Так же не поддается прямому и простому формулированию ее «идея», ее смысл. Можно, конечно, сказать, что «Одногодки» (таково название повести) воспитывают в детях уважение к общественной собственности – и это будет правдой: мальчики гордятся тем, что выходить, вылечить лучшего колхозного коня колхоз поручил им; мечты их – мечты об общественной пользе – приходят на смену мечтам о собственности. Можно сказать, что повесть воспитывает любовь к животным и к родной русской природе. Это тоже будет правдой – и тоже приблизительной и неполной. В рассказике из «Книги для чтения» ничего, кроме вывода, нет; он, собственно, и состоит из готового вывода; в повести же Шорина «вывод» заключен в самом повествовании, по образному слову Белинского, «как свет в хрустале»[406]406
В. Г. Белинский. Сочинения Зенеиды Р-вой. Санкт-Петербург.
1843. Четыре части // В. Г. Белинский, т. 7, с. 657.
[Закрыть]. Перескажешь движение сюжета, сделаешь вывод – а куда деваются люди, живущие в повести, воздух, поле, тетерева, березы, возбуждаемое ими лирическое волнение? «Идея повести», ее «воспитательный смысл» неотторжимы здесь от словесной ткани, и именно это с первой же пробной главы пленило редакцию.
День выдался теплый… Но уже видно было, что это не лето. Вот я и сам не знаю, как бы высказать, в чем тут разница: ведь и тепло еще, как в настоящий летний день, и все стоит в своей прежней зелени, – не смотри, что рожь сжата, что картофель копают. А как глянешь кругом, на облачки, на лес, особенно вдаль, и еще как вдохнешь воздух, – тут уж сразу почувствуешь, что время-то совсем не летнее.
Первая брюква, которую я сегодня поутру выдернул, была уже холодна и крепка, на ней висели капельки воды. Это осень вылезает ночью росами и густыми туманами, а ко дню опять прячется в землю…[407]407
И. Шорин, Одногодки, с. 3.
[Закрыть]
«Идея» ли это любви к русской природе, или сама природа и сама любовь?
И все-таки повесть, при всей ее прелести, потребовала большой редакторской работы. Начальный ее вариант страдал двумя недостатками, которые необходимо было устранить.
Первый недостаток был очень существенным. Поэтически изобразив деревенского паренька, будущего хозяина колхозной деревни, пропитав всю книгу его мечтами о том, что вот вырастет он большой, станет председателем, накупит самоновейших машин и так разделает землю, что чудо! – автор не сумел ввести в нее другой образ – образ прежнего вершителя судеб всех деревенских пареньков и отцов их, образ кулака. Кулак в повести был, бородатый Антип. Знание жизни подсказало автору этот образ. Но литературная неопытность сыграла с ним злую шутку: ему не удалось ввести Антипа в сюжет органически. Мальчики, их любовь к лошадям, их дружба и ссора были сами по себе, Антип – сам по себе. Это нарушало жизненную правду, а вместе с ней и сюжетное развитие, и композицию повести. И портило конец. Когда бедняки, в конце книги, объединялись, решали работать сообща и прогоняли Антипа, торжественный эпизод изгнания кулака не был торжеством для читателя повести.
Много вечеров провел редактор с автором, расспрашивая его о деревне, по крупицам добывая из его памяти пригодный материал, пока они сообща не набрели на естественную связь между Антипом и Шуркой с Ленькой, между Антипом и их задушевной мечтой. Вот он, бедняцкий двор: «…скота у нас – ветер во дворе заперт… Нету лошади. А что крестьянин без лошади?»[408]408
И. Шорин. Одногодки, с. 17.
[Закрыть] Лошадь! Ведь Антип – владыка лошадей, а лошадь, мечта о лошади – тут все думы мальчишек. Основа ненависти – тут, и сюжетная связь – тут…
Через несколько дней автор принес новый кусок: кланяются бедняки Антипу, вымаливают у него на денек коня (пора сенокосная и денек ясный!).
А он уж и ломается, – рассказывает Шурка, – и колесо-то у него чуть-чуть, и сбруя слабая, уж только через великую осторожность, коли можно. <.. >
Посмеивается Антип, а сам такой же светлый и неменяющийся, как и то солнышко, которое светит, кажись, только ему одному.
И я со всеми Антипу кланяюсь:
– Дай нам, – в жниву, мама сказала, отработаем.
– Все можем отработать! – перекрикивает меня голь родная.
– Ну, уж ладно, – говорит Антип, – бери ты, Сашунька, твоя мать зря слова не сронит.
Заеду я за чащу и так вздую Машку – Антипову стерьву, – что она летает уж потом в телеге как бешеная. Глядишь, – все поскорее тятька с мамой управятся[409]409
Там же, с. 18–19.
[Закрыть].
В этом отрывке светлобородый Антип – средоточие горя и средоточие власти. Поддакивают бедняки ему, светлобородому. Наступает минута, когда бедняки перестают ему поддакивать, когда «голь родная» объединяется и выгоняет его; в приведенном отрывке эта минута получила опору, главную опору – эмоциональную. Выгоняют не просто кулака Антипа, плохого тем, что он кулак, а того самого, которому мамка посылала кланяться, которому кланялись, а он ломался; того самого, к кому ходили потом отрабатывать; того, от чьей светлой бороды лежала черная тень на всем детстве Шурки и Леньки; того, кого они так ненавидели, что и кобылу его считали «кулацкой стерьвой».
Так, по настоянию и с помощью Маршака, устранил автор первую беду. Кулак, светлобородый Антип, сделался органической частью повести. Но и вторая потребовала деятельного вмешательства редактора. Беда эта – при богатстве и красочности языка – заключалась в излишней его затрудненности, для детской книги недопустимой. Владея затейливой русской речью, автор не обладал абсолютным чувством меры. Своеобразие приводило порою к синтаксической сбивчивости. Своеобразием Маршак любовался, но, перечитывая вслух строку за строкой, ставил ему границы. Он смело сохранял в тексте такие, например, нарушения обычных литературных норм: «А тут кажется, – упустил ты чего-то, которого не вернуть, оставил что-то, которого не взять». Или: «Любят везде таких владеющих, у которых в полную меру всего»[410]410
И. Шорин, Одногодки, с. 4.
[Закрыть]. Он оберегал причуды языка в тех случаях, когда необычная словесная формула, созданная автором, тяготела к народному афоризму, к пословице. «А что крестьянин без лошади? Костыль в поле, который стоит без огорода и подпирает ходючий ветер»[411]411
Там же, с. 7.
[Закрыть]. Нет, редактор не подчеркивал фразу «любят всюду таких владеющих, у которых в полную меру всего»[412]412
Там же, с. 17.
[Закрыть] и не настаивал, чтобы было сказано: владеющих чем. Он вмешивался в текст и протестовал против нарушения норм литературного языка в тех редких случаях, когда они приводили к громоздкости, к невнятности. А это бывало с автором не часто – только тогда, когда он терял путеводную нить своей прозы – ее ритм.
«Ритм – лучший толкователь содержания», – говорил Маршак, и на повестях Одулока и Шорина это отчетливо видно. В отличие от прозы Одулока, ритм шоринской прозы очень разнообразен, богат, приволен, гибок: ритмом передается задумчивость русского леса и глубокая сосредоточенность мальчиков, впервые задумавшихся над жизнью; ритм передает их молодое ликование при виде сильного, красивого, чувствующего свою силу коня.
Вот первый отрывок – осенний, задумчивый, тихий.
Мы сидели на куче срубленных прутьев ольшаника. Хорошо на них сидеть: чуть шевельнешься, прутья мягко прогнутся под тобой, а потом так и подымут тебя на своем упругом горбу. Уж, кажется, сидел бы и не вставал так до самого вечера. Укромно здесь и спокойно.
Воздух заметными клубами стелется в сырых оврагах. Синее небо не имеет конца. Оно идет туда, где и черточка заметная уже не отделяет его от земли. Осеннее это небо. Скоро из всех его заплат покаплет, заморосит, задождит.
Носу тогда в этот лес не высунешь[413]413
И. Шорин. Одногодки, с. 15–16.
[Закрыть].
Переставь слова в последних строках отрывка – да и не только в последних! – и сила его померкнет: исчезнут осень, дождь и небо – шоринская задумчивая осень создана ритмическим движением в не меньшей степени, чем сравнениями или эпитетами. В той же слитности ритма и смысла действенность другого отрывка, написанного в другом музыкальном ключе: Ленькин брат, Василий, играет с Резвым, а мальчики любуются конем и хозяином. Ритм передает резвость коня и влюбленный восторг мальчишек.
Вычищенный Ленькой, он стоит, и каждая жилка в нем с другой разговаривает. Чуть шорох, – вскинет голову, уши насторожит и слушает, слушает. А глаза – в каждом по искре величиной с горошину. В ногах у него как будто не кости, а резиновые мячи. Он иногда подпрыгивает весь сразу с четырех ног – легкий, словно в его теле и весу нет, а живет одна сила. <.. >
Не оторвешься от него, как Васька выведет его на веревке на улицу и даст ему волю поиграть. Он бежит вначале как-то боком, подогнув голову, и все натягивает веревку. Васька – дюжой парень, а чуть захочет Резвый, чуть подразбежится – и, глядишь, чертит Васька ногами землю, мочи нет устоять перед такой силой… Бежит, как не видит. И Васька тоже – страху в нем никакого – стоит, чуть зубы скалит. А Резвый перед Васькой вдруг остановится, да так круто, что задние ноги в землю даже врежутся, и на дыбы встанет. С передними ногами над Васькиной головой так и стоит. Поглядишь – думаешь: он и лошадью-то никогда не бывал! Страшный, а глаза так и прожигают Ваську своим огнем. И хоть нету сейчас у Васьки власти над конем, а веревку он держит. Да что веревка! Резвый пробил бы ему копытами голову, лишь бы только захотел. Может, он и сделал бы это – попробуй Васька защититься, в испуг приди.
Но сила ломит силу. Человек сильнее лошади. Вот Резвый тихонько сгибает передние ноги и опускает их на землю, а сам уже просит только, чтобы его поласкали, и голову нагнет. Видно теперь, что это скотина и хозяина своего знает[414]414
И. Шорин, Одногодки, с. 25–26.
[Закрыть].
«Но сила ломит силу. Человек сильнее лошади». Эти две короткие спокойные фразы – переход от бурной игры к успокоению, покорности. Удалого колхозного конька, созданного Шориным, можно поставить в ряд с другим конем, конем Ивана-Царевича из русской волшебной сказки: «А глаза – в каждом по искре величиной с горошину». Разве это не сказочный конь? «Он подпрыгивает сразу с четырех ног – легкий, словно в его теле и весу нет, а живет одна сила». И в создании этого коня ритм участвует в не меньшей степени, чем живопись.
Глубокую внутреннюю ритмичность повествования, связанную с основой основ таланта автора – со склонностью к лирическому раздумью и с любовью к природе, – бережно охранял, работая над его рукописью, Маршак. Расслышав присущий прозе И. Шорина ритм, редактор указывал автору на те места, где обаяние ритма иссякало, где фраза из причудливой и, в своей причудливости, властной превращалась в аритмичную, то есть попросту запутанную, для восприятия трудную. Порою чтением текста вслух, порою перерывом в работе, порою чтением стихов редактор возвращал автору изменившее ему на минуту чувство ритма. И работа возобновлялась – тонкая и чуткая редакторская работа над словом, походившая в данном случае более всего на дирижерское прослушивание оркестра во время репетиции: не выбился ли из общего звучания, из подчинения общему ритму какой-нибудь заблудившийся инструмент?
8
Забота о тех начинающих, чье дарование твердо определилось с первой же книги, о тех, кто вошел в детскую литературу уверенным и крупным шагом, тоже требовала от Маршака постоянного внимания и большого редакторского мастерства.
Много поработал он над «Дядей Степой», первой поэмой С. Михалкова, – в Москве, куда он приезжал по редакционным делам, и в Ленинграде, куда специально приехал молодой поэт. «Поэме не хватало лирического дыхания», – рассказывал впоследствии Маршак, – не хватало «тяги», которую через много лет помянул в своих стихах Твардовский:
В первом варианте поэмы дядя Степа был всего только длинным, смешным человеком, над которым добродушно посмеивались ребята и взрослые. В результате работы с редактором дядя Степа вырос, вырос душевно: смешной долговязый парень превратился в веселого, сильного великана, которого любят за доброту, умелость, за постоянную готовность прийти на помощь людям.
Вырос герой – шире, мощнее стало и лирическое дыхание стиха.
Приезжал из Москвы поработать с Маршаком и А. Гайдар. Маршак высоко ценил быстро окрепшее яркое дарование Гайдара, а из его книг в особенности «Школу».
«Прочитав книгу, двенадцатилетний читатель чувствует, что автор, как и его герой – сапожник, тоже ударился навек в революцию»[416]416
С. Маршак. О большой литературе для маленьких, с. 31.
[Закрыть], – говорил Маршак. «Есть у Гайдара и та теплота и верность тона, которые волнуют читателя сильнее всяких художественных образов»[417]417
Там же.
[Закрыть].
«Но бывает и так, – сказал он однажды молодому писателю, встретившись с ним в издательстве в Москве, – покоряясь энергии сюжетного движения, вы не даете себе труда находить достоверные детали».
Написав «Голубую чашку», Гайдар привез ее в Ленинград Маршаку. Редактор обнаружил в повести именно тот изъян, от которого предостерегал автора.
«Логика действия, – говорил Маршак Гайдару, – должна быть безупречно убедительна, каким бы ни было действие причудливым, быстрым и неожиданным». (Вспомним: «Всякий вымысел воображения должен быть точно обоснован и крепко установлен, – говорил актерам К. С. Станиславский. – Вопросы: кто, когда, где, почему, для чего, как, которые мы ставим себе, чтоб расшевелить воображение, помогают нам создавать все более и более определенную картину… жизни»[418]418
К. С. Станиславский. Работа актера над собой. Ч. 1 // К. С. Станиславский, т. 2, с. 94.
[Закрыть].)
Придирчиво прочитав первый вариант «Голубой чашки», Маршак задал немало вопросов – «когда? почему? для чего? как?» – ее героям и ее автору. Увлекшись, он сел рядом с автором и вместе с ним принялся за работу. Гайдар, тоже искренне увлеченный, радовался каждой совместной находке: эпитету, интонации, повороту сюжета. Но Маршак предостерегал его: «Берите не то, что хорошо найдено, а только то, что органически ваше, что естественно, само переходит вам в пальцы». На другой день Гайдар позвонил Маршаку из гостиницы: «Я изорвал все, что мы сделали вместе, и написал заново». Редактор был чрезвычайно доволен: появился новый вариант повести, лишенный недостатков первого варианта, достоверный, психологически убедительный в каждой строке и в то же время причудливый, поэтический, вполне гайдаровский.
Маршак радостно встретил «Республику Шкид» Г. Белых и Л. Пантелеева. Редактор увидел в повести интереснейший документ времени, свежий жизненный материал, смело и талантливо введенный в литературу молодыми авторами.
Рукопись поступила в редакцию готовой, она не требовала от редактора заботы чуть ли не о каждом образе, каждом переходе, каждой фразе. Но одна из глав – «Ленька Пантелеев» – написана была Л. Пантелеевым, в подражание Андрею Белому, ритмической прозой, совершенно не вязавшейся со стилем всей книги. Глубоко ценя, неизменно разыскивая и укрепляя подспудный ритм, органически присущий всякой подлинной прозе и теснейшими, подчас таинственными нитями связанный и с ее содержанием и с личностью автора, Маршак отвергал всякую нарочитую, искусственную ритмизацию. Он осторожно подчеркнул вычурность, претенциозность главы, и молодой автор написал ее заново, отказавшись от стихотворческих претензий.
Уверенно, как сложившийся мастер, вошел в детскую литературу Б. Житков. Первые свои рассказы он принес К. Чуковскому. «Я присел к столу, взял карандаш и приготовился редактировать лежавшую передо мною тетрадку, – вспоминает К. Чуковский, – но вскоре с удивлением убедился, что редакторскому карандашу здесь решительно нечего делать, что тот, кого я считал дилетантом, есть опытный литератор, законченный мастер с изощренной манерой письма, с безошибочным чувством стиля, с огромными языковыми ресурсами. Не было никакого сомнения, что он, этот "начинающий" автор, не напечатавший еще ни единой строки, прошел долгую и очень серьезную литературную школу. Радость моя была безгранична: молодая советская литература для детей и подростков, за процветание которой в то время мы так страстно боролись, приобрела в лице этого сорокалетнего морехода, кораблестроителя, математика, физика свежую, надежную силу.
Конечно, своей радостью я не мог не поделиться с С. Я. Маршаком, который встретил Житкова, как долгожданного друга. Именно такого бывалого человека, "умельца", влюбленного в путешествия, в механику, в технику и сочетавшего эту любовь с талантом большого художника, не хватало детской литературе тогда»[419]419
К. Чуковский. Детство // Жизнь и творчество Б. С. Житкова, с. 263–264.
[Закрыть].
Маршак возглавлял в ту пору редакцию журнала «Воробей». Туда и повел К. Чуковский новооткрытого автора. Прочитав его первый рассказ, Маршак (цитирую по письму– дневнику Б. Житкова) «выскочил» к нему в коридор:
«Превосходно, сильно, выпукло, чудеснейший рассказ… – и обнимает, целует.
Не было ни конфузно, ни неприятно: так искренне и любовно»[420]420
Запись в дневнике 15 января 1924 г. Не напечатано.
[Закрыть].
В каждом номере «Воробья», а потом «Нового Робинзона» стали появляться житковские рассказы и очерки.
Известно, что в дальнейшем дружба между Маршаком и Житковым расстроилась. Житков отошел от Маршака и редакции. Но тем не менее встреча их, годы совместной работы оказались для литературы и для них обоих весьма плодотворными. Маршака и Житкова при несходстве характеров связывала общность литературных позиций. Недаром «Почта» Маршака посвящена Житкову, а Житков для нескольких своих книг избрал в качестве эпиграфа строки из стихов Маршака и посвятил ему свою «Обезьянку». Недаром с таким увлечением работал Житков вместе с Маршаком в редакции «Нового Робинзона», а Маршак с таким упорством отстаивал рассказы Житкова от несправедливых нападок критики…
Мысль о том, чтобы писать, кроме беллетристических, научно-художественные книги подал Житкову Маршак. В дневнике запечатлена такая беседа между ними:
«С. Я. Маршак: У нас еще к вам предложение помимо беллетристики… рассказы технические без техники. Чтоб они вдохновляли, возбуждали интерес…
Я: Хорошо, сделаю на пробу.
С. Я. Маршак: Да зачем вам пробовать, вы просто напишите, у вас превосходно выйдет…»[421]421
Запись в дневнике 11 января 1924 г. Не напечатано.
[Закрыть].
И в самом деле, книги, написанные в ответ на это предложение, научно-художественные книги Б. Житкова – «Плотник», «Телеграмма», «Книга про книгу» – удались ему «превосходно» и до сих пор служат образцом для книг этого жанра.
«Наши дети… энциклопедисты по самому характеру своего мышления»[422]422
С. Маршак. Дети отвечают Горькому // Год семнадцатый. Альманах четвертый. М.: Сов. литература, 1934, с. 435.
[Закрыть], – говорил Маршак. Жажду такого читателя – охотника за книгами утолить нелегко. Тут нужны книги на самые разные темы, создаваемые людьми разных судеб, разных темпераментов, знаний, дарований, возможностей. И организаторская работа велась Маршаком весьма интенсивно. Он не ждал подарков случая (хотя и радовался им!), а производил настоящую разведку среди литераторов, настоящий набор в литературу для детей, стремясь использовать для детской литературы все наличные силы литературы для взрослых – романистов, очеркистов, поэтов, газетчиков.
Н. Ф. Монахов, говоря о режиссерском искусстве Александра Бенуа, заметил, что Бенуа «обладал особым умением выявить в актере то, наличие чего актер в себе даже и не предполагал»[423]423
Я. Ф. Монахов. Повесть о жизни актера… 1936, с. 203–204.
[Закрыть]. Таким же умением угадывать характер дарования, определять «литературное амплуа» обладает и Маршак. «Когда я, – рассказывает писательница К. Меркульева, – переступила порог редакции „Нового Робинзона“ и дала Маршаку несколько своих стихотворений, я меньше всего думала, что целью и смыслом моей жизни станет труд над созданием научно-художественных книг. Маршак сделал несколько критических замечаний по поводу стихов и посоветовал писать прозу, очерки, поучиться видеть и рассказывать об увиденном»[424]424
К. Меркульева. По горьковскому пути. (Заметки) // Ленинградские писатели – детям. Л.: Детгиз, 1954, с. 307.
[Закрыть]. И. К. Меркульева действительно сделалась прозаиком-очеркистом.
Показательна в этом смысле работа для детей таких поэтов, как Д. Хармс, А. Введенский и Ю. Владимиров. Это были молодые, еще совсем молодые люди (младшему, Ю. Владимирову, едва исполнилось восемнадцать лет), задорно называвшие себя непонятным именем «обэриуты» и сочинявшие, в подражание Хлебникову, заумные стихи.
Какой прок, казалось бы, можно извлечь для детской литературы, требующей содержательности и ясности, из заумного творчества? «Но мне казалось, эти люди могут внести причуду в детскую поэзию, ту причуду в считалках, в повторах и припевах, которой так богат детский фольклор во всем мире», – рассказывал впоследствии Маршак. За их молодым задорным экспериментаторством он сумел разглядеть и талантливость, и большую чуткость к слову. В их «заумничанье» он разглядел нечто весьма для детской литературы ценное – тягу к словесной игре. Общеизвестно, что есть в жизни каждого ребенка такой этап развития, когда игра – его главная деятельность, когда с помощью игры он упражняет свои физические и душевные силы, с помощью игры готовится к труду, постигает реальность, познает счет, изучает родной язык. Недаром в фольклоре всего мира так много считалок и дразнилок. Значение игры в воспитании малышей, особенно дошкольников, всегда было ясно Маршаку – и давать детям материал для игры, всякой, в том числе и словесной, он считал необходимостью. На эту работу он и завербовал молодых поэтов.
«Хармс великолепно понимал стихи, – рассказывал Маршак впоследствии. – Он читал стихи так, что чтение становилось лучшей критикой. Все мелкое, негодное делалось в его чтении явным».
«Их работа для детей оказала не только на литературу полезное действие, но и на них самих. Она дала им дисциплину и твердую почву… Над первыми их вещами – "Шел по улице отряд" Хармса, "Кто?" Введенского – мне пришлось работать очень много – рассказывает Маршак. – Требовалось дисциплинировать молодых поэтов, добиться того, чтобы причуды получили смысл. Во взрослой литературе "обереуты" шли к эпатированию и к пародии, а тут впервые перед ними были поставлены задачи воспитательные».
И на этот раз угадка и работа редактора оказались плодотворными. И Д. Хармс, и А. Введенский, и Ю. Владимиров действительно внесли в поэзию для детей свежую струю.
Д. Хармс превращал в игру все, к чему только ни прикасался стихом: утреннее семейное чаепитие, праздничный марш пионеров, папину охоту на хорька. Он не просто сочинял стихи для детей, а словно сам, сочиняя, превращался в ребенка:
Это «и еще потом четыре» – совершенно ребяческое. Кто не видел в ясные весенние дни мальчишек, в упоении носящихся по двору? Машут руками, как крыльями, или движут ими, как шатунами, пыхтят, надувая щеки, бегают сосредоточенно и одержимо от крыльца к стене и от стены обратно к крыльцу – целиком во власти ритма и счастливого преображения.
Это заразительное бурное счастье, эта весенняя мальчишеская одержимость вполне воплотились в игре, написанной Хармсом:
По совету Маршака начал писать для детей и Ю. Владимиров. «Вдохновенный мальчишка», – назвал его впоследствии Маршак, вспомнив наставническую радость, испытанную им, редактором, когда Ю. Владимиров написал стихи о самолете. В них слышится истинно ребяческое увлечение, и в то же время созданы они со зрелым умением, с мастерством:
Особенно радовало редактора, что когда самолет в стихе пошел на посадку, то и стих передал сначала замедление, а потом и остановку полета:
Посадка! А за несколько строф до конца – с какой силой и как находчиво передана была быстрота движения, одолевающего пространство:
Ю. Владимиров скончался от туберкулеза двадцати трех лет от роду.
Полнее и разнообразнее успело развернуться дарование третьего из молодых поэтов, вовлеченных Маршаком в детскую литературу, – Александра Введенского. Редактору пришлось много потрудиться над первой сказкой-игрой А. Введенского «Кто?»: автор сделал не менее двадцати вариантов. В конце концов игра удалась на славу. Автор играет вопросами, играет ответами, играет то длинной, то короткой строкой, играет вещами и рифмами:
Поиграв вещами и рифмами, Введенский кончает стихотворение веселой укоризной:
но и морализируя, и укоряя, не отказывает себе и читателю в удовольствии снова поиграть повторами:
Книжка А. Введенского «Кто?» создает возможности для самых разнообразных игр: в детском саду ее можно читать на разные голоса, ее можно представлять и разыгрывать в лицах – тетя Варя и дядя Боря по очереди задают свои лукаво-возмущенные вопросы; она может стать сценарием для целого поучительного представления, в то же время оставаясь ценным пособием для развития в детях точного ритмического слуха.
Писал А. Введенский для старших ребят революционные частушки и призывы, близкие к частушкам и лозунгам «Окон РОСТа», писал и веселые дразнилки для маленьких. Но основой его творчества была лирика, А. Введенский – рожденный, природный лирик. Редакторская работа Маршака, изо дня в день слушавшего стихи молодого поэта, сводилась прежде всего к тому, чтобы научить его сочетать лиризм с повествовательностью: ведь читатель-подросток требует и от лирических стихов повествования, сюжета. В ответ на это требование А. Введенский создал своеобразную и сильную балладу «Рыбаки» («Вот дело какое случилось у нас в рыбацкой простой деревушке»[434]434
А. Введенский. Рыбаки. ГИЗ, 1930.
[Закрыть] – так начиналась баллада) – и поэму, повествование в стихах, «Путешествие в Крым». Сочетать увлекательно развивающуюся фабулу с лирическим пейзажем, с лирическим звучанием стиха – вот чему учил молодого поэта старший мастер. Дети любят повествование в стихах, рассказ в стихах; жанр этот разрабатывали сильнейшие из современных детских поэтов, но сколько своеобразия, тонкости, находчивости – и лиризма! – внес в него
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































