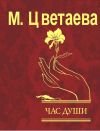Текст книги "Марина Цветаева. Воздух трагедии"
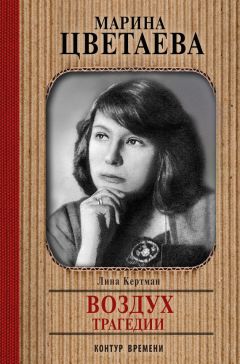
Автор книги: Лина Кертман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«Читала ли „5-й год“ Пастернака? Прекрасная вещь – особенно вступление. Только мало кто поймет ее – и у нас, и у вас» (Е. Эфрон. 1927, 9 ноября).
И снова очень жаль, что он не сказал об этом подробнее. Всем любящим Марину Цветаеву и знающим хотя бы на поверхностном уровне ее жизнь давно известен ее многолетний горячий эпистолярный роман с Борисом Пастернаком. Их особым – поднебесным, «поверх барьеров» – отношениям посвящена большая глава воспоминаний Ариадны Эфрон.
Дочь Марины Цветаевой, с детства окруженная именем, стихами, письмами Бориса Пастернака, а в годы лагерей и ссылок переписывавшаяся с ним сама, уже после смерти Марины Ивановны познакомилась с письмами матери к Борису Леонидовичу и его письмами, переписанными Мариной Ивановной в свою тетрадь.
Ариадна Эфрон по-цветаевски глубоко и мощно поведала о переписке двух поэтов. Переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака уже не раз публиковалась, наиболее подробно – в 2004 году в книге «Марина Цветаева и Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов». Мало кто знал до этого, что и у Сергея Эфрона была своя отдельная (хотя сначала, разумеется, через Марину) очень теплая и дружеская переписка с Борисом Пастернаком.
В 1927 году Марина Цветаева пишет Пастернаку:
«С места в карьер две просьбы, Борис. Вышли два Года (имеется в виду поэма „Девятьсот пятый год“. – Л.К.) – один С., другой Родзевичу. Когда я вчера сказала С., что буду просить у тебя книгу для Родзевича, он оскорбленно сказал: А мне?? А мне (мне) почему-то в голову не пришло, конечно, в первую голову С. ‹…› все равно вы судьбой связаны и знаешь, не только из-за меня ‹…› из-за круга, и людей, и чувствований, словом – все горы братья меж собой. У него к тебе отношение – естественное, сверхъестественное – из глубока большой души. И в этом его: а мне? было робкое и трогательное негодование: почему мимо него – Родзевичу, когда он так…» (Б. Пастернаку. 1927, конец октября).
Все же много воды утекло со времени мучительного 1923 года…
Тогда в дневниковых записях Марины Цветаевой прозвучало, что Сергей не должен был ни о чем спрашивать ее. Конечно, нам, не гениальным поэтам, трудно до конца понять это, видимо, очень глубинно связанное с природой ее дара стремление – к «жизни в другом» (человеке). Так, о Борисе Пастернаке она писала, что «годы оглядывалась на него, как на второго себя». Трудно понять, насколько это было ей органически душевно необходимо – как воздух! Может быть (рискую высказать робкое допущение) приблизиться к пониманию этого, хоть в какой-то, пусть самой отдаленной степени, легче людям со склонностью к эпистолярному жанру…
Как бы то ни было, похоже, что к ее переписке с Борисом Пастернаком Сергей Эфрон отнесся с пониманием, что было совершенно невозможно в ситуации с Родзевичем.
Марина не скрывала своего желания назвать будущего сына Борисом в честь Бориса Пастернака, по поводу имени ребенка в семье шли долгие обсуждения, закончившиеся уступкой Марины желанию мужа – не требованию, как особо подчеркнула она в письме Пастернаку, – назвать сына Георгием. Неизвестно, знал ли Сергей Эфрон, что несколько лет Марина Цветаева и Борис Пастернак мечтали о встрече, одновременно страстно желая и боясь ее, что хотели встретиться в Веймаре и вместе работать над переводом «Фауста».
Впрочем, летом 1926 года шла горячая, сложная, полная лирики и романтизма переписка уже трех поэтов, и переписка Марины с Райнером Рильке шла на не менее, если не более пронзительно лиричной волне, чем с Борисом Пастернаком.
Это был ее мир, так необходимый ее душе, и Сергей Эфрон прочно отстранился, даже не пытаясь вникать во все это. И конечно, не знал он тональности многих их писем.
Борис Пастернак: «Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще – Вы – возмутительно большой поэт!‹…› Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! ‹…› Как хочется жизни с Вами…» (1924, 14 июня).
Марина Цветаева: «Вы всегда со мной. Нет часа за эти 2 года, чтобы я внутренне не окликала Вас. Вами я отыгрываюсь. Моя защита, мое подтверждение, – ясно. ‹…› Борис, а будет час, когда я Вам положу руки на плечи? (Большего не вижу.) Я помню Вас стоя и высоким. Я не вижу иного жеста, кроме рук на плечи ‹…› Как глубоко, серьезно и неспешно разворачивается моя любовь, как стойко, как – непохоже. Встреча через столько-то лет – как в эпосе» (1924, июль).
А в ее «выписках из черновой тетради (до Георгия)», как она сама это обозначила, то есть 1923 или 1924 года, можно прочесть:
«Борюшка, я еще никогда никому из любимых не говорила ты ‹…›. Я вся на Вы, а с Вами, с тобою это ты неудержимо рвется ‹…›. Ты мне насквозь родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе)».
Неизвестно, было ли это отослано – далеко не все письма ее к Борису Леонидовичу сохранились.
И еще (это уже в письме): «Когда я думаю о жизни с Вами, Борис, я всегда спрашиваю себя: как бы это было? Я приучила свою душу жить за окнами ‹…› – не допускала ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. ‹…›
Я в жизни своей отсутствую, меня нет дома. Душа в доме, душа – дома для меня немыслимость…» (1925, 14 февраля).
Сергей Эфрон, конечно, не читал всего этого, но, зная Марину, он не мог не догадываться о сильной лирической составляющей их переписки. Относился же он к этому теперь совсем по-другому.
Может быть, это потому и стало возможным, что он действительно добился отгораживания своего психологического пространства и стал менее эмоционально зависим от Марины.
В то же время стихи (и особенно – поэмы) Пастернака стали на какое-то время частью их с Мариной общего мира – того немногого общего, что у них еще оставалось. Они вслух читают его поэмы, говорят о них между собой и с друзьями.
«…о Шмидте напишу (о поэме „Лейтенант Шмидт“. – Л.К.) после чтения его вслух С.Я. и Сувчинскому» (Б. Пастернаку. 1927, начало марта).
«О 1905 г. и мне тебе нынче написал Сувчинский. Вчера Сережа, доказывая кому-то что-то: „Крупнейшая вещь Бориса Пастернака, т. е. 1905 г.“ ‹…› Ты в нашей семье живешь как свой» (1927, 20 октября).
Слова из поэмы «Девятьсот пятый год»: «Это было при нас/,Это с нами вошло в поговорку», – для людей, хорошо помнивших те события, звучали по-особому значимо.
«Пользуюсь случаем, чтобы со своей стороны (как один из Ваших читателей) выразить Вам признательность за Ваши последние стихи. Я из тех, кто видел и помнит 1905 г. – Вы воссоздали его живым и правдивым. И люди, и речи, и чувства, и даже погода тех дней – настоящие!» – писал Борису Пастернаку Константин Родзевич в 1927 году.
И далее выражал сожаление, что ему еще не удалось познакомиться с поэмой целиком (читал лишь отрывки, печатавшиеся в журналах). Видимо, он тогда и попросил Марину добыть ему всю поэму.
Похоже, что все личное, связанное с Родзевичем, настолько перегорело, что стало возможным поддерживать спокойные дружеские отношения, и даже Сергея Эфрона это больше не трогало.
Некоторые строки поэмы «Девятьсот пятый год», думается, взволновали Сергея Эфрона гораздо более сокровенно, чем просто современника, помнящего эти события:
Это было вчера,
И родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери. Или
Приятельницы матерей.
И особенно – это:
Жанна д’Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.
Зная характер и судьбу матери Сергея Эфрона, можно представить, с каким волнением читал он такое.
Борис Пастернак, в отличие от многих, с самого начала глубоко почувствовал место Сергея в жизни Марины, своеобразную незаурядность его личности – и писал ей о нем с особой теплотой:
«Ася называет его Сережей, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, п. ч. мне как-то от него больно» (1926, 7 июня).
Это чувство укрепилось, когда Борис Леонидович и Сергей Эфрон начали, пусть редко, но сердечно переписываться.
«24 апреля 1930 года.
Мой дорогой Борис Леонидович,
Я знаю, какой удар для Вас смерть Маяковского. Знаю – кем он был для Вас.
Обнимаю Вас крепко со всей любовью и со всей не проявленной дружбой.
Ваш С. Эфрон».
Борис Пастернак иногда писал Сергею Эфрону, фантазируя, воображая их живую встречу:
«Дорогой Сергей Яковлевич!
Сейчас, на этой незаписанной странице, я ищу поддержки у Вас. Утренний час, я захожу за Вами, и не сказавши Марине, мы с Вами бродим по нижеследующим строкам, они ленятся на солнцепеке, по ним, из пятой в десятую, поют петухи, мы с Вами давно перешли на ты и обходимся без отчеств. Я рассказываю Вам, как глупо и болезненно я устроен, как множеством роковых случайностей намеренно затруднен, заторможен мой шаг. ‹…› И вот мы бродим с Вами, уходим незаметно за Девичье ‹…› я легко и отрывисто отвечаю Вам на Ваши рассказы то, что должен был бы Вам сказать облачный кругозор, в ответ на свои слова слышу и от Вас такие же возраженья. Скользят лошади, блещут крыши, мы расходимся, пьяные и осчастливленные, убедясь еще раз, что дружба – вещь баснословная и сверхчеловеческая, что другом называется тот, кто одаряет словом воду и воздух и зарядив их этим даром, оставляет потом с тобой…» (1928, 6 марта).
Кроме восхищения талантом Бориса Пастернака (Сергей Эфрон – один из немногих в русской эмиграции того времени – оказался способен оценить поэзию Бориса Пастернака, понять масштаб его таланта), к «живому» общению с ним, точнее к эпистолярному, его тянуло еще и потому, что Борис Леонидович жил там – в новой России, все видел своими глазами.
И если внимательно прочесть те письма Бориса Пастернака, где он обращается к Сергею (иногда через Марину, иногда – прямо к нему) или пишет Марине о нем, можно увидеть одну неожиданную вещь: оказывается, мучительно трудный вопрос о возможности и целесообразности возвращения их обоих в Россию на самом деле встал перед Борисом Леонидовичем задолго до их встречи в Париже в 1935 году. Тогда он, как известно, вынужденно, против воли и в очень тяжелом душевном состоянии приехал в Париж на Конгресс деятелей культуры в защиту мира (и, по горькому выражению Марины Цветаевой, после долгих лет мечтаний состоялась их грустная «встреча-невстреча»).
Об этой «невстрече» хорошо известно – мимо нее не прошел автор ни одной книги о жизни Марины Цветаевой или Бориса Пастернака. О ней подробно, с эмоциональными комментариями рассказано и в письмах Цветаевой, и в письме Пастернака ей, и в мемуарах людей, слышавших воспоминания Бориса Пастернака много лет спустя, уже после трагической смерти Марины Цветаевой.
Борис Пастернак тогда в Париже не знал, что ей посоветовать.
Он не был уверен, что надо отговаривать ее от возвращения: мысленно перебирая разные варианты, он действительно допускал возможность улучшения ее жизни, жизни всей семьи при переезде в Советскую Россию, но мучительная тревога не отпускала. Пастернак помнил о напряжении страха в том разговоре полунамеками, смысл которых Марина Цветаева, не привыкшая к таким беседам, могла не понять. Он осторожно шепнул во время заседания: «Там холодно! Сплошной сквозняк!»
Известно и о его глубокой депрессии в то время: он даже не нашел в себе сил заехать к родителям, живущим в Германии, и больше никогда в жизни не увидел их…
Известно резкое письмо Марины Цветаевой к нему после этой «невстречи»:
«Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты – преступник.
Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде – мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет – не жди.
Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться…» (1935, октябрь).
В этом цветаевском письме много граней, и оно еще всплывет в этой книге (по совсем другому поводу – в главе об Але…). Но сейчас речь о другом.
Сергей Эфрон все более верил в «светлое завтра», к которому советская страна идет, по его мнению, трудным, но достойным путем.
Он думал, что Борис Пастернак разделяет его энтузиазм в отношении новой России. Так Сергей воспринял и поэму «Девятьсот пятый год», и это звучит в его взволнованном письме Борису Леонидовичу:
«Не знаю, как выразить Вам свою благодарность за книги и еще более за книгу, и еще более за надпись. То, что дружба наша родилась в тысячеверстной разлуке, а во времени – не в сегодня, не во вчера, а в самом радостном и в самом творческом, что у нас есть – в нашем завтра, более всего утверждает меня в вере в кровность нашего с Вами братства» (1927, 1 декабря).
А Марина Цветаева, совсем по-другому относящаяся к Времени, писала Пастернаку другое:
«Ты мой слух и мое зрение в России. Поскольку будет расширяться их поле – будет расширяться и мое. Это не слепость любви говорит, доверяю тебе мой слух и мое зрение. Увидь и услышь за меня» (1926, 9 апреля).
Такими словами она возложила на него огромную ответственность, и Борис Пастернак принял это.
Его восприятию новой России посвящены многие письма конца 1920-х годов и ей, и Сергею Эфрону. В них прямо, косвенно или в подтексте обсуждается тот же круг вопросов (кажется, еще никто не взглянул на них с этой точки зрения). Речь там идет о том, как изменились страна и люди, как оценивать эти перемены, какие выводы для себя сделать живущим вдали от родины.
Он мучительно размышлял о судьбе Марины Цветаевой, многие годы это было одной из главных внутренних тем Бориса Пастернака, и он вдохновенно писал ей на своем неповторимом языке:
«Иногда же теперь, в самое последнее время, мне кажется ‹…›, что моя задача, в которой я еще не разобрался, чтобы место, где ты столько лет жила с такой силой в виде вздоха и сна и сердечного пробела, первым тебя увидело живою, не только чаянной, неповторимой…» (1927, 29 сентября – 1 октября).
И еще: «Родная моя, любимая Марина, слушай меня ‹…› Я все это сделаю, все это сделается постепенно. Все, задолженное тебе временем, будет заплачено тебе. Ты все это увидишь. ‹…› Все, что в моих силах, я сделаю, чтобы приблизить это время. ‹…› Умоляю, верь мне, что тебе заживется легче! ‹…› Ради этого уже написан 1905-й год. Мы потом поймем, что это было за звено. ‹…› кому-то и чему-то надо тебя рассудить и примирить с Россией. Как это будет, в подробностях не вижу. Будет сплошь в случайностях и неожиданностях. И скоро. Опять (я и другие люди) в этом году попробуем двинуть колесо. А дальше оно само пойдет» (1927, 13 октября).
Об этом, как о своем главном деле сейчас, Борис Пастернак писал и Горькому на Капри: «Если бы Вы меня спросили, что я теперь собираюсь писать, я ответил бы: все что угодно, что может вырвать это огромное дарованье из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России».
Но вот Марина Цветаева спрашивает, можно ли ей приехать в Россию «в гости»:
«…не жить, Борис, ездить. Нельзя ли было бы – несколько выступлений, совместных, по городам России, ты с Годом, я с русскими стихотворными Молодцем, Егорушкой, кое-чем из После России. Но – важная вещь, Борис, – мне в России нужно немножко заработать, чтобы мое отсутствие не легло фактическим бременем на плечи остающихся. ‹…› Для этого надо бы устроить в России какую-нибудь мою книгу» (1927, конец октября).
Вопросы свободного человека… Как наивно они звучали в советской России!
И в ответе Пастернака теперь звучат совсем иные ноты, чем прежде:
«Это не так легко устроить, и об этой нелегкости уже успел сказать Горький ‹…› вот я допустил, что завтра или через месяц ты получила бы визу. И знаешь, я первый стал бы тебя просить с приездом повременить. Я бы не поручился, что в случае какого-нибудь процесса, ни волоском не имеющего к тебе отношенья, тебя бы не припутали по периферии каких-то третьих лиц и десятых гаданий, как это тут бывает с целым рядом ни в чем не повинных людей.
Для меня, в таком случае, оставалась бы облегчающая возможность сесть вместе с тобой ‹…› но во всяком случае я не могу звать тебя к таким перспективам» (1927, 12 ноября; курсив мой. – Л.К.).
Каким диссонансом ей должно было прозвучать такое…
В 1935 году в Париже Борис Пастернак не сказал Марине Цветаевой этих слов, но ведь они, оказывается, были сказаны в письме ей задолго до этой встречи!
В 1927 году еще не было того страха, что создал напряженное молчание в середине 1930-х, и в том же письме, предупреждающем об опасности попыток приехать сейчас, Борис Пастернак не отказывается от надежды на будущее:
«Темы этой оставлять нельзя ‹…› и чем больше она тут пустит корней, тем они будут разнообразнее, многочисленней и неожиданней».
В 1928 году поэт Павел Антокольский был в Париже с театром Вахтангова. В январе 1929 года Борис Пастернак пишет Марине Цветаевой:
«Отрывочно, от А. (Павла Антокольского. – Л.К.) узнал о героизации наших дел, отличающей С. (Сергея Эфрона. – Л.К.), и о том, как мало мог удовлетворить его в этом смысле А.».
О своем разочаровании этой встречей Сергей Эфрон писал сестре:
«Разговаривал с Павликом. Не говори, конечно, ему об этом, но на меня он произвел впечатление жалкое. Взволнованно ждал встречи с ним, а после встречи было горько. Слабость ‹…›, декадентская допотопная суетливость, какое-то подпольное малокровие» (1928, 20 июля).
Сергей Эфрон, видимо, еще понятия не имел об опасностях, подстерегающих советских людей, общающихся за границей с эмигрантами, и напряженное состояние человека, ради старой дружбы все же решившегося на эту встречу, показалось ему жалкой слабостью.
Борис Пастернак в это время еще очень диалектично относился к происходящему в стране, и иногда он вольно или невольно укреплял своими письмами склонность Сергея Эфрона к идеализации советской жизни. Он, например, писал Марине:
«Но и вот еще что она (Россия), и об этом расскажи Сереже.
Она еще – и гость, нынешним вечером являющийся к твоей прислуге, восемнадцатилетней рязанской крестьянке. Он на этом месте у ней впервые. Он земляк ее предшественницы и подруги, от нас пошедшей замуж этим летом. Он с нашей теперешней одного уезда, разных деревень ‹…› проходя коридором, где ее угол, вижу на коленях у нашего гостя „Сестру мою жизнь“. Он вполголоса ей эту чепуху читает. Мы с тобой близкие люди, ты легко вообразишь, что я им говорю, с непринужденнейшей душой и с радостью за поколенье. Но на предложенье бросить эту ерунду и взять у меня Толстого он отвечает светлой, осмысленной улыбкой и просьбой дать им, в таком случае – „Девятьсот пятый!“. Оказывается, посидев у ней минуту-другую, он в числе первых задал ей вопрос о том, у кого она служит. Речь шла о фамилии. И вот, едва Нюра меня назвала, как он сказал ей, кто я и послал ее за книгами. Он рабфаковец, т. е. студент рабочего факультета. И – не исключенье. К ней больше ходят, чем к нам, и все рязанские, и каждый раз либо билет в Художественный, либо еще что-нибудь. Свежее, проще и счастливее, чем мы в те же годы. Романы же ровные, щадящие, без ложного рыцарства, но с прелестью братства, т. е. подавленного и упрятанного в бережность мужского превосходства. Понимаешь ли ты это, и радует ли это тебя?» (1927, 24 октября).
Понимала. Радовало. В этом они с Сергеем были на одной волне. И Марина Цветаева откликнулась на это «всей собой»:
«А нынче письмо с Нюрой. Лучше бы мне таких вещей не знать, они с детства разрывают мое сердце. (Далее вспоминает садовника, служившего у ее родственницы в Тарусе, свои – шестилетней девочки – беседы с ним о книжках. Прощаясь перед отъездом, она подала ему руку, бабушкины горничные засмеялись. – Л.К.) – Да что Вы, барышня, нешто с садовником за руку прощаются? ‹…›
И я, покраснев до слез, вторично, молча, ожесточенно ‹…› Так вот все эти Иваны-Царевичи, хлынувшие в Москву, „за книжками“ ‹…›. Вывод? Это – народ. А то – нарост. Одно с другим не путаю. Хотя в Москву, к таким, хочу» (1927, 1 ноября).
«К таким» – хотела. Но слишком многое настораживало ее…
«…Борис, Россия так далеко ‹…› после сегодняшней крестьянки М., учащейся стрелять по портрету Чемберлена – еще дальше…» (1928, февраль).
Между тем подтекст всех рассказов Бориса Леонидовича о новой России – в большой степени размышление о возможной участи Марины и ее семьи. Она понимает это и, всегда помня и о народе, и о «наросте», остро реагирует и на такое:
«Знаешь ли ты, что сейчас такое Россия? О конечно, больше прежнего это постоянная возможность оказаться за одним столом с осведомителем, с тенью вечной бессовестности, подпущенной под тебя для того, чтобы твою горячую, выдающуюся верность подделать под предательство. Так Россия когда-то заботилась об ограниченном круге. Теперь, с действительной ее заботой о миллионах, этот ужас удесятерился» (1927, 24 октября).
Это сказано в том же самом письме Пастернака, где и восторженный рассказ о молодых рабфаковцах… Слишком хорошо помнила Цветаева начало такого уродования жизни в «советской, якобинской, маратовой Москве»! Она написала об этом в 1922-м в резком открытом письме Алексею Толстому. Письмо было вызвано публикацией в редактируемом А.Н. Толстым литературном приложении к берлинской газете «Накануне» частного письма к нему К.И. Чуковского.
«Алексей Николаевич!
Передо мной в № 6 приложения к газете „Накануне“ письмо к Вам Чуковского. Если бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла свершившееся за дурную услугу кого-либо из Ваших друзей. Но Вы редактор, и предположение падает. Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами по просьбе самого Чуковского, или же Вы это сделали по своей воле и без его ведома.
„В 1919 г. я основал ″Дом Искусств″; устроил студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроил общежитие на 56 человек, библиотеку и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают, – эмигранты, эмигранты! ‹…› Нет, Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым“. (Курсив, очевидно, Чуковского.)
Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому (просьбе его) – то поступок Чуковского ясен: не может же он не знать, что „Накануне“ продается на всех углах Москвы и Петербурга! —
Менее ясны Вы, выворачивающий такую помойную яму. Так служить – подводить.
Обратимся к второму случаю: Вы оглашаете письмо вне давления. Но у всякого поступка есть цель. Не вредить же тем, четыре года сряду таскающим на своей спине отнюдь не аллегорические тяжести, вроде совести, неудовлетворенной гражданственности и пр., а просто: сначала мороженую картошку, потом не мороженую, сначала черную муку, потом серую…
Перечитываю – и:
„Спасибо Вам за дивный подарок – „Любовь книга золотая“ (Пьеса А.Н. Толстого. – Л.К.). – Вы должно быть сами не понимаете, какая это полновесная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только Вы один умеете так писать, что и смешно и поэтично.
А полновесная вещь – вот как дети бывают удачно-рожденные: поднимешь его, а он – ой, ой какой тяжелый, три года (?), а такой мясовитый. И глупы все – поэтически, нежно-глупы, восхитительно-глупы. Воображаю, какой успех имеет она на сцене. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в „Литературные записки“ – пускай и Россия знает о Ваших успехах“.
Но желая поделиться радостью с Вашими западными друзьями, Вы могли бы ограничиться этим отрывком. Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозревающий ни о существовании в России Г.П.У. (вчерашнее Ч.К.), ни о зависимости всех советских граждан от этого Г.П.У., ни о закрытии „Летописи Дома Литераторов“, ни о многом, многом другом…
Допустите, что одному из названных лиц после 4 ½ лет „ничего-не-деланья“ (от него, кстати, умер и Блок) захочется на волю, – какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо?
Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу.
Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями – круговая порука ремесла, круговая порука человечности. За 5 минут до моего отъезда из России (11-го мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист, шапочно знакомый, знавший меня только по стихам. – „С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего“.
Жму руку ему и не жму руки Вам.
Марина Цветаева».
Снова, как всегда (как это было при встрече ее с Луначарским, с «коммунистом Заксом», с юным красноармейцем, о котором писала Е. Ланну – об этих сюжетах подробно идет речь в моей книге «„Безмерность в мире мер“. Моя Цветаева») – поверх барьеров – высоко оценивает Марина Цветаева нравственный с общечеловеческой точки зрения поступок «классового противника» и резко осуждает непорядочность человека своего круга.
Правда, Алексей Толстой в то время заявлял о своей приверженности коммунистическим идеалам, но хорошо знающий его Иван Бунин не случайно весьма скептически оценивал уровень искренности подобных деклараций.
Но все это не так важно для нее: Марина Цветаева недвусмысленно оценивает, независимо от политических взглядов человека, поступки.
Той жизни, о которой гневно напоминает Марина Ивановна в этом письме, Сергей Яковлевич не застал – в отличие от нее, он ни дня не прожил в Советской России до своего отъезда на родину.
И насколько радостно было ему читать оптимистическую, обнадеживающую часть письма Пастернака, настолько не хотелось вдумываться в страшное, настораживающее, тревожащее, хотя Борис Леонидович писал и ему не только о светлом.
«Я пишу Вам в состоянии очередного упадка. Были встречи, слышал глупости, видел мерзости, видел одаренных людей, которые преждевременно впадают в детство. Видел вчера новую кинематографическую картину талантливого режиссера, автора „Броненосца Потемкина“ (Сергея Эйзенштейна. – Л.К.) на тему „Октябрь“. Режиссер и оператор рослые, светлые, молодые, хорошо сложенные, достойные люди.
Был просмотр для литераторов, для печати. Были лефовцы, были все, для кого сделана картина. По просмотре из зрительного хлынули толпой в другой зал, вроде фойе. По смежности находилась темная каморка. В ней скрывались оба автора фильма. В зале толпились люди, похвалы которых были обеспечены. Черт их дернул, постановщиков, зазвать, кажется, первым меня в эти взволнованно-именинные потемки. „Вы нам скажете правду, как еще ее услыхать“.
Они стояли торжествующие, молодые, а приходилось говорить им безнадежные неприятности. Но зато и беспардонна нравственная сторона картины. И это – история?! Все, что не большевики – пошлая карикатура…» (1928, 6 марта).
Как хотелось Сергею Эфрону думать, что все мрачное преувеличивается Борисом Леонидовичем по его «интеллигентской» впечатлительности! Слишком жаждала душа его пребывать в состоянии энтузиазма и высокой веры. Слишком много разочарований он пережил, и Россия (теперь новая, советская) стала его последней надеждой.
«Сергей Яковлевич принес однажды домой газету – просоветскую, разумеется, – где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями; приборы сверкают; посреди каждого стола – горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках – что? А в головах – что?»
Этот рассказ Марины Ивановны записала в своем дневнике Лидия Корнеевна Чуковская – они встретились в Чистополе в августе 1941 года, буквально за несколько дней до страшного ухода Марины Цветаевой из жизни. Об этой встрече Лидия Корнеевна написала много лет спустя, назвав воспоминание «Предсмертие».
Сергея Эфрона больше не смущает даже та «механизация духа», о которой он с огорчением писал в статье «О путях к России», надеясь «привить к русскому американизму», как он это тогда воспринимал и называл, духовное содержание – «напитать Достоевским». Но теперь он, по собственному признанию, изменился страшно… Искренне поверив, что за новыми людьми Советской России будущее, Сергей Эфрон, похоже, признал за ними и нравственную правоту во всем и не услышал ни предупреждения в письме Пастернака, ни тревожной сути слов Марины: «А в головах – что?»
А Марина Цветаева после выступления Маяковского в Париже (в том же 1928 году) так ответила на вопросы о впечатлениях ее после вечера: «что сила – там». Сила, а не правда…
Перед отъездом за границу в 1922 году она случайно встретила Маяковского и спросила: «Что передать от Вас Европе?» Он ответил (и тогда этот ответ произвел на нее сильное впечатление): «Что правда – здесь!» В ее словах «сила – там» – явная грустная полемика: сила оказалась за неправыми.
Пропасть между Мариной Цветаевой и Сергеем Эфроном ширилась. Но пока что она ощущалась как чисто теоретическая пропасть во взглядах.
Во второй половине 1920-х годов желание Сергея Эфрона вернуться на родину все же было еще, если можно так выразиться, отвлеченно настроенческим и не определяло его повседневного поведения, во всяком случае далеко не так, как в дальнейшем. Он еще долго и трудно бился за свое место во Франции, за возможность работы и жизни в кругу гуманитарных интересов и очень радовался, когда что-то получалось. Но газета «Евразия» больше не выходила, журнал «Версты» вышел всего три раза. Францию сотрясал экономический кризис. Эмигрантам труднее было найти работу, чем французам.
Сергей Эфрон не сдавался. И у Марины Цветаевой в начале 1930-х годов еще оставались надежды, в ее письмах на эти темы ощутима общность забот.
«Вчера – двойная радость: Ваше письмо и поздно вечером возвращение Сергея Яковлевича с кинематографического экзамена – выдержал. Готовился он исступленно, а оказалось – легче легкого.
По окончании этой школы (Pathé) ему открыты все пути, ибо к счастью связи – есть. Кроме того, он сейчас за рубежом лучший знаток советского кинематографа, у нас вся литература, – присылают друзья из России. А журнальный – статейный – навык у него есть ‹…› № „Новой Газеты“ с его статьей выйдет 15-го, – увидите и, если понравится, м. б., дорогая Раиса Николаевна, поможете ему как-нибудь проникнуть в английскую прессу. Тема (Советский Кинематограф) нова: из русских никто не решается, а иностранцы не могут быть так полно осведомлены из-за незнания языка и малочисленности переводов. Повторяю, у Сергея Яковлевича на руках весь материал, он месяцами ничего другого не читает. Другая статья его принята в сербский журнал (но, увы, вознаграждение нищенское). Может писать: о теории кинематографии вообще, о теории монтажа, различных течениях в Советской Кинематографии, – о ВСЕМ, ЧТО КАСАЕТСЯ СОВЕТСКОГО и, вообще, кинематографа.
Но связей в иностранной прессе (кроме Сербии) у нас пока нет.
В эту его деятельность (писательскую) я тверже верю, чем в кинооператорство: он отродясь больной человек, сын немолодых и безумно-измученных родителей (когда-нибудь расскажу трагедию их семьи), в 16 лет был туберкулез, (в 17 лет встреча со мной, могу сказать – его спасшая), – болезнь печени – война – добровольчество – второй взрыв туберкулеза (Галлиполи) – Чехия, нищета, студенчество, наконец, Париж и исступленная (он исступленный работник!) работа по Евразийству и редакторству – в прошлом году новый взрыв туберкулеза. В постоянную непрерывную его работу в кинематографе верить трудно – работа трудная, в физически-трудных условиях. Подрабатывать ею – может. Главное же русло, по которому я его направляю, – конечно писательское. Он может стать одним из лучших теоретиков. И идеи, и интерес, и навык.
В Чехии он много писал чисто-литературных вещей, некоторые были напечатаны. Хорошие вещи. Будь он в России – непременно был бы писателем. Прозаику (и человеку его склада, сильно общественного и идейного) нужен круг и почва: тó, чего здесь нет и не может быть» (Р. Ломоносовой. 1931, 11 марта).
Но проходит несколько месяцев, и…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?