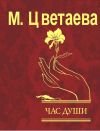Текст книги "Марина Цветаева. Воздух трагедии"
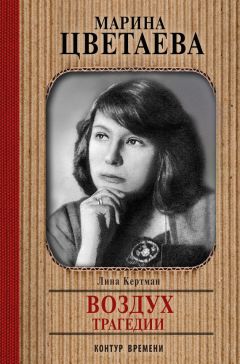
Автор книги: Лина Кертман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Как достойно звучит этот итог! Если бы он стал для Сергея Эфрона окончательным…
Читая такие искренние и выстраданные слова, невозможно представить себе, что человек, их написавший, через несколько лет резко изменит свою позицию и, как горько скажет Марина, «с головой уйдет в Советскую Россию», будет страстно рваться туда, начнет прилагать усилия, чтобы вернуться.
Такой вот грозный крен возник в сюжете «романа о времени и о семье». Как могло случиться такое, во что, зная все предыдущее, почти невозможно поверить? Но здесь необходимо вернуться на несколько лет назад.
Я до сих пор не упоминала об этой истории, сознательно отступив от хронологического принципа, – по моему глубокому убеждению, именно здесь, в этой связи требуется пристальное погружение в те события.
Хотя диалог Марины Цветаевой и Сергея Эфрона еще долго продолжался, и сокровенная близость в восприятии многих вещей объединяла их, и общий мир еще был (он рухнул только в начале 1930-х годов), все же слишком многое необратимо изменилось в их жизни после 1922–1923 годов.
Никогда больше не повторились лирические вечера с чтением Диккенса за освещенным керосиновой лампой столом, с такой теплотой вспоминаемые Ариадной Эфрон годы спустя. Неумолимо близился конец уединенной жизни, о нескончаемости которой еще так недавно Марина молила Бога:
«Я сейчас на внутреннем (да и на внешнем!) распутье, год жизни – в лесу, со стихами, с деревьями, без людей – кончен. Я накануне большого нового города (может быть – большого нового горя?!) и большой новой в нем жизни, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно…» (А. Бахраху. 1923, 28 августа).
В это время семья переехала в Прагу. Алю отправили учиться в гимназию-интернат в Моравскую Тшебову. А Марина пишет: может быть, накануне «большого нового горя»… Какое странное предчувствие! И оно, как это чаще всего бывало с предчувствиями Марины, не обмануло ее.
«Как это случилось? О друг, как это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые я может быть, в первый раз за жизнь слышу ‹…›. Что из этого выйдет – не знаю. Знаю: большая боль. Иду на страдание» (А. Бахраху. 1923, 20 сентября).
В жизнь Марины вошел новый человек. И это оказалось грозно не похожим на все ее прошлые увлечения, мощно питающие ее лирику, но в земной реальности не сопоставимые с незыблемо главным – семьей. Она часто перепосвящала стихи, но об имени Сергея Эфрона писала:
…Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! внутри кольца!
Ты – уцелеешь на скрижалях.
18 мая 1920
«…Потому что это – любовь, а то – романтизм», – давно объяснила она маленькой Але, отвечая на вопрос, почему она гораздо больше ждет письма от Евгения Ланна, чем его самого, а «их Сережу», конечно же, гораздо больше хочет увидеть, чем получить от него письмо.
Об этом же – в письме Максу Волошину в годы долгой разлуки с Сергеем: «О Сереже думаю всечасно, любила многих, никого не любила» (М. Волошину. 1921, март).
Это тонко почувствовал в ней, даже в жару их пылкого эпистолярного романа, Борис Пастернак – он писал, что не верит в значительность «никаких Ланнов», даже если сама она начнет уверять его в обратном, и что для него в жизни Марины всерьез существует только Сергей Эфрон:
«…я Ланнам не придал никакого значенья наперекор твоей документации, наперекор, быть может, и нынешнему твоему возраженью, что у Ланнов есть вес в твоем сердце. ‹…› для меня существует только С. Я. и моя жизнь» (1926, 20 апреля).
И она ответила: «В одном ты прав – С.Я. единственное, что числится» (1926, 28 апреля).
Правда, о герое поэм Горы и Конца Борис Леонидович, уже прочитавший «Поэму Конца» и глубоко потрясенный ею, тактично умалчивает. Видимо, он понял, что в 1923 году, в первый и единственный раз в ее жизни, все было по-другому.
Глубоко понял это и писатель Марк Слоним:
«Это единственный настоящий и трудный, не интеллектуальный ее роман».
А Марина Цветаева писала 22 сентября 1923 года:
«…Я в первый раз люблю счастливого, и может быть, в первый раз ищу счастья ‹…›. Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. ‹…›. Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли ‹…› Милый друг, Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не умела жить ‹…› Люблю Ваши глаза… люблю Ваши руки, тонкие и чуть холодные в руке. Внезапность Вашего волнения, непредугаданность Вашей усмешки ‹…›. Я сказала Вам: есть – Душа, Вы сказали мне: есть – Жизнь. ‹…› Жизнь я могу полюбить только через Вас ‹…› Вы – мое спасение и от смерти и от жизни, Вы – Жизнь.
Господи, прости меня за это счастье!»
Это – из письма герою ее «живого романа» Константину Родзевичу. Он был тогда студентом юридического факультета Карлова университета в Праге, другом Сергея Эфрона. Они познакомились и подружились еще до приезда в Чехию Марины с маленькой Алей.
Годы спустя, вспоминая это время, она писала из Франции своей многолетней чешской корреспондентке Анне Тесковой, что была в «своей» Праге 1923 года «несчастно-счастливой».
В письме А. Бахраху Марина писала о том, что «услышала большие слова», какие, может быть, в первый раз за жизнь слышит.
Как странно звучит это для слуха тех, кто знает многие обращенные к ней за жизнь «большие слова» Сергея Эфрона! Не могла же она их забыть…
Но все дело, думается, в том, что Сергей – ее «одноколыбельник», которому не надо было говорить: «есть Душа», потому что это они оба знали – не был сильным и не был счастливым. Как и она, он терялся и не умел жить в трудной земной жизни. Она не раз говорила в письмах друзьям и до, и после кризиса 1923 года о том, насколько Сергей «не домашний человек», насколько он без нее ничего не может, и что она не имеет права оставить его:
«Думаю о Париже, и вопрос: вправе ли? Ведь я ехала заграницу к Сереже. Он без меня зачахнет, – просто от неумения жить» (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 26 января).
Речь шла о переезде семьи из Чехии в Париж, и Марина сомневалась, вправе ли она выехать туда раньше Сергея, занятого выпускным докторским сочинением.
В его отношении к Марине всегда оставалось что-то детское, это шло от возникшей с самого начала горячей, восхищенной, в чем-то робкой привязанности к ней одинокого, рано осиротевшего мальчика, а в ее отношении к нему – от «круговой поруки сиротства». И Марина Цветаева всегда очень высоко ценила именно такое чувство.
«Боже мой! До чего Аля в своей любви ко мне похожа на Сережу! – Потрясающе! – „Мариночка, когда Вас долго нет, я все боюсь, что Вас автомобиль задавит“, и это: – „Мариночка, погладьте меня по голове!“ ‹…› О – это живой Сережа, его слова!» (Записная книжка. 1919).
Эта тема – робкого восхищения – по касательной затронута и в одном из важных цветаевских писем:
«Я много об этом думала ‹…› всю жизнь. Верность, как самоборение, мне не нужна (я – как трамплин, унизительно). Верность, как постоянство страсти, мне непонятна, чужда ‹…›. Одна за всю жизнь мне подошла. (Может быть, ее и не было, не знаю, я не наблюдательна, тогда подошла неверность, форма ее.) Верность от восхищения. Восхищенье заливало в человеке все остальное, он с трудом любил даже меня, до того я его от любви отводила. Не восхищённость, а восхищенность. Это мне подошло» (Б. Пастернаку. 1926, 10 июля). Эти слова многое объясняют…
Но в ту осень 1923 года жизнь Марины Цветаевой вышла из берегов. Константин Родзевич – человек совсем иного типа, сильный, уверенный в себе, мужественный. К моменту встречи с Мариной Цветаевой он уже многое пережил: в Гражданскую войну воевал сначала на стороне красных, был командиром Нижнеднепровской флотилии, одно время даже был комендантом Одесского порта; затем попал в плен к белым; был приговорен к смертной казни и в последний момент – помилован генералом Я. А. Слащовым (прототип генерала Хлудова в пьесе Булгакова «Бег»). Причина помилования – память об отце Родзевича, военном медике.
«Когда весть о его помиловании доходит до красных, те, в свою очередь, приговаривают Родзевича к смерти. Но вместе с остатками врангелевской армии он переправляется из Крыма в Галлиполи. Там знакомится с Эфроном, оттуда уезжает вместе со многими бывшими белогвардейцами в Прагу. Как и Эфрон, он учится теперь в университете, только на другом факультете – юридическом» (Это сведения из книги Ирмы Кудровой «Марина Цветаева. Годы чужбины»).
В 1930-е годы Константин Родзевич воевал в Испании, во время Второй мировой войны был участником движения Сопротивления во Франции. Любимым его поэтом был Гумилев, о чем Марина Цветаева упомянула в одном из писем с легким огорчением: «Я – не его поэт».
Родзевич не видел в ней большого поэта. Сергей Эфрон всегда, в любых приземляющих тяготах многолетнего совместного быта – видел. Родзевич понял масштаб ее дара только много лет спустя, когда Марины и Сергея давно уже не было на свете. С ним у Марины Цветаевой была простая, земная, взрослая любовь, любовь-страсть (по знаменитой классификации Стендаля в трактате «О любви»). И это открыло Марине новую себя.
«Было тогда настоящее счастье ‹…›. Мы были молоды тогда, было увлеченье, объятья, страсть. ‹…› Мои отношения с Мариной были всегда восторженными, радостными…»; «В ней была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни» (Константин Родзевич. Беседа с Вероникой Лосской. 1980-е). Родзевич видел в ней «пушкинское начало» и был убежден, что, будь жизненные обстоятельства Марины хоть немного мягче, это начало пересилило бы «трагические ноты» в ее поэзии (в его восприятии – только «ноты»!)
Ни один вспоминающий Марину Цветаеву человек не сказал о ней такого – видимо, больше никто и не видел ее такой.
Сама Марина Цветаева позднее не раз писала и говорила, что не любит «просто жизни», что любит жизнь только преображенной в искусстве, но в тот короткий период было по-иному.
Константин Родзевич почувствовал в ней и нуждающуюся в опоре слабую женщину – с ним она в самом деле чувствовала себя такой. Это очень ощутимо в ее письме любимому, в самом тоне его – беззащитно изумленном открывшемуся счастью, такому, какого она не знала раньше; в пронзительной молитве:
«Господи, прости мне это счастье!»
Но в этих словах слышно и предчувствие расплаты: не «продли», не «сохрани» мне это счастье, а – прости за него! Она с самого начала знает, что долгое счастье – невозможно, не суждено.
И начало расплаты – запредельная боль Сергея Эфрона, узнавшего о ее любви. Марина не раз писала о том, что «ее боль началась с его боли».
Сказать об этом он мог только одному человеку на свете – Максу Волошину. Большое письмо Сергея Эфрона к нему, несмотря на то, что оно уже много раз цитировалось в работах Ирмы Кудровой, Виктории Швейцер, Марии Белкиной и других исследователей, необходимо привести здесь. Очень многое открывает и объясняет оно, и не только в пережитом Сергеем Эфроном именно в тот страшный момент, но, по моему глубокому убеждению, бросает свет на все происходящее с ним в следующие годы.
«Дорогой мой Макс,
Твое прекрасное, ласковое письмо получил уже давно и вот все это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, которому я мог бы сказать все, конечно ты, но и тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся, и хотя надежды у меня нет никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость, и полная беспомощность и слепость Марины, жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход – все ведет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели. Марина – человек страстей. Гораздо в большей мере, чем раньше – до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда (теперь так же, как и раньше), вернее всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что – не важно, важно как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном (пожалуй, вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо).
Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая – все обращается в пламя. Дрова похуже – скорее сгорают, получше – дольше. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно. Когда я приехал встретить Марину в Берлин, уже тогда почувствовал сразу, что Марине я дать ничего не могу. Несколько дней до моего прибытия печь была растоплена не мной. На недолгое время. И потом все закрутилось снова и снова. Последний этап – для меня и для нее самый тяжкий – встреча с моим другом по Константинополю и Праге, с человеком ей совершенно далеким, который долго ею был встречаем с насмешкой. Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно. Хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья. Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр., и пр. ядами. Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличиваются, что Марина мне лгать не может и т. д. Последнее сделало явным и всю предыдущую вереницу встреч. О моем решении разъехаться я и сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому. (На это время она переехала к знакомым.) Не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, – я знал, что это так и будет.) Быть твердым здесь – я мог бы, если бы Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой (маленький Казанова) через неделю Марину бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти. Марина рвется к смерти.
Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно.
Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась. Все ее мысли о другом. Отсутствие другого подогревает ее чувство. Я знаю – она уверена, что лишилась своего счастья.
Конечно, до очередной скорой встречи. Сейчас живет стихами к нему. По отношению ко мне слепость абсолютная. Невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг, и жернов на шее. Освободить ее от жернова нельзя, не вырвав последней соломинки, за которую она держится.
Жизнь моя сплошная пытка. Я в тумане. Не знаю, на что решиться.
Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостное „одиночество вдвоем“. Непосредственное чувство жизни убивается жалостью и чувством ответственности. Каждый час я меняю свои решения. М. б. это просто слабость моя? Не знаю. Я слишком стар, чтобы быть жестоким, и слишком молод, чтобы присутствуя отсутствовать. Но мое сегодня – сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что от всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство. Что делать? Если б ты мог издалека направить меня на верный путь! ‹…› Что делать? Долго это сожительство длиться не сможет. Или я погибну. ‹…› В личной жизни это сплошное разрушительное начало. Все это время я пытался, избегая резкости, подготовить Марину и себя к предстоящему разрыву. Но как это сделать, когда Марина из всех сил старается над обратным. Она уверена, что сейчас, жертвенно отказавшись от своего счастья, – кует мое. Стараясь внешне сохранить форму совместной жизни, она думает меня удовлетворить этим. Если бы ты знал, как это запутанно тяжко. Чувство свалившейся тяжести не оставляет меня ни на секунду. Все вокруг меня отравлено. Ни одного сильного желания – сплошная боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои, к‹отор›ые прошли на твоих глазах, я жил м. б. более всего Мариной. Я так сильно и прямолинейно, и незыблемо любил ее, что боялся лишь ее смерти.
Марина сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя – м. б. единственное мое желание. Сложность положения усугубляется еще моей основной чертой. У меня всегда, с детства – чувство „не могу иначе“ было сильнее чувства – „хочу так“. Преобладание „статики“ над динамикой. Сейчас вся статика моя полетела к черту. А в ней была вся моя сила. Отсюда полная беспомощность.
С ужасом жду грядущих дней и месяцев. „Тяга земная“ тянет меня вниз. Из всех сил стараюсь выкарабкаться. Но как и куда? Если бы ты был рядом – я знаю, что тебе удалось бы во многом помочь Марине. С ней я почти не говорю о главном. Она ослепла к моим словам и ко мне. Да м. б. не в слепости, а во мне самом дело. Но об этом в другой раз. Пишу это письмо только тебе. Никто ничего еще не знает. (А м. б. все знают)…» (1923, декабрь).
Все-таки жаль, хотя по-другому и не могло быть, что Марина Цветаева никогда не читала этого письма Сергея Эфрона, может быть, даже не знала о его существовании. Не то чтобы это могло что-то изменить тогда внутри мучительной ситуации, но если бы – разумеется, это фантастическое допущение – она смогла прочесть его много лет спустя, когда написала в своем «завещании» те страшные именно вопиющей несправедливостью слова («У меня никогда не было верного человека») – она услышала бы его поздний ответ…
Это трагическое письмо дает возможность почувствовать то состояние, в каком писал его Сергей Эфрон, и тот неотъемлемый от самого главного в его человеческой сути стержень («Не могу иначе!»), который не позволил ему при всей муке «совместности» в это время оставить Марину.
Ответное письмо Макса Волошина не сохранилось, но то главное, что в нем было сказано, можно понять по благодарному отклику Сергея:
«То, что ты писал о вреде отгораживания и о спасительности любви ко всем и принимания всех через любовь, – мне очень близко. И не так близко по строю мыслей моих, как по непосредственному подходу к людям. Особенно после войны. Весь характер моих отношений с людьми в последние годы – именно таков» (М. Волошину. 1924, конец февраля).
Сергею Эфрону, безусловно, легче было бы в тот момент уйти, чем продолжать быть рядом, постоянно остро ощущая отчуждение Марины и ее любовь к другому. Не ушел. Не смог. Не смог в том высоком смысле, какой они оба придавали этому слову. Но чего ему это стоило… Об этом нельзя забывать, иначе невозможно понять все дальнейшее.
Мне приходилось слышать грубоватую реакцию на все это: чтобы оттого, что жена изменила, мужчина до такой степени утратил почву под ногами (вариант – потерял себя!). Но так можно говорить, только не зная их начала и всей неповторимой истории любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.
Был ли он прав в оценке ситуации, когда утверждал, что герой – «маленький Казанова» – через неделю бросил бы Марину? Трудно сказать. Сама Марина всю жизнь была убеждена в обратном – в том, что «счастье было так возможно, так близко…», что она, как пушкинская Татьяна, отказалась от счастья, оставшись верной всю жизнь руководившему ею «протестантскому долгу» (об этом она писала во многих письмах друзьям годы спустя).
Разные, часто противоречащие одно другому отзывы сохранились о Константине Родзевиче (Многие из них приведены в книге Ирмы Кудровой «Путь комет»).
«Этот человек был абсолютной противоположностью Сережи: ироничный, мужественный, даже жестокий. К Марине он большого чувства не питал, он ее стихов не ценил и даже, вероятно, не читал» (Алексей Эйснер. Беседа с Вероникой Лосской).
«Это был приятный, милый молодой человек. Умный? Не знаю» (Марк Слоним. Беседа с Вероникой Лосской).
Доброжелательнее многих отозвалась о Константине Родзевиче в своих воспоминаниях Ариадна Эфрон, и на страницах ее воспоминаний возникает сложный и обаятельный психологический портрет:
«Герой Поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость – с ироничностью, отзывчивость – с небрежностью, увлеченность (увлекаемость) – с легкомыслием, юношеский эгоизм – с самоотверженностью, мягкость – со вспыльчивостью, и обаяние это ‹…› казалось не от века сего, что-то в обаянии этом было от недавно еще пленявшего Маринино воображение XVIII столетия – праздничное, беспечное, лукавое и вместе с тем, и прежде всего – рыцарственное ‹…›.
Он, сквозь годы войн, германских лагерей уничтожения сберегший Маринины письма и автографы Поэм, прислал их в Россию, в цветаевский архив ‹…›. Вот передо мной его фотографии: лицо юноши; лицо бойца республиканской Испании; и – снимок прошлого, 1973 года; сколько лет прошло! сколько – эпох! „Но глаза – глаза твои я вижу: те же…“ Нет, годы не властны над обаянием; не властны они и над благородной памятью сердца; и над мужеством».
Сам Родзевич годы спустя говорил, что во время своего романа с Мариной Цветаевой еще был юношески легкомыслен и не понимал, чего требовали эти отношения, – совсем иного уровня, резко отличающегося от всего, к чему он привык; он понял и оценил все это лишь через много лет.
Но какова бы ни была вряд ли поддающаяся однозначному толкованию «объективная истина» (о том, как развивались бы отношения Марины Цветаевой с Родзевичем, если бы Сергей решился уйти) – важно, что, убежденно видя героя и сюжет по-своему, Сергей Эфрон был потрясен, по его словам, «слабостью, беспомощностью и слепостью Марины», якобы не способной трезво оценить героя и ситуацию. И от этого потрясения (наряду с главным, о котором он сам с мучительной откровенностью сказал в письме Максу Волошину, – о разрушенной вере в то, что «Марина ему лгать не может», что их общий мир свято неприкосновенен, что разлучить их может только смерть) он с ужасом ощутил окончательно уходящую из-под ног почву.
Он привык видеть Марину сильной и зоркой. Он с ранней юности признавал ее духовное старшинство и верил ей. Теперь доверие рухнуло, и в этом – тоже начало будущей трагедии… Как же смог Сергей Эфрон после всего пережитого найти в себе силы, чтобы продолжать жить вместе?
«Как я понимала, Эфрон воспринимал Марину настолько над и вне жизни и вместе с тем был так неразрывно с ней связан, что принятые нормы применять к ней было бессмысленно и не к месту» (Екатерина Рейтлингер-Кист. «В Чехии»).
Очень близки этому восприятию особенного, «большего, чем любовь», отношения Сергея Эфрона к Марине Цветаевой воспоминания Николая Еленева:
«Путешествуя с Эфроном целый месяц в товарном неотапливаемом вагоне из Константинополя в Прагу, в длинные осенние ночи мне довелось слышать не раз от него о Марине ‹…› мне казалось, что я уловил ее духовное существо, каким оно представлялось Эфрону. В отдельных замечаниях, в его голосе, когда он говорил о жене, звучало тихое восхищение. Да, собственно, в этих речах имелась в виду и не жена. Марина, какою ее истолковал Эфрон, ‹…› была кристальною чашею мудрости и писательского дарования. В его рассказах не было ни ходульного восторга, ни малейшего признака пошлого бахвальства. Втайне он безоговорочно признавал превосходство Марины над собою, над всеми современными поэтами, над всем ее окружением. Слепая любовь и всякое обожание вызывают настороженность и подозрение. Но Эфрон меньше всего напоминал человека, терзаемого тоской вожделения. Факел света, который он видел в руках Марины, как я убедился потом, был воистину вручен ей судьбой» (Николай Еленев. «Кем была Марина Цветаева?»).
Боль и тоска звучат в момент кризиса во многих письмах Сергея Эфрона к сестре Лиле, беззащитность и глубокая раненность души ощущаются в каждом слове. И еще в этих письмах – тяга к родному человеку, чье отношение к нему надежно и прочно.
«В Праге мне плохо ‹…› в Россию страшно как тянет. Никогда не думал, что так сильно во мне русское ‹…›. Береги свое сердце. Я тоже берегусь. Нужно дожить до встречи» (Е. Эфрон. 1924, 6 апреля).
Сергей Эфрон всегда был человеком обостренной впечатлительности – и до разразившейся катастрофы. (Именно так оба они – и он, и Марина – называли пережитое в 1923 году).
«Мой дорогой Макс,
Твое письмо пришло в очень черную для меня минуту (м. б. чернее у меня в жизни не было), и то, что именно тогда оно пришло, – было чудом. Было и радостно и растравительно услышать твой голос. О смерти Пра я ничего не знал. И хотя все говорило за то, что она не переживет этих лет, что она не может их пережить, – несмотря на это – известие о смерти застало меня врасплох, и я с письмом в руках, в толпе русских студентов стоял и плакал. Вместе с Пра умерла лучшая часть жизни моей. Так случилось. И вышло так странно: в Праге оказывается несколько человек знали о ее смерти. Но видно нужно было, чтобы я узнал от тебя и именно вчера…» (М. Волошину. 1923, 31 октября).
У Марины Цветаевой с Пра – так молодежь звала мать Макса Волошина – тоже была связана лучшая часть жизни. Они оба нежно любили Макса и его замечательную мать, оба оплакивали ее. Это соединяло – еще одно звено в их «круговой поруке сиротства». Кто еще в эмиграции, далеко от России, знал и помнил Марину времен ее юности, знал ее отца и ее сестру Асю, которую успел родственно полюбить? Многое продолжало глубоко связывать их…
Свое мучительное письмо к Волошину от 22 января 1924 года Сергей Эфрон закончил так:
«Это письмо я проносил с месяц. Все не решался послать его. Сегодня – решаюсь. Мы продолжаем с Мариной жить вместе. Она успокоилась. И я отложил коренное решение нашего вопроса. Когда нет выхода – время лучший учитель. Верно?
К счастью, приходится много работать, и это сильно помогает…»
А через месяц он писал Максу:
«…Сейчас не живу – жду. Жду, когда подгнившая ветка сама отвалится. Не могу быть мудрым садовником, подрезающим ветки заранее. Слабость ли это? Думаю – не одна слабость. Во всяком случае мне кажется, что самое для меня страшное уже позади. Теперь происшедшее – должно найти свою форму. И конечно найдет. Я с детства (и недаром) боялся (и чуял) внешней катастрофичности, под знаком которой родился и живу. Это чувство меня никогда не покидает. Потому, с детства же, всякая небольшая разлука переживалась мною, как маленькая смерть. Моя мать, за все время, пока мы жили вместе, ни разу не была в театре, ибо знала, что до ее возвращения я не засну. Так остро мною ощущалось грядущее. И когда первая катастрофа разразилась – она не была неожиданностью. Это ожидание ударов не оставляет меня и теперь. Когда я ехал к Марине в Берлин, чувство радости было отравлено этим ожиданием. Даже на войне я не участвовал ни в одном победном наступлении. Но зато ни одна катастрофа не обошлась без меня. И сейчас вот эта боязнь катастрофы связывает мне руки…»
Эти болевые признания особенно тяжело читать, зная будущую судьбу Сергея Эфрона… «В последнем случае боюсь не за себя.
Марина слепа именно в той области, в которой я м. б. даже преувеличенно зряч. Потому хочу, чтобы узел распутался в тишине, сам собою (это так и будет), а не разорвался под ударами урагана. Но это ожидание очень мучительно…».
Мучительно – для обоих. О том, как болево – и за себя, и за него – переживала кризис Марина, многое сказано в том большом письме Сергея Эфрона. Есть и ее собственные свидетельства.
«Делаю боль, да, но ТАК страдаю сама, что никакая безмерность радости не зальет. Радуюсь, закрыв глаза и зажав уши, стиснув зубы – радуюсь. (Господи, не очнуться!)» (А. Бахраху. 1923, 29 сентября).
Несколько раз в письмах и дневниковых записях повторила она:
«Моя боль началась с его боли». Момент, когда Сергей все узнал (прямо спросил ее), ужаснул Марину, он был пережит как непоправимая катастрофа – именно это слово звучит в ее записях.
Прямой диалог после этого стал, видимо, невозможен, но если прочитать подряд его и ее записи, сравнительно недавно опубликованные, невольно слышится именно диалог – двух правд.
«Мой недельный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно. Хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья. Нужно было каким-либо образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и пр., и пр. ядами. Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличиваются, что Марина мне лгать не может и т. д.». Это слова из цитированного уже письма Сергея Эфрона Максу Волошину.
«Ошибка С. в том, что он захотел достоверности, и захотев, обратил мою жизнь под веками – в таковую (безобразную явь, очередное семейное безобразие). Я, никогда не изменявшая себе, стала изменницей по отношению к нему». Это запись в дневнике Марины Цветаевой.
О том же – в ранних ее стихах – почти теми же словами:
…Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.
Октябрь.1915
«Право на тайну. Это нужно чтить. Особенно когда знаешь, что тайна – рожденная, с другим рожденная, необходимость и дыхание его. Имена здесь ни при чем. Будь мудр, не называй (не спрашивай)».
И еще – на той же странице ее дневника: «Тайная жизнь – что может быть слаще? (моее!) Как во сне».
Об этой потребности ее души в тайне Сергей Эфрон действительно знал. Но если это горькое понимание вело его к единственно возможному, как ему виделось в тот момент, выводу – необходимости расстаться, то Марина видела это совсем по-иному: «Единственная свобода, которую ты бы мог мне дать, это – не знать. Она у меня отнята ‹…›. Я – на воле. Сна. Тайная я, которую никто не знает. Моя жизнь – и с тобой. Зная меня, ты знал, что я не могу без меня (в другом). Зачем же ты сказал об этом – и назвал?» (Запись в дневнике Марины Цветаевой).
Какой странный упрек! Без Сергея она своей жизни не мыслит, и даже когда случилось непоправимое, она готова на все, только не на расставание с ним – готова с горечью, обреченно отказаться от всего, без чего своей жизни (жизни своей души) прежде не представляла.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?