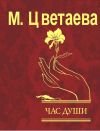Текст книги "Марина Цветаева. Воздух трагедии"
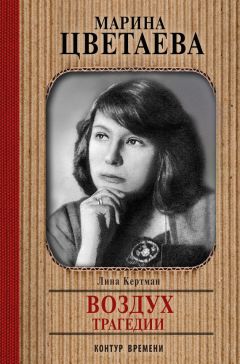
Автор книги: Лина Кертман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В это время Марина уже написала много стихов о рано умершей матери – о памяти, о том, что оставила она дочерям.
Маме
В старом вальсе штраусовском впервые
Мы услышали твой тихий зов,
С той поры нам чужды все живые
И отраден беглый бой часов.
Мы, как ты, приветствуем закаты,
Упиваясь близостью конца.
Все, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца.
К детским снам клонясь неутомимо,
(Без тебя лишь месяц в них глядел!)
Ты вела своих малюток мимо
Горькой жизни помыслов и дел.
С ранних лет нам близок, кто печален,
Скучен смех и чужд домашний кров…
Наш корабль не в добрый миг отчален
И плывет по воле всех ветров!
Все бледней лазурный остров – детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно, грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!
‹1907–1910›
Об отце Марина Цветаева никогда не писала стихов. Она «воскресила» его в прозе, и случилось это гораздо позднее, когда наступило время осмысления его личности и его огромной (может быть, в юности недооцененной) роли в ее жизни и судьбе. Многое важное и в отце (не только в матери) Марина Цветаева почувствовала в юности. Правда, как слишком часто с какой-то горькой закономерностью происходит в жизни, случилось это уже после его смерти. Она и в годы своего счастья много и углубленно думала о рано ушедших родителях, о судьбах их и отношениях.
«…Милый Василий Васильевич,
…Пишу Вам о папе. Он нас очень любил, считал нас „талантливыми, способными, развитыми“, но ужасался нашей лени, самостоятельности, дерзости, любви к тому, что он называл „эксцентричностью“ ‹…› Мама умерла 5-го июля 1906 г. в Тарусе Калужской губернии, где мы все детство жили по летам. Смерть она свою предвидела ясно. – „Теперь начинается агония“. За день до смерти она говорила нам с Асей: „И подумать, что какие угодно дураки вас увидят взрослыми, а я…“ И потом: „Мне жаль только музыки и солнца!“ ‹…› Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко-скрытой ‹…›. Весь дух воспитания – германский. Упоение музыкой, громадный талант (такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью. Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, неласковость (внешняя), безумие в музыке, тоска ‹…›. Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы – музыка, стихи, тоска.
У папы – наука. Жизни шли рядом, не сливаясь. Но они очень любили друг друга. Мама умерла 37-ми лет, неудовлетворенная, непримиренная, не позвав священника, хотя явно ничего не отрицала и даже любила обряды. Ее измученная душа живет в нас, – только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика.
Папа нас очень любил. Нам было 12 и 14 лет, когда умерла мама.
С 14-ти до 16-ти лет я бредила революцией, 16-ти лет безумно полюбила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире.
Напишу Вам о папе.
Он умер 30-го августа 1913 г., от старческой болезни сердца, появившейся в последние годы. Самый последний год он чувствовал нашу любовь, раньше очень страдал от нас, совсем не зная, что с нами делать. Когда мы вышли замуж, он очень за нас беспокоился. Ни Сережи, ни Бориса (первого мужа Анастасии Цветаевой. – Л.К.) он не знал. Сережу он потом полюбил, поверив в его желание высшего образования – это для него было главное. Как людей он не знал ни Сережи, ни Бориса, совсем не знал, кто те, кого мы любим. Алю и Андрюшу он очень любил, очень им радовался и как потом мы узнали, всем о них рассказывал. Но он видел их совсем маленькими, до года. Это ужасно жаль! ‹…› Как странно! Я Вам это расскажу.
Я приехала в Москву числа 15-го августа, сдавать дом (наш дом с Сережей). Папа был в имении около Клина, где все лето прожил в прекрасных условиях. Числа 22-го мы с ним увидались в Трехпрудном, 23-го поехали вместе к Мюру („Мюр и Мерилиз“ – магазин в Москве, названный по фамилии владельцев; теперь в этом здании ЦУМ. – Л.К.) – он хотел мне что-нибудь подарить. Я выбрала маленький плюшевый плед – с одной стороны коричневый, с другой золотой. Папа был необычайно мил и ласков. Когда мы проходили по Театральной площади, сверкавшей цветами, он вдруг остановился и, показав рукой на группу мальв, редко-грустно сказал:
„А помнишь, у нас на даче были мальвы?“ У меня сжалось сердце.
Я хотела проводить его на вокзал, но он не согласился: „Зачем? Зачем? Я еще должен в Музей“.
„Господи, а вдруг это в последний раз?“ – подумала я и, чтобы не поверить себе, назначила день – 29-ое – когда мы с Асей к нему приедем на дачу. Господи, у меня сердце сжимается! – 27-го ночью его привезли с дачи почти умирающего. ‹…› За день – меньше! – до смерти он спросил меня: „А как… твой… этот… плед?“ Господи!
Последний день он был почти без памяти. Умер он в 13/4 ч. дня. Мы с Андреем были в его комнате. ‹…› Умер без священника.
Поэтому мы думаем, что он действительно не видел, что умирает, – он был религиозен. – Нет, это тайна. Теперь уже никогда не узнаем, чувствовал он смерть или нет. Его кончина для меня совершенно поразительна: тихий героизм, – такой скромный! Господи, мне плакать хочется!
Мы все: Валерия, Андрей (дети Ивана Владимировича от первого брака. – Л.К.), Ася и я были с ним в последние дни каким-то чудом: Валерия случайно приехала из-за границы, я случайно из Коктебеля (сдавать дом), Ася случайно из Воронежской губернии, Андрей случайно с охоты.
У папы в гробу было прекрасное светлое лицо…» (В. Розанову. 1914, 8 апреля).
Анастасия Цветаева писала: «Утрата отца, как утрата матери за семь лет до того, легла на дно сердца, влилась в кровь, стала частью нас, жила с нами – и так это продолжалось, не изменяясь, всю нашу жизнь. Во все дни и годы жизненных испытаний память о таком отце, о такой матери говорила в нас полным голосом. Их свойства, их стойкость, их доблесть остались опорой как Марине, так и мне во всем, что пришлось пережить».
А Марина Цветаева писала: «„Трехпрудный“ – в моих вещах – Трехпрудный переулок, где стоял наш дом, но это был целый мир, вроде именья ‹…› и целый психический мир – не меньше, а м. б. и больше дома Ростовых, ибо дом Ростовых плюс еще сто лет» (А. Тесковой. 1936, 20 января).
Ты, чьи сны еще непробудны,
Чьи движенья еще тихи,
В переулок сходи Трехпрудный,
Если любишь мои стихи.
О, как солнечно и как звездно
Начат жизненный первый том,
Умоляю – пока не поздно,
Приходи посмотреть наш дом!
Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.
Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций
Цвета пепла и серебра.
Этот мир невозвратно-чудный
Ты застанешь еще, спеши!
В переулок сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души.
1913
Сергей Эфрон тоже глубоко грустил по утерянному дому своего детства. Он не писал стихов, но грусть эта прорвалась даже в официальном документе – в автобиографии, которую полагалось приложить к заявлению и другим бумагам, подающимся для сдачи экзаменов на аттестат зрелости экстерном (они были поданы им в 1914 году – в гимназию в Феодосии). С первой же фразы автобиография эта явно не соответствует традиционным канонам жанра, никак не предполагающего столь лирической исповедальности. Начало ее очень напоминает первые строки старинного романа:
«Первые детские воспоминания мои связаны со старинным барским особняком в одном из тихих переулков Арбата ‹…›. Это было настоящее дворянское гнездо ‹…›.
Все это принадлежало милому, волшебному, теперь уже далекому прошлому.
При доме был сад с пышными кустами сирени и жасмина, искусственным гротом и беседкой, в разноцветные окна которой весело било солнце. Чуть только начинала зеленеть трава, я убегал на волю, унося с собою то сказки Андерсена, то „Детские годы Багрова-внука“, а позднее какой-нибудь томик Пушкина в старинном кожаном переплете. Я помню огромное впечатление от стихотворения „К морю“. Никогда еще не виденное море вставало передо мной из прекрасных строк поэта, – то тихое и голубое, то бурное.
Я бредил им и всем существом стремился наконец узнать „его брега, его заливы, и блеск, и шум, и говор волн“.
Моим чтением руководила мать. Часто по вечерам она читала мне вслух. Так я впервые познакомился с „Вечерами на хуторе близ Диканьки“, „Повестями Белкина“, „Капитанской дочкой“, „Записками охотника“ и другими доступными моему возрасту образцовыми произведениями русской литературы.
Десяти лет я поступил в 1-й класс частной гимназии Поливанова. Этим заканчивается мое раннее детство ‹…›. В гимназии Поливанова я пробыл пять лет, переболев за это время почти всеми детскими болезнями. Внезапная и почти одновременная утрата родителей окончательно расшатала мое здоровье. Дом продали, – прежняя жизнь рушилась. Разбитый и усталый я выехал в Петербург. Вся моя последующая жизнь – непрерывное лечение.
Обнаруженный у меня петербургскими докторами туберкулез легких требовал немедленного и строжайшего санаторского режима.
Начались скитания по русским и заграничным санаториям.
С утра до вечера, лежа на chaise longque (шезлонг), я читал, думал и главное – вспоминал. Мелькали лица, звенели голоса, из отдельных слов слагались фразы, воскресали целые беседы; вставали сцены недавнего милого прошлого. Понемногу я стал их записывать. Из этих приведенных в порядок воспоминаний составилась книга рассказов „Детство“, вышедшая из печати, когда мне исполнилось 18 лет.
За четыре года моей болезни я читал и перечитывал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Л. Толстого и иностранных классиков. Из русских поэтов моим любимым оставался Пушкин – „России первая любовь“, как сказал о нем Тютчев (у Тютчева: „Тебя, как первую любовь, / России сердце не забудет“. – Л.К.). Из прозаиков больше всего волновали меня Достоевский и Толстой, связанные друг с другом самыми драгоценными свойствами – глубиной и полной искренностью.
С 17 лет я понемногу принялся за подготовку к экзаменам на аттестат зрелости, которые думал держать прошлой весной при Московском Лазаревском Институте Восточных Языков. За месяц до экзаменов мне, однако, по болезни пришлось уехать в Крым. После курса лечения в Ялтинской санатории Александра III и удачно перенесенной операции аппендицита на туберкулезной почве я в настоящее время заканчиваю подготовку на аттестат зрелости».
Как не похоже все это на сухой язык документа! Эти несколько страниц скорее напоминают лирическое эссе: жизнь души, уединенной, пылкой, ранимой, много страдающей, раскрывается здесь так доверчиво, как могло бы быть в письме к близкому человеку. Невольно вспоминается в этой связи сказанное Мариной Цветаевой много лет спустя по другому поводу (в статье о книге С.М. Волконского «Быт и бытие»): «Личность – то, чего не скроешь даже в приходо-расходной книге».
В каком-то смысле, видимо, Сергей Эфрон отнесся к написанию автобиографии как к литературному заданию.
Близость мира Сергея Эфрона, его чувств и воспоминаний, миру юной Марины Цветаевой несомненна: те же любимые с детства книги (много лет спустя Марина Цветаева расскажет о своем восприятии пушкинских «К морю» и Пугачёва из «Капитанской дочки», не раз перечитываемых ею в «досемилетие»); та же склонность к уединению, мечтательность, тайный жар души и острая тоска по навсегда ушедшему и навсегда оставшемуся в памяти опоэтизированным миру своего детства; то же узнавание любимых книг – с голоса матери.
Ощутимо, правда, и существенное различие: маленькому Сереже мать читала, как принято было тогда в российских интеллигентных семьях, «доступные его возрасту образцовые произведения русской литературы» – у нее не было лихорадочной, обгоняющей возраст маленьких дочек, торопливости матери Марины Цветаевой:
«О как мать торопилась, с нотами, с буквами, с „Ундинами“, с „Джэн Эйрами“, с „Антонами Горемыками“, с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот – хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще… Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить – на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, – и даже давила! – не давая улечься, умяться (нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом – впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание – как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь – самое ценное – для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже „все продано“, и за последним – нырок в сундук, где, оказывается, еще – все. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало ‹…›. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики ‹…›. После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом». («Мать и музыка»).
Провидчески ощущая ограниченность отпущенного ей срока, мать Марины и Анастасии спешила дать дочерям многое на будущую жизнь «про запас». Такого трагического предвидения своей судьбы у матери Сергея Эфрона, видимо, не было, но трагедия – свершилась. Близость судеб юных Марины и Сергея с первых дней встречи потрясла обоих: навсегда ранила их души ранняя утрата матерей, разрушенные дома детства и трудное прощание с ними.
Анастасия Цветаева пересказала со слов Сергея Эфрона историю его семьи:
«Мать Сережи, Лили и Веры (у них есть еще сестра Нютя, в Петербурге, старшая, и брат Петя, в Париже, актер) была из рода Дурново, старых дворян. Она ушла из дома семнадцати лет – в революцию.
Партийная кличка ее была „Лиза большая“. Она была членом „Народной воли“ и „Черного передела“ ‹…›. Она была талантлива, образованна, хороша собой. Порвала с семьей по идейным причинам. Встретила прекрасного человека, революционера. У них было много детей, младший из них был Котик, с которым Сережа рос, как росли Маруся (так, а иногда – Муся – называли Марину Цветаеву дома в детстве. – Л.К.) и я. И за год с небольшим до встречи с Мариной Сережа пережил непоправимое горе: трагически погибли Котик и мать, в один день (Котик в 14 лет покончил с собой, мать покончила самоубийством в тот же день. – Л.К.).
На Сережу было нельзя смотреть. Мы не смотрели. Марина, как он, была – живая рана. И страстная тоска по ушедшей – поклонение, трепет, присяга верности его жизни снедали ее».
Острая тоска по прошлому, по ушедшему – в том возрасте, когда совсем не многие молодые люди с такой ностальгией оглядываются назад – очень сближала их. «Все это принадлежало милому, волшебному, теперь уже далекому прошлому», – на такой ноте идет все воспоминание Сергея Эфрона о родительском доме, где, по его словам, протекала «сказочная, несколько замкнутая жизнь».
В очень близкой тональности тосковали по каждому ушедшему мигу – даже еще при жизни матери, вместе с ней (и тем более – потом) – сестры Цветаевы. «И всегдашнее наше, с ранних лет – а помнишь?» (Анастасия Цветаева).
Пожизненность этой раны – потери матери, страшной смерти ее и любимого брата, утраты дома своего детства – остро ощутима в письмах Сергея Эфрона гораздо более позднего времени.
С правдой фактов, однако, в тексте автобиографии С. Эфрона дело обстоит иначе (именно потому, что он все же помнит, что это официальный документ). О многом он умалчивает, оставляя не заполненными даже такие традиционно требуемые в подобных документах графы, как профессия родителей. В написанных десятилетия спустя, когда Сергея Эфрона уже давно не было на свете, воспоминаниях Ариадны Эфрон косвенно проясняется причина этих таинственных умолчаний и открывается гораздо более суровая правда:
«Политические взгляды Елизаветы Петровны (матери Сергея Эфрона. – Л.К.), которой довелось сыграть немаловажную роль в революционно-демократическом движении своего времени, сложились под влиянием П.А. Кропоткина. Благодаря ему она стала – еще в ранней юности – членом I Интернационала и твердо определила свой жизненный путь. Кропоткин гордился своей ученицей, принимал живое участие в ее судьбе. Дружбу между ними прервала лишь смерть ‹…›. В июле 1880-го года Елизавета Петровна была арестована при перевозке из Москвы в Петербург нелегальной литературы и станка для подпольной типографии и заключена в Петропавловскую крепость. Арест дочери был страшным ударом для ничего не подозревавшего отца, ударом и по родительским его чувствам, и по незыблемым его монархическим убеждениям. Благодаря своим обширным связям он сумел взять дочь на поруки; ей удалось бежать за границу; туда за ней последовал Яков Константинович, там они обвенчались и провели долгие семь лет. Первые их дети – Анна, Петр и Елизавета – родились в эмиграции.
По возвращении в Россию жизнь Эфронов сложилась нелегко ‹…›. Состоявший под гласным надзором полиции, Яков Константинович имел право на должность страхового агента – не более ‹…› малый оклад едва позволял содержать – кормить, одевать, учить, лечить – все прибавлявшуюся семью ‹…›.
В конце 90-х годов Елизавета Петровна вновь возвращается к революционной деятельности. С ней вместе этим же путем пойдут и старшие дети. Яков Константинович все той же работой, все в том же страховом обществе продолжает служить опорой своему „гнезду революционеров“. В часто меняющихся квартирах, снимаемых им, собираются и старые товарищи родителей, и друзья молодежи – курсистки, студенты, гимназисты; на даче в Быкове печатают прокламации, изготовляют взрывчатку, скрывают оружие. Политическая активность Елизаветы Петровны и ее детей-соратников достигла своей вершины и своего предела в революцию 1905 года ‹…›. В лихорадке обысков, арестов, следственных и пересыльных тюрем, побегов, смертельной тревоги каждого за всех и всех за каждого Яков Константинович вызволяет из Бутырок Елизавету Петровну, которой угрожает каторга, вносит с помощью друзей разорительный залог и переправляет жену, больную и измученную, за границу, откуда ей не суждено вернуться.
В эмиграции она лишь ненадолго переживет мужа и только на один день – последовавшего за ней в изгнание младшего сына, последнюю опору своей души.
В пору первой русской революции Сереже исполнилось всего 12 лет; непосредственного участия в ней он принимать не мог, ловя лишь отголоски событий, сознавая, что помощь его старшим, делу старших – ничтожна, и мучаясь этим ‹…›; жажда подвига и служения обуревали его, и как же неспособно было утолить ее обыкновенное учение в обыкновенной гимназии! К тому же и учение, и само существование Сережи утратили с отъездом Елизаветы Петровны и ритм и устойчивость; жить приходилось то под одним, то под другим кровом, применяясь к тревожным обстоятельствам, а не подчиняясь родному с колыбели порядку; правда, одно, показавшееся мальчику безмятежным, лето он провел вместе с другими членами семьи около матери, в Швейцарии, в местах, напомнивших ей молодость и первую эмиграцию.
Подростком Сережа заболел туберкулезом; болезнь и тоска по матери сжигали его; смерть ее долго скрывали от него, боясь взрыва отчаянья; узнав – он смолчал. Горе было больше слез и слов.
В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятенным и глубоко одиноким. Одиночество это разомкнула только Марина».
Эта часть воспоминаний Ариадны Эфрон написана со слов сестры отца Елизаветы Яковлевны (Лили), многое рассказавшей племяннице и подробно ответившей на ее вопросы. (Но в 1914 году Сергей Эфрон, видимо, не счел возможным официально оглашать сведения о членстве родителей в таких организациях, как «Земля и воля» и «Черный передел», а также о бегстве матери за границу после выкупа ее из тюрьмы под залог. Умолчал он не только об этом: ни словом не обмолвился о том, что у него, еще не кончившего гимназию, уже есть жена и маленькая дочь!)
Все это побуждает задуматься об огромной разнице семей Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Иван Владимирович Цветаев – сын священника, глубоко верующий человек, законопослушный, верноподданный. Правда, по-новому задумавшись об отце во взрослые свои годы, Марина внесла в этот как бы само собой разумеющийся для знающих его людей психологический портрет существенные коррективы:
«Если мой отец был верноподданный, то ‹…› пассивно, традиционно, от прирожденного смирения ‹…› и безразличия: безостановочной поглощенности другим: одним. Да и можно ли назвать верноподданным того, кто если и надевал свои ордена, то исключительно чтобы просить за какого-нибудь забранного на сходке студента, которого он и в глаза не видел ‹…›. Такой „монархист“ ‹…› прежде всего – человек. И – только человек!» («Дом у Старого Пимена»).
Безостановочная поглощенность отца совсем другим служением во многом и определила атмосферу дома детства Марины Цветаевой. Тихий, строгий профессорский дом, подвижническая преданность Ивана Владимировича науке (бессонные ночи за письменным столом); долгие трудные годы, самоотверженно посвященные делу воплощения в жизнь заветной мечты о создании в Москве Музея изящных искусств – для просвещения российской молодежи, особенно для бедных студентов, не имеющих возможности ездить за границу. Ради этой цели он отказался от спокойной и благополучной научной карьеры. И Музей был построен вопреки всем препятствиям – ценой здоровья Ивана Владимировича и, может быть, в конечном итоге – преждевременной его смерти.
Через много лет по-настоящему оценит Марина масштаб личности отца и посвятит его памяти очерки «Отец и его музей», «Открытие музея», «Лавровый венок», «Музей Александра III».
И как же далек этот мир от революционного подполья, где долгие годы шла лихорадочная, полная опасностей жизнь родителей Сергея Эфрона, особенно матери, преданной идеалам революции более фанатично, чем отец, который постепенно погрузился в заботы о содержании все увеличивающейся семьи. Какими разными были темы разговоров и споров родителей Сергея и Марины, какие разные страсти обуревали их, как различны были их нравственные установки!
Возможно, это стало одной из причин того беспокойства, с каким Макс Волошин наблюдал быстрое сближение Марины и Сергея и глубокую их с первого часа знакомства эмоциональную захваченность друг другом. Максимилиан Волошин был прежде хорошо знаком с матерью Сергея Эфрона и ясно представлял себе этот контраст.
Не он один, впрочем, был удивлен выбором Марины. Удивлялись, что она нашла в таком юном мальчике, недоучившемся гимназисте, и другие ее знакомые: известный поэт Лев Эллис (влюбленный в Марину и делавший ей предложение), филолог Владимир Нилендер (ему посвящен первый цветаевский сборник «Вечерний альбом»). Ее же, в свою очередь, удивляла сама постановка вопроса: «точно я выбирала!» – воскликнула она в письме В. Розанову.
Младшая сестра Марины Ася ничуть не была удивлена этим выбором – в те годы она понимала сестру лучше и глубже всех.
Кроме того, она лучше многих поняла и оценила Сергея. Она знала, как душно и тоскливо бывало Марине в академической тишине родительского дома, как рвалась из этой тишины ее мятущаяся душа, сколь бунтарскими порывами бывала она охвачена. Это потом, годы спустя, пронзительно любя весь тот безвозвратно ушедший мир, Марина так тепло писала о нем…
Ася хорошо помнила короткое, но бурное увлечение Марины настроениями молодых революционеров, встреченных в Ялте во время революции 1905 года:
«Но было одно, что уже начало разъединять Марусю и маму: революция. В то время, как мама, прислушиваясь и задумываясь, старалась в этом хаосе высказываний найти то, что ей всего ближе (кровь ее отвращала), Маруся рвалась к по-новому, ей теперь, в тринадцать лет, звучащему – зрелее, чем в ее нервийскую зиму (во время лечения Марии Александровны в Италии, в Нерви, она и ее маленькие дочки познакомились с революционерами-эмигрантами. – Л.К.) революционному движению ‹…›. Над нами жили какие-то люди, фамилия их была Никоновы. Мы не знали их.
Там был юноша-революционер и мать его (ходил слух) – тоже революционерка! У них бывают собрания… Марина рвалась к ним, я это знала и не выдавала ее. ‹…› Кумиры Маруси множились. Лейтенант Шмидт! Как звучало его имя в тот год! Как пылали сердца о черноморском броненосце „Потемкин“, как гулко неслась весть о гибели людей, шедших на смерть! В хаосе споров о том, не за призрак ли бьются люди, не зря ли кладут свои головы, возможен ли переворот в России, возможен ли он и к чему приведет в такой отсталой стране, царской, – как во тьме черноморской ночи, над тьмой смертного приговора светлели в душу Маруси глаза героя, обреченного лейтенанта Шмидта ‹…›.
Неуловимая чуждость начинала реять между мамой и Марусей.
Слушая мамины утверждения, что наилучшей платформой является платформа конституционалистов-демократов, умеренная, бескровная, Марина только крепче сжимала недобрые сейчас губы, и в углах их затаивалась тень насмешки. Там, наверху, не о том говорили! ‹…› Новые друзья появились у Маруси ‹…›. Маруся стала ходить к ним, читать им свои стихи. Фоссы были революционеры.
Маруся ходила меж нас, детей, как ходит раненый зверь. Озираясь, таясь. События прошедшей зимы – Гапон и расстрел рабочих, мирно шедших к царю с иконами (!) и петицией, восстание, судьба Марии Спиридоновой, казнь Шмидта – вошли в нее ранами. Закусив губы, со свойственной ей в случаях увлечения или страдания мало сказать „замкнутостью“, она сторонилась всех движением затравленного. Брезгливо и гневно она подозревала всех (особенно близких – маму, меня и тех, что садились с нами за стол) ‹…› – в желании вмешаться в ее мучения о героях, кумирах, в ее страсть к революции, к ее будущему. В эти часы она отдалялась от мамы ‹…› от всего, что веяло детством ‹…› никогда она еще не была так неровна и резка, как в ту зиму. А вокруг только и слышно, что: забастовка – расстрелы, каторга – „долой царя“, „долой самодержавие“, „провокатор“, „шпик“, „охранка“, „казнь“ и „долой смертную казнь“, и перекрывая маминых Шопена, Шумана, Шуберта, Грига, Моцарта и Бетховена, с детства знакомый хор из „Жизнь за царя“, несутся звуки „Варшавянки“, „Марсельезы“ и по-русски:
Отречемся от старого мира, Отряхнем его прах с наших ног…»
Лишь годы спустя будет вспоминать Марина Цветаева очищенную от «шума времени» музыку матери…
Когда в стране наступило относительное затишье, она, казалось бы, отошла от этих увлечений: кумиров 1905 года в ее душе на много лет сменили новые – Наполеон и сын его – «Орленок».
Больше года она увлеченно занималась переводом пьесы в стихах Эдмона Ростана «Орленок». Отголоски этого увлечения слышны в повести Сергея Эфрона «Детство». Он тогда «всем собой» слушал рассказы Марины о том, что было в разные годы детства и отрочества важно для нее. Сестра Ася, которой Марина читала отрывки своего перевода пьесы, помнит свое потрясение мощной талантливостью их. Этот перевод, к сожалению, не сохранился – Марина уничтожила его, с болью и ревностью узнав, что существует уже перевод Щепкиной-Куперник. Другой ее кумир тех лет – Мария Башкирцева – русская художница, умершая от туберкулеза в Париже в двадцать четыре года. Гораздо больше, чем картинами, она прославилась своим знаменитым тогда дневником. «Дневник Марии Башкирцевой» был в отрочестве одной из любимых книг Марины Цветаевой.
Но в нескольких ее письмах 1908 года еще слышатся отголоски душевных бурь, которые могут удивить всех знающих высказывания и письма зрелой Цветаевой – настолько неожиданными, так не похожими на нее, могут показаться настроения, в них высказанные.
В своем письме В. Розанову в 1914 году Марина Цветаева упоминает о том, что она «с 14-ти до 16-ти лет ‹…› бредила революцией», но это признание еще не дает полного представления о характере этого «бреда». Гораздо более близкое представление дает другое ее письмо того времени:
«Единственно ради чего стоит жить – революция. Именно возможность близкой революции удерживает меня от самоубийства. Подумайте: флаги, Похоронный марш, толпа, смелые лица – какая великолепная картина. Если б знать, что революции не будет, – не трудно было бы уйти из жизни. Поглядите на окружающих ‹…› ну скажите, неужели это люди? ‹…› Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои?» (П. Юркевичу. 1908, 22 июня).
Встреча с Сергеем Эфроном могла всколыхнуть настроения тех лет в ее душе, оживить их. В том же письме Марины Цветаевой В.Розанову о Сергее Эфроне звучит восторженное: «А мать его была красавицей и героиней!» О кровавой стороне этого героизма Марина пока что не задумывается. Это настигнет ее годы спустя…
Одиночество трагически осиротевшего Сергея, по словам Ариадны Эфрон, «разомкнула только Марина». Но и одиночество Марины ТОЖЕ разомкнулось после их встречи.
Они оба пришли к этому счастью из глубокого горя и потому знали ему цену. Они нежно и восторженно радовались друг другу и раскованно делились этой радостью. В стихию счастья Марина Цветаева погружалась с той же страстной безоглядностью, что и в стихию горя:
«…моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренно ‹…›. В Сереже соединены – блестяще соединены – две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом – весь в мать ‹…› Сережу я люблю бесконечно и навеки…» (В. Розанову. 1914, 6 марта).
При чтении «Войны и мира», очарованная поэзией глав о юности Наташи Ростовой, Марина Цветаева была возмущена и даже оскорблена «превращением» толстовской героини, утратившей в финале всю поэтичность. Она называла это «злым чудом». Как бесконечно важно было для нее, что в их с Сережей семье в те годы все по-другому: «Только при нем я могу жить так, как живу – совершенно свободная» (Там же).
Такая Марина – совершенно свободная – живет на страницах юношеской повести Сергея Эфрона «Детство». Впервые я узнала об этой книге из «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой:
«Я помню свое впечатление об этой в 1912-м году вышедшей книге, которое и до сих пор не изменилось ‹…› рассказы талантливы, ярки, остры по наблюдательности и памяти; детская психология передана с огромным теплом, умиляет и восхищает. Детство в старой Москве дано отлично. В рассказе „Волшебница“ автор, 18-летний юноша, дал образ Марины. С нежным тонким юмором подмечены ее характерные, странные в быту черты. ‹…› Я восхитилась и до сих пор восхищена его проникновением в душу Марины, так недавно ему встретившуюся, неподражаемой правдой его психологического анализа – в самом жару его любви к ней».
Я хорошо помню, как меня взволновал тогда (при чтении воспоминаний Анастасии Цветаевой в 70-е годы) сам этот факт: существует, оказывается, «образ молодой Марины», созданный 18-летним Сергеем Эфроном! И так захотелось скорее прочитать повесть мужа Марины Цветаевой, таким симпатичным человеком предстающим в воспоминаниях ее сестры, услышать его живой голос. Но в середине 1970-х годов это было совсем не просто. Книга Сергея Эфрона «Детство» вышла всего один раз – в 1912 году, очень небольшим тиражом, и только в 2016-м мне удалось ее переиздать в Иерусалиме… Ранее, в 1992 году, в журнале «Юность» я опубликовала (со своим предисловием и комментариями) талантливее всего написанную главу этой повести – «Волшебница». Позднее она включалась в несколько сборников воспоминаний о Марине Цветаевой. А в конце 1970-х годов, в один из своих приездов из Перми, где я тогда жила, в Москву, мне удалось (отнюдь не с первой попытки) добиться, чтобы книгу подняли из хранилища Ленинской библиотеки. Помню волнение, с каким взяла ее в руки. На обложке – сказочное название издательства – «Оле-Лукойе». Это была общая идея Марины и Сережи – назвать мифическое, придуманное ими издательство именем персонажа Андерсена. Само имя Оле-Лукойе напоминает об уюте раннего детства (что-то с ним связанное изображено и на обложке), когда любящие взрослые читали детям вслух эти сказки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?