Текст книги "Марина Цветаева. Воздух трагедии"
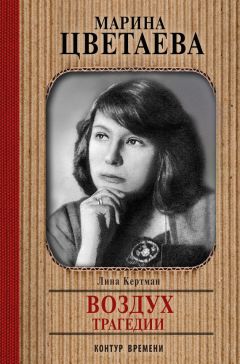
Автор книги: Лина Кертман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Таким мальчишеским задором и особым, порой приходящим именно в «минуты роковые» весельем, охвачены многие молодые герои «Войны и мира» Льва Толстого: «Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие ‹…›, что вообще происходит что-то необычайное, что всегда радостно для молодого человека».
При чтении «Записок добровольца» чувствуется, что в отрочестве, за четыре года своей болезни, Сергей Эфрон действительно не раз перечитывал Толстого, который, наряду с Достоевским, «больше всех прозаиков» волновал его «глубиной и искренностью». Речь здесь, разумеется, не об отвлеченном от жизни академическом литературном влиянии.
Просто, как и тогда, в 1812 году, молодые люди вдруг ощутили, что настают в русской истории «минуты роковые» и им суждено принять активное участие в волнующих событиях, и им – пока что – весело от этого…
Очень похожий взрыв молодого смеха не раз встречаем и в московских тетрадках Марины Цветаевой. Особенно яркий пример – когда она после изнурительно хлопотливого дня уподобила себя «всему семейству Микобер» из романа Диккенса «Давид Копперфильд» и бурно развеселилась. Об особой природе такого – вопреки всему – веселья есть в ее Записных книжках 1918–1921 годов потрясающая запись: после подробного описания загроможденного тяжелейшим бытом дня в разрухе, холоде и голоде – вдруг: «Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, радости от малейшей удачи…»
Так продолжалась их «голосов перекличка»…
«Ко мне подходит прап. Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.
– Ну что, Сережа, на Дон?
– На Дон, – отвечаю я.
Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за мою жизнь. Впереди был Дон…»
Так заканчивается московский очерк Сергея Эфрона – первый в книге «Записки добровольца».
Как спрессовались события в те роковые дни! И проза Сергея Эфрона тоже становится энергичной и быстрой – для лирики теперь почти нет времени и места. Столько людей теснится на этих страницах, и запоминаются даже мимолетно промелькнувшие. Такое ощущение, что автор лихорадочно стремится все зафиксировать, и быстро сменяющиеся кинокадры – Борисоглебский, Арбатская площадь, Никитская, Консерватория, Большая Дмитровка, Александровское училище, Охотный Ряд, Тверская, Кремль, Почтамт, Лубянская площадь – создают для увлеченного и даже, по любимому выражению Марины Цветаевой, «вовлеченного» читателя волнующий «эффект присутствия», потому что это взгляд изнутри. Столь подробного и честного свидетельства активного участника событий тех московских дней никто больше не оставил.
Эти дни стали последним воспоминанием Сергея Эфрона о Москве, по которой он будет тосковать в Праге и Париже. Он не увидит любимых с детства мест ровно двадцать лет. Точнее, он приедет сюда еще один раз – в январе 1918 года – на несколько дней в тайную командировку с Дона. Он рассказал в очерке «1917 год. Декабрь», как возникла идея этой поездки; рассказал, как долго и трудно добирался до Москвы – в очерке «Тиф», но о нескольких днях пребывания в Москве – ни слова.
Вернется Сергей Эфрон через двадцать лет в другую страну, в совсем другой город. Какая милость Судьбы – жить свою жизнь, не зная будущего…
Итак, Сергей Эфрон едет на Дон и вступает в Добровольческую армию, проходит с ней весь тяжелый путь. Очень долго Марина ничего не знает о нем: редкие весточки приходят с большим опозданием (легальным путем тогда невозможно было писать в красную Москву), и в момент их получения судьба воюющего человека вновь оставалась неизвестной.
В 1917 году родилась вторая дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона – Ирина. Аля – их первый ребенок – родилась в 1912 году, и ее самое раннее детство прошло еще в прежней благополучной жизни. Не прожив и трех лет, Ирина умерла от голода в 1920 году в приюте для детей красноармейцев. Марина, оставшись одна с двумя детьми, в это тяжелое время боролась за их жизнь и, почувствовав, что не в силах их прокормить, отдала в приют Алю и Ирину в надежде на спасение (ей сказали, что там хорошо кормят). Но детей там почти не кормили – обворовывали. Аля тяжело заболела. Марина забрала ее, завернула в шубу и долго несла на руках. Алю она спасла. Ирину, в тот момент показавшуюся более здоровой, она оставила в приюте – Марина и физически не смогла бы дотащить двоих, а помощников не было. Младшую дочь спасти не удалось.
Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были – по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.
Но обеими – зажатыми —
Яростными – как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.
Две руки – ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки – и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.
Светлая – на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.
Пасхальная неделя. 1920
Через три года, уже за границей, Марина Цветаева пыталась издать книгу «Земные приметы» по дневниковым записям тех страшных лет. Ей отказывали. Она с возмущением писала: «ПОЛИТИКИ в книге нет: есть страстная правда: пристрастная правда холода, голода, гнева, Года! У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте, – это тоже „политика“ (приют большевистский)».
(Р. Гулю. 1923, 5–6 марта).
И – долгие годы страстного моления за всех сражающихся в белой армии, за их дело… Марина Цветаева была единственным поэтом, ТАК сказавшим о белой гвардии.
Из цикла «Дон»
Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
– Где были вы? – Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: – На Дону!
– Что делали? – Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.
30 марта 1918
В 1920 году Марина Цветаева написала дерзкое стихотворение.
Есть в стане моем – офицерская прямость,
Есть в ребрах моих – офицерская честь.
На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!
Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.
Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ременный кушак.
А зорю заслышу – Отец ты мой родный! —
Хоть райские – штурмом – врата!
Как будто нарочно для сумки походной —
Раскинутых плеч широта.
Все может – какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел…
И что-то от этого дня – уцелело:
Я слово беру – на прицел!
И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
Скрежещет – корми – не корми! —
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.
Сентябрь 1920
После этих стихов в «Лебедином Стане» идет важное цветаевское пояснение (в скобках): «(Эти стихи в Москве назывались „про красного офицера“, и я полтора года с неизменным громким успехом читала их на каждом выступлении по неизменному вызову курсантов)». Она с юмором комментировала эти повторяющиеся эпизоды: курсанты откликались на общий благородный пафос, не понимая «на слух» смысла (на чьей она стороне).
Свое неразрывное родство с Сергеем Эфроном Марина Цветаева обозначила в те годы бескомпромиссно:
С. Э.
Как по тем донским боям, —
В серединку самую,
По заморским городам
Все с тобой мечта моя.
Со стены сниму кивот
За труху бумажную.
Все продажное, а вот
Память не продажная.
Нет сосны такой прямой
Во зеленом ельнике.
Оттого что мы с тобой —
Одноколыбельники.
Не для тысячи судеб —
Для единой родимся.
Ближе, чем с ладонью хлеб —
Так с тобою сходимся.
Не унес пожар-потоп
Перстенька червонного!
Ближе, чем с ладонью лоб,
В те часы бессонные.
Не возьмет мое вдовство
Ни муки, ни мельника…
Нерушимое родство:
Одноколыбельники.
Знай, в груди моей часы,
Как завел – не ржавели.
Знай, на красной на Руси
Все ж самодержавие!
Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всенощной!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.
– Ну-кось, до меня охоч!
Не зевай, брательники!
Так вдвоем и канем в ночь:
Одноколыбельники.
13 декабря 1921
«Все с тобой – мечта моя…» – эта мысль не покидала Марину Цветаеву в холодное и голодное время 1918–1920 годов в Москве.
Об этом знали все близкие ей в то время люди (даже «коммунист Закс», даже красноармеец Борис Бессарабов). Умолчание о своем Сереже она сочла бы предательством. В памятном разговоре с Вячеславом Ивановым, зафиксированном в записной книжке, это тоже прозвучало.
«19-го русского мая 1920 г.
– Вы давно разошлись с мужем?
– Скоро три года. – Революция разлучила.
– Т. е.?
– А так…
(Рассказываю).
– А я думал, что Вы с ним разошлись.
– О нет! – Господи!!! – Вся мечта моя: с ним встретиться!»
Шли долгие годы мучительной ежедневной тревоги за мужа и моления за его жизнь:
С. Э.
Сижу без света, и без хлеба,
И без воды.
Затем и насылает беды
Бог, что живой меня на небо
Взять замышляет за труды.
Сижу, – с утра ни корки черствой —
Мечту такую полюбя,
Что – может – всем своим покорством
– Мой Воин! – выкуплю тебя.
16 мая 1920
Давно ничего не зная друг о друге, Марина и Сергей продолжают жить на одной волне. Еще не читая этих ее стихов, еще не получив первого после разлуки письма Марины, зная только, что оно есть, что она жива (письмо отвез в 1921 году Илья Эренбург, он помог им найтись и встретиться), Сергей Эфрон в своем письме 1921 года сказал о том же самом, о чем Марина Цветаева – пронзительными словами: «нерушимое родство – одноколыбельники».
Процитирую письмо Сергея Эфрона.
«Мой милый друг – Мариночка, сегодня я получил письмо от Ильи Григорьевича, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. – До этого я имел об Вас кое-какие вести от Константина Дмитриевича (К.Д. Бальмонта. – Л.К.), но вести эти относились к осени, а минувшая зима была такой трудной. Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать – мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное – я это твердо знаю – будет. Об этом и говорить не нужно, потому что я знаю – все, что чувствую я, не можете не чувствовать Вы. Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю – сердце замирает – страшно – ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен – не буду об этом. Все годы нашей разлуки – каждый день, каждый час – Вы были со мной, во мне.
Но и это Вы, конечно, должны знать. Радость моя, за все это время ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть), чем постоянная тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче – в марте Вы были живы. О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами – прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части – на „до“ и „после“. „До“ – явь, „после“ – жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю – явь вернется. Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть дневника у меня украли с вещами) – Вы будете все знать, а пока знайте, что я жив, что я все свои силы приложу, чтобы остаться живым, и знаю, что буду жив. Только сберегите Вы себя и Алю…» (1921, 28 июня).
«Все годы нашей разлуки – каждый день, каждый час, – Вы были со мной, во мне…» На высочайшем накале сказано об этом в рассказе Сергея Эфрона о времени добровольчества – «Тиф». Марина Цветаева назвала этот рассказ (в ответах на вопросы анкеты, уже в эмиграции) лучшим из прозы молодых писателей, опубликованной в зарубежных русскоязычных журналах в 1925 году.
В конце 1917 года Сергей Эфрон добрался до Новочеркасска.
Придя в ужас от всего, что увидел там, прежде всего от состояния армии, морального и материального, он предложил изменить способ организации армии. Об этом он подробно рассказал в очерке «Декабрь.1917 г.»:
«Я составил записку, в которой предлагал изменить способ организации нашей не существующей пока Армии, и представил ее в наш „маленький штаб“.
Моя мысль сводилась к тому, что успех дела будет зависеть, главным образом, от кровной связи со всей Россией. Для установления этой связи я полагал необходимым формировать полки, батальоны, отряды, давая им наименования крупных городов России (Московский, Петроградский, Киевский, Харьковский и т. д.) с тем, чтобы эти отряды или полки пополнялись не только добровольцами, но и средствами из этих городов. Таким образом, с самого начала создалась бы кровная связь со всей остальной Россией. В Москве, например, знали бы, что существует московский полк, или отряд, или дивизия, поставившая себе целью свержение большевиков и спасение Родины. Тяга в такой полк была бы гораздо острее, чем в туманную Добровольческую Армию. Собирать средства для такого полка было бы гораздо легче ‹…›. Я до сих пор полагаю, что мысль моя, для того времени и при тех обстоятельствах, была жизненной».
Командование заинтересовалось этим проектом, и Сергей Эфрон был отправлен в тайную командировку в красную Москву, чтобы достать для московского полка денег и, по возможности, пополнить личный состав («Вы ведь коренной москвич, и связи у вас там широкие?»).
Он приезжал в Москву в январе 1918 года – тогда была последняя перед долгой разлукой их встреча с Мариной. В ее записях московских лет есть ТАИНСТВЕННЫЕ слова, что в последний раз она видела Сергея 18 января 1918 года, что когда-нибудь расскажет, где, когда, при каких обстоятельствах, но «сейчас – духу не хватает…». (Это невозможно было «расшифровать» до публикации «Записок Добровольца»).
Из Москвы Эфрон отбыл в Ростов-на-Дону, откуда в ночь с 9 на 10 февраля Добровольческая армия выступила в первый Кубанский поход под командованием генерала Л.Г. Корнилова.
Во время тайной командировки его дорога в Москву очень затянулась.
И вот – разговор в вагоне поезда. Опять в вагоне – как у Марины полгода назад – в том мучительно медленно подходящем к Москве поезде. И в этом совпадении сказалась атмосфера неспокойного времени, когда все в России сдвинулось со своих мест.
Сравним тексты: отрывки из мемуарной прозы М. Цветаевой «Октябрь в вагоне. 1917 г.» и рассказа С. Эфрона «Тиф», события которого относятся к 1918 году.
В поезде к Марине Цветаевой подсаживается толстый военный. «…круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. – „У меня сын в 56-ом полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла“. (Почему-то сразу успокаиваюсь)… „Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!“ (Успокоение мгновенно проходит)… „Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике ли, – лишь бы выдержали!“
Я, не выдерживая: „А у меня муж в 56-ом“. – „Му-уж? Вы замужем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?“ – „Не знаю, как доеду“. – „Доедете! И свидитесь! Да помилуйте, имея такую жену – идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?“ – „Двадцать три“. – „Ну, видите! А вы еще волнуетесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену… Да я и в свои пятьдесят три года и имея вовсе не такую жену…“ (Я мысленно: „в том-то и дело!“)»
«В том-то и дело!» Ее герой – тот, о ком в такие еще недавние и такие уже далекие мирные дни она писала: «В его лице я рыцарству верна!»; тот, кому сейчас, только что, в этом вагоне, из последних сил стараясь верить, что он не погиб в боях на улицах Москвы, она написала: «…главное – Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других…» – именно «имея такую жену», может жить только так – не изменяя рыцарскому началу в себе. И ее внутренняя реакция на слова толстого военного только подчеркивает, как чужды ей люди золотой середины. В ее мире, как и в мире Сергея Эфрона, действуют совсем иные законы.
Их мир – тот, что живет в ее стихах, в его первой повести, в их письмах, в рассказе Сергея Эфрона «Тиф»… Им обоим чужды спокойные, внутренне благополучные, здраво и гладко рассуждающие люди, которые не способны эмоционально откликнуться на роковые минуты истории.
В других очерках «Записок добровольца» Сергей Эфрон выступает под своим именем, но в рассказе «Тиф» он дал герою другое имя. Это явно уже не мемуарная проза, а попытка художественного решения.
«С ним в этот день творилось странное. От солнца ли, или от полубессонной и бредовой ночи, но все вокруг сегодня ему восторженно нравилось. Мастеровой, простоволосая Маруся, бак с кипятком, стук колес, холод. Розовый, иней – все и всё казалось прекрасным. ‹…›
– Ну да, о судьбах. Мы говорили о том, что человек с двумя судьбами рождается. Одна, задуманная творцом, другая – свершающаяся в жизни. Розовый глаза раскрыл и потер лоб недоуменно.
– И что же? – спросила дама.
– И вот для одних судьба первая, главная, остается скрытой до могилы. Изживают они свою вторую, ненужную, суетную. А другие, меньшинство, к тайной, скрытой, задуманной судьбе прислушиваются ‹…›. В отдельных жизнях, и у народов тоже, бывает такое, когда он, человек, или он, народ, сказать про себя может – началось. Главное началось. До этого не жил, а предчувствовал жизнь. До этого кануны, а теперь – свершения. До этого глаза чуть открытые, щелкой на мир, а теперь настежь, в упор и прямо в солнце. До этого дорог тысячи и все чужие, а тут для каждого своя. До этого и люди и вещи – ну как воздух, что постоянно одним давлением неприметно давит, а тут – все по-новому, словно весь мир первозданным на тебя навалился. До этого все цвета в мире тусклы, а здесь ни одного полутона – словно жизнь как луч солнечный через призму пропустили, и она радугой засверкала. Ну, как в детстве и солнце, и небо, и дождь, и города, и каждый встречный, все, все – становится важным, громадным, в глаза лезущим, в сердце вонзающимся. Отсюда-то наша страсть к кровопролитиям, Атиллам, войнам, революциям… Понимаете? понимаете?
Розовый улыбаясь качал головой.
– Не понимаю и не пойму. Пугачев, Разин, Атилла – Богом задуманы? Так, что ли?
– Нет, нет. Ах, Господи! Не в Боге тут дело. Может, дьяволом.
Но горят-то они огнем последним. Ни стихов им не нужно, ни песен, ни романов, ни театра, ни всего искусства. Они сами стихи, сами песня, сами роман, сами искусство. Потом о них писать и петь начнут, а сами они ни в чем не нуждаются, кроме огня собственного. Их огнем питаться будут потомки. Вычеркните из истории войны, революции, Пугачевых, бунтарей и завоевателей – захватчиков и защитников – о чем писать тогда, что любить? Понимаете?
Он посмотрел беспомощно сперва на Розового, потом на даму.
Розовый продолжал улыбаться, а дама, – он не ошибся, нет, не ошибся, – дама поняла. Обрадовавшись и осмелев, он заторопился дальше:
– Я ведь не фантазирую. Я по себе сужу, по тому, что со мной произошло. Не знаю, было у вас такое раньше, – у меня вот всегда было. Главное что-то прийти должно, а пока неглавное, преддверие, сплошное „пока“. И вот „пока“ кончилось. Началось подлинное, сущее, бытие что ли, не знаю, как сказать. Вот жена моя, любил я ее раньше? Скажете – да? Нет, нет, нет. Только теперь полюбил. В вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти.
Только теперь чувствую ее постоянно рядом, не рядом, внутри, в себе, вокруг, всюду» (курсив мой. – Л.К.).
Годы спустя, уже после Гражданской войны, в эмиграции, отвечая на письмо доверившегося ему мало знакомого корреспондента, Сергей Эфрон писал: «То, что Вы пишете о своем чувстве к жене, очень хорошо знаю. Разлука – маленькая смерть: все большое встает в свой подлинный рост, все маленькое отпадает.
Но это чувство болевое и тяжелое, хотя и плодоносное».
Постоянная память о Марине, о ее мире, эмоциональная близость к нему ощутимы едва ли не на каждой странице рассказа «Тиф». Тут и размышления о Пугачеве, с детства горячо и тайно любимом Мариной (правда, любила она Пугачева «Капитанской дочки», противопоставленного в ее работе «Пушкину и Пугачеву» историческому), тут и контраст между героем рассказа, живущим на высокой ноте, и его приземленным собеседником, и еще многое…
«Он даже задыхаться стал, так торопился. А Розовый:
– Итак, по-вашему, Василий Иванович, чтобы полюбить по-настоящему и чтобы землю почувствовать, нужна революция, или война, или еще что, кровавое и разрушительное?
Говорит и пломбой добродушно посверкивает.
– Да нет же. Это для слабых нужно. Это и без революций с другими случается. А иным и революция не поможет. Дети, не все правда, и поэты рождаются такими…» (курсив мой. – Л.К.).
Конечно, автор рассказа думает о Марине: «И поэты рождаются такими…» – без революций! Это звучит в лихорадочном монологе заболевающего тифом героя, сразу после слов его о необычайном времени, выпавшем на его молодость, и это признание бесконечно важно для него. «Это и без революций с другими случается»…
Очень похоже говорит о восприятии жизни людьми их породы героиня романа Пастернака «Доктор Живаго» Лара – над гробом Юрия: «Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала ‹…›.
Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части…» (курсив мой. – Л.К.).
Выделенные курсивом слова очень близки многому, что сказано в письмах Марины Цветаевой, в том числе в письмах Борису Пастернаку. Эта близость глубоко не случайна. Имя Бориса Пастернака еще не раз встретится на страницах этой книги – он занимал огромное место в жизни Марины Цветаевой и многое значил для ее мужа и дочери. В его жизни Марина Цветаева тоже очень многое значила, и во время работы над романом он, безусловно, часто думал о ней. (Подробнее речь об этом пойдет в главе об Ариадне Эфрон, долгие годы своей «голгофы» переписывавшейся с Борисом Леонидовичем).
«Это не по нашей части…» В 1938 году Марина Цветаева будет убежденно оспаривать известные слова Тютчева, на долю которого достались гораздо более спокойные времена: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» – «Вот уж не блажен!»
Любовь к жене герой (и автор) рассказа «Тиф» обозначил так: «в вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти». Марина Цветаева еще в 1914 году сказала в посвященных Сергею стихах:
Я в вечности жена, не на бумаге!
Все это Сергей Эфрон мучительно помнит, он постоянно боится за ее жизнь, как и она – за его. В одном из горячечных видений герой рассказа «Тиф» видит переулок, где их дом: «Московский переулок, кривой, узкий, вензелем выгнулся ‹…›. Он под фонарем тусклым. Крыльцо, дверь войлоком обитая. Под воротами ночной сторож в тулупе спит. Разбудить бы, узнать, как дома. И вдруг сердце сжалось, дышать нечем. Умерла, умерла, умерла, если окно не освещено. Заглянуть надо ‹…›. Окно без стекла, без рамы. Почему? Может, переехала…» Это описание Борисоглебского переулка, графически точное. Там стоял их дом.
Запредельное волнение, когда «сердце сжимается и дышать нечем», испытывала и Марина Цветаева, подъезжая к Москве в октябрьском вагоне, потом – на извозчике к тому самому Борисоглебскому, «кривому, узкому переулку». В другой момент герою рассказа Сергея Эфрона видится в стенке ножом вырезанная надпись: «Маруся. Моя Любовь. Май 11 год» – дата их первой встречи.
Очень многое они чувствовали в те годы похоже. Хотя не все в романтическом монологе героя рассказа «Тиф» близко Марине Цветаевой, есть в нем и глубоко чуждые ей мысли, особенно, думается, вот эта:
«…словно жизнь как луч солнечный через призму пропустили, и она радугой засверкала. Ну, как в детстве и солнце, и небо, и дождь, и города, и каждый встречный, все, все – становится важным, громадным, в глаза лезущим, в сердце вонзающимся.
Отсюда-то наша страсть к кровопролитиям, Атиллам, войнам, революциям (курсив мой. – Л.К.)… Понимаете? понимаете?»
Вот этого – что мир тускл без таких катаклизмов, а во время них начинает сиять особым светом, – и тем более другой мысли героя рассказа: «Вычеркните из истории войны, революции, Пугачевых, бунтарей и завоевателей – захватчиков и защитников – о чем писать тогда, что любить?» – Марина Цветаева никогда (после недолгого подросткового всплеска в 16 лет) не примет.
Но пока что она не зафиксировала внимания на этом важном различии – оно трагически обнажится позже.
Можно ли романтизировать «русский бунт – бессмысленный и беспощадный», как давно сказано Пушкиным?
И все же немало сокровенно близких ей мыслей высказано героем рассказа «Тиф». Например, вот эта: «…другие (меньшинство) к тайной, скрытой, задуманной Судьбе прислушиваются».
Оба они были из прислушивающихся к тайной, еще не выявленной судьбе…
«Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители» (из размышлений Цветаевой в «Земных приметах»).
Именно здесь, пусть очень сильно забегая вперед, хочется еще раз сказать: как бы ни изменил позднее слух Сергею Эфрону, трагически сбившемуся с Богом задуманного пути воплощения своей незаурядной личности, многолетним спутником Марины Цветаевой был в самом деле глубоко родной ей человек.
«Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас. Я знаю, что у меня есть судьба. – Это страшно. – Если Богу нужно от меня покорности – есть, смирения – есть, – перед всем и каждым! – но отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь». Это строки из письма Марины Цветаевой Сергею Эфрону.
Ее письмо весной 1921 года увез за границу Илья Эренбург.
На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.
Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.
Москва, 18 января 1918
Как напряженно ждала она известий! Из записных книжек тех лет:
«Опыт этой зимы: я никому на свете, кроме Али и Сережи (если он жив), не нужна». «Начала ходить в огромных Сережиных высоких сапогах. Ношу их с двойной нежностью: Сережины – и греют».
«Я почти не пишу в этой книжке о Сереже. Я даже его имя боюсь писать. Вот что мне свято здесь, на земле».
«Не плачу при всех. Экспансивна – только в радости, и то не в большой. Если бы, например, Сережа вернулся, я бы – внешне – не сходила с ума».
1 июля 1921 года Марина получила письмо от Сергея (оно уже цитировалось здесь перед рассказом «Тиф») – первое после более чем двухлетнего молчания, мучительной неизвестности и страшных мыслей.
«Радость моя, за все это время ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть), чем постоянная тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче – в марте Вы были живы. – О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами – прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части – на „до“ и „после“. „До“ – явь, „после“ – жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю – явь вернется. ‹…› Надеюсь, что Илья Григорьевич (Эренбург. – Л.К.) вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете, а я ничего из Ваших последних стихов не знаю.
Простите, радость моя, за смятенность письма. Вокруг невероятный галдеж. Сейчас бегу на почту. Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля – последнее и самое дорогое, что у меня есть.
Храни Вас Бог.
Ваш С.
Что мне Вам написать о своей жизни? Живу изо дня в день.
Каждый день отвоевывается, каждый день приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу».
«С этого дня – жизнь», – записала Марина в своей тетради, где вслед за этой записью идет черновик – начало ее ответного письма.
«Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела.
Последние вести о Вас: Ваше письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать… Нет – знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам…»
Благая весть
С. Э.
1
В сокровищницу
Полунощных глубин
Недрогнувшую
Опускаю ладонь.
Меж водорослей —
Ни приметы его!
Сокровища нету
В морях – моего!
В заоблачную
Песнопенную высь —
Двумолнием
Осмеливаюсь – и вот
Мне жаворонок
Обронил с высоты —
Что зá морем ты,
Не за облаком ты!
15 июля 1921
2
Жив и здоров!
Громче громов —
Как топором —
Радость!
‹…›
Стало быть, жив?
Веки смежив,
Дышишь, зовут —
Слышишь?
‹…›
Мертв – и воскрес?!
Вздоху в обрез,
Камнем с небес,
Ломом
По голове, —
Нет, по эфес
Шпагою в грудь —
Радость!
16 июля 1921
«Единственное мое живое (болевое) место – это Сережа.
(Аля – тот же Сережа). ‹…› Люблю только 1911 год, и сейчас, 1920 год (тоску по Сереже – весть – всю эпопею!) ‹…› Но Сережу мне необходимо увидеть, просто войти, чтоб видел, чтоб видела.
‹…› Спасибо тебе, Макс, за Сережу – за 1911 год и 1920 год» (М. Волошину. 1921, 7 ноября).
С. Э.
Не похорошела за годы разлуки!
Не будешь сердиться на грубые руки,
Хватающиеся за хлеб и за соль?
– Товарищества трудовая мозоль!
О, не прихорашивается для встречи
Любовь. – Не прогневайся на просторечье
Речей, – не советовала б пренебречь:
То летописи огнестрельная речь.
Разочаровался? Скажи без боязни!
То – выкорчеванный от дружб и приязней
Дух. – В путаницу якорей и надежд
Прозрения непоправимая брешь!
23 января 1922
«Сережу мне необходимо увидеть…» Но до этого прошел еще целый год – не так-то просто было выбраться из красной Москвы.
И вот – лето 1922 года. Вокзал в Берлине. Год назад Сергей Эфрон в письме сказал: «…еще большим чудом будет наша встреча грядущая ‹…› ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет». И вот – сбылось!
«– Марина! Мариночка! Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий худой человек, и я, уже зная, что это – папа, еще не узнавала его, потому что была совсем маленькой, когда мы расстались, и помнила его другим, вернее, иным, и пока тот образ – моего младенческого восприятия – пытался совпасть с образом этого, движущегося к нам человека, Сережа уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие.
Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез…» (Из воспоминаний Ариадны Эфрон).
На страницах этих воспоминаний мы узнаем того самого, в главном не изменившегося, воспетого и в воспоминаниях Анастасии Цветаевой Сергея Эфрона. Так прошла первая, самая высокая и счастливая, минута их жизни «после России» – на чужбине. Помню, как мы с друзьями, глубоко взволнованные, впервые читали это вслух в начале 1970-х годов.
С тех пор эта сцена стала «классикой» – волнующей, незабываемой сценой из «романа» о жизни Марины и Сергея. К ней обращаются все пишущие о судьбе и творчестве Марины Цветаевой. По силе эмоционального воздействия она сопоставима с великой сценой мировой литературы – в романе «Война и мир», когда после всех тяжелых и страшных испытаний, потерь близких, незнания друг о друге, живы ли, – происходит встреча Наташи Ростовой и Пьера Безухова. И на лице потрясенной Наташи «с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь», появляется улыбка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































