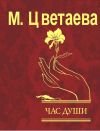Читать книгу "Марина Цветаева. Воздух трагедии"
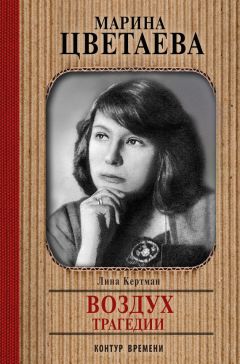
Автор книги: Лина Кертман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Лина Львовна Кертман
Марина Цветаева
Воздух трагедии
Главы ненаписанного романа
Светлой памяти родителей
Льва Ефимовича Кертмана
и Сарры Яковлевны Фрадкиной,
рано ушедших мужа Михаила Копысова
и сына Кости – посвящаю
Проникновение
«Воздух трагедии» – слова самой Марины Цветаевой. Так она могла бы назвать роман о времени, который хотела написать и не написала, потому что задохнулась от его тяжести.
Семья Цветаевых подарила России великого поэта – Марину, зоркого прозаика – Анастасию, их «мраморного братца» – Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве. Талантом были отмечены дети Марины Цветаевой и Сергея Эфрона – Ариадна и Георгий.
Все они любили родину. Она была жестока к ним.
Но роман о времени и удивительной семье все же написан. Его создали сами герои романа. Он соткан из стихов, прозы, дневников, заметок в записных книжках, из писем и воспоминаний. Весь этот мир мысли, слова и страсти надо было сложить в единый сюжет, сложить бережно, с любовью. Это сделала автор книги – Лина Кертман. Она с юных лет проникается поэзией, прозой, жизнью и судьбой Марины Цветаевой и ее близких, друзей и корреспондентов. Лина Кертман – филолог, участница международных научных конференций, посвященных творчеству великого поэта. Но она не пишет научные литературоведческие статьи. Она погружается в текст – и открывает его глубины, тайные смыслы, неожиданные переклички.
Как определить жанр этой книги? Она столь же необычна, сколь необычны ее герои. Марина Цветаева однажды нашла точное слово – проникновение. В своей статье «Несколько писем Райнер Мария Рильке» Цветаева писала: «Вскрыть сущность нельзя, подходя со стороны. Сущность вскрывается только сущностью, изнутри – внутрь, не исследование, а проникновение. Взаимопроникновение. Дать вещи проникнуть в себя – и тем – проникнуть в нее».
Лина Кертман смело и бережно входит в заповедный мир – духовный космос Марины Цветаевой, творческое наследие ее близких, ее круга. И все это переплетается в книге, все освещено любовью. У автора нет, разумеется, желания кого-то «разоблачить» или «уличить». Есть лишь благородное и вдумчивое проникновение – в судьбы, в дух времени, в текст.
Опять же – по слову Марины Цветаевой: «Как река вливается в реку, как рука в руке, но еще больше: как река в реке».
Надежда Гашева
Вступление
«– Надо писать роман, настоящий большой роман. У Вас есть наблюдательность и любовь, и Вы очень умны. После Толстого и Достоевского у нас же не было романа.
– Я еще слишком молода, я много об этом думала, мне надо еще откипеть…
– Нет, у Вас идут лучшие годы. Роман или автобиографию ‹…› как „Детство и отрочество“. Я хочу от Вас – самого большого.
– Мне еще рано – я не ошибаюсь – я пока еще вижу только себя и свое в мире, мне еще многое мешает. ‹…›
– Если писать, то писать большое. Я призываю Вас не к маленьким холмикам, а к снеговым вершинам».
Такой разговор с поэтом Вячеславом Ивановым случился у Марины Цветаевой в ее московском доме в Борисоглебском переулке «19-го русского мая 1920-го года», как обозначено в ее записной книжке.
В тот же вечер Марина Цветаева записала этот диалог. Слова Вячеслава Иванова прозвучали для ее слуха почти как завещание. Этот человек сумел увидеть и почувствовать в ней очень важное и далеко не очевидное тогда людям, даже любящим и понимающим ее стихи.
Предрасположенность к большому роману, не всегда свойственная лирическим поэтам, действительно жила в ней уже в молодости. «Мне необходимо – необходимо – необходимо – роковым образом – на роду написано – написать роман – или пьесу – „Бабушка“, где я не стесняясь, смогу выпустить на волю все свое знание жизни…» – такая запись появляется в записной книжке Марины Цветаевой в 1918 году.
Сколько сюжетов, явно предназначенных для объемного разворачивания, погребено в тетрадях и письмах Цветаевой!
В них оживает Москва 1918–1922 годов: заговорившие улицы (прежде, как Маяковский сказал, «безъязыкие»), разрушенный старый быт и новые нравы, театральные студии, сохраняющие еще прежний богемный стиль ЖИЗНИ, новые чиновники, врывающиеся в дома «уполномоченные» в папахах и юные красноармейцы, смущающиеся порой от напористой жестокости новой власти, страшные детские приюты и смертельный голод. Оживает трагическая история царской семьи, жизни и гибели дома историка Иловайского (в переписке с Верой Буниной история эта предстает с бóльшими фактическими и психологическими подробностями, чем в ограниченном по объему очерке «Дом у Старого Пимена»).
Готовясь к работе над «Поэмой о Царской Семье» (к сожалению, пропавшей – до нас дошло лишь несколько небольших отрывков), Марина Цветаева тщательно изучала разнообразные исторические источники и внимательно сопоставляла их. Она даже жаловалась, что в ней постоянно борются историк и поэт и что в данном случае историк «забил» поэта. Радуясь малейшей возможности уточнить подробности у очевидцев и участников тех трагических событий, Марина Цветаева всегда выделяла и укрупняла в них наиболее волнующее ее – то, о чем в памятном разговоре с В. Ивановым было сказано: «Я больше всего на свете люблю человека, живого человека, человеческую душу…»
Какие тончайшие психологические нюансы она подмечала! Так, после мимолетного, казалось бы, касающегося только уточнения конкретных фактов разговора с А.Ф. Керенским после его доклада в Париже в 1936 году «О гибели Царской Семьи», Марина Цветаева писала: «Руку на сердце положа, скажу: невинен. По существу – невинен. Это не эгоист, а эгоцентрик, всегда живущий своим данным ‹…› Открыла одну вещь: Керенский Царем был очарован ‹…› и Царь Керенским был очарован, ему – поверил. Царицы Керенский недопонял: тогда – совсем не понял: сразу оттолкнулся (как почти все!), теперь – пытается, но до сих пор претыкается о ее гордость – чисто династическую, которую, как либерал, понимает с трудом.
Мой вывод: за 20 лет – вырос, помягчал, стал человеком. ‹…› сердце – хорошее» (А. Тесковой. 1936, 19 марта). Анна Тескова – чешская писательница, переводчик, педагог, многолетняя корреспондентка Марины Цветаевой.
И любой сюжет цветаевской прозы, в том числе эпистолярной, касается ли он чтения страниц Пушкина, Диккенса, Достоевского, или живых встреч с самыми разными людьми, или бесед с маленькой дочкой, или воспоминаний о детстве, ее романов в письмах, или земной страстной любви, – все обретает под ее пером новые и часто неожиданные смыслы и углубляет традиционно сложившиеся представления. И как многого еще она не досказала! Как не случаен вырвавшийся у нее однажды возглас: «Когда я гляжу на свои словари и тетради, мне хочется расположиться на этом свете еще на сто с лишним лет» (Записная книжка, 1919).
Все это убеждает, что если бы, вняв ее мольбе, Бог послал ей «сад на старость лет», Марина Цветаева непременно написала бы свой роман о Поэте и Времени, о судьбах России и о любви, как успел это сделать ее «брат в четвертом измерении» – Борис Пастернак. К нашему общему горю, этого не случилось.
Но КОНСПЕКТ РОМАНА создан, и есть в его создании что-то от чуда. Сила притяжения личности Марины Цветаевой оказалась настолько мощной, что вместе с ней его писали многие связанные с нею жизнью и судьбой люди – самые далекие и самые близкие.
И получился «конспект» романа-воспоминания и романа в письмах, романа психологического и философского, временами достигающий такого трагического накала, что многие перипетии его были бы под силу разве что перу Достоевского…
Та трещина мира, о которой Генрих Гейне, всю жизнь любимый Мариной Цветаевой, сказал, что она «всегда проходит через сердце поэта», в этом «романе» прошла и через сердце семьи. В семье гениального поэта Марины Цветаевой – редкий случай! – и муж, и дочь, и сын были людьми литературно одаренными и о многом поведали на достойном уровне. «Семья наша из литературы не выходит», – писала Ариадна Эфрон младшему брату Георгию, по-домашнему – Муру (Г. Эфрону. 1941, 4 апреля).
Жизнь семьи – эмоциональная, интеллектуальная, творческая – предстает в написанном ими. Предстает с самого создания семьи в 10-е годы, когда еще не начался «не календарный / Настоящий Двадцатый Век», как сказала о том времени Анна Ахматова; в последующие 20-е, когда после Гражданской войны и долгой разлуки Марина Цветаева и ее муж Сергей Эфрон встретились уже в эмиграции, далеко от России; и в 30-е, когда «век-волкодав» (определение Осипа Мандельштама) со всей страшной силой кидался на их плечи. Жизнь эта отражена в разных «зеркалах». И в счастье, особенно в ранних стихах Марины Цветаевой, и в повести Сергея Эфрона «Детство», сохранившей живой облик юной Марины. И в испытаниях разлукой – в «Записках добровольца» Сергея Эфрона, в посвященных ему в эти годы стихах Марины Цветаевой, в ее записных книжках. И в горе – в письмах Сергея и Марины, в ее прозе 30-х годов, где звучат мука отчуждения и резкое несогласие с выбранным им путем. Но вопреки всему и над всем этим – глубокая болевая привязанность. И еще целый пласт – то, что оставили нам дети Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Но о детях – разговор особый…
«Мы бесспорно встретимся – для меня это ясно так же, как и для тебя. Насчет книги о маме я уже думал давно, и мы напишем ее вдвоем», – так писал Георгий Эфрон (Мур) в лагерь своей сестре Ариадне (А. Эфрон. 1942, 7 сентября). Так он заклинал судьбу, после трагической смерти матери забросившую его в чужой далекий Ташкент.
Алю арестовали летом 1939 года, она отбыла в лагерях первый срок (8 лет), и после короткой передышки была вновь арестована 22 февраля 1949 года и приговорена к бессрочной ссылке в Туруханский край. Освобождение пришло к ней только в середине 1950-х годов, когда ни отца, ни матери, ни брата уже не было в живых. Мур погиб на фронте летом 1944 года.
Брат и сестра больше никогда не встретились. Нет их общей книги о матери, о которой так мечтали оба, но есть воспоминания и письма взрослой Ариадны Сергеевны, есть уникальные записи маленькой Али, бережно сохраненные Мариной Ивановной, привезенные ею из Москвы в эмиграцию, а через 17 лет – обратно в Москву, где они чудом сохранились в страшные годы, есть письма и дневники Мура. Сохранилась переписка каждого из героев этой книги не только друг с другом, но и с близкими людьми, с друзьями и знакомыми. И это тоже часть «романа».
Роман в письмах – об этом необходимо сказать особо.
Уважение к частной жизни человека и семьи, к жизни души, вольно открывающейся в письмах, – знак тех времен, когда ветер истории еще не врывался так жестоко в дома и верилось в их защищенность и прочность. Письма – эпически повествовательные (впрочем, эпических писем в мире Марины Цветаевой немного) или исповедальные, горячо эмоциональные или аналитически осмысляющие переживаемое – были для людей их круга, еще глубоко связанных с уходящей культурой, не только наиболее привычным способом общения, но и значительной, очень для них органичной частью жизни, естественным продолжением и воплощением ее. Не включить их в книгу о «трудах и днях» этих людей было бы противоестественно – это чувствуют все пишущие о Марине Цветаевой.
«Мы нескромно читаем письма давно умерших людей, и вот мы вошли в чужую семью, узнали их дела и характеры. Что же? Ведь нет дурного в том, чтобы узнать и полюбить. И застали мы их в дни скорби ‹…› тут-то и легко рождается сердечное участие к людям. А с ними мы выходим на широкую арену истории ‹…› потому что их семейные невзгоды, в которых мы их застаем, так непосредственно связаны с историей эпохи ‹…› что вмешательство общих сил в жизнь личную становится здесь особенно наглядным», – так размышлял о письмах людей ушедшего XIX века автор книги «Грибоедовская Москва» Михаил Гершензон. Речь в его книге идет о войне 1812 года, но слова о «вмешательстве общих сил в жизнь личную» и о «днях скорби», с этим связанных, применимы, разумеется, и к историям жизни многих семей века двадцатого, а в жизнь семьи Марины Цветаевой и Сергея Эфрона эти «общие силы» ворвались с обнаженной жестокостью.
Сохраненные и дошедшие до далеких потомков письма людей другого века М. Гершензон ощущал как чудо, требующее неравнодушного, трепетного к себе отношения: «И вот все, что осталось от ее земного существа, один этот листок! Но в нем она еще и теперь жива, в нем не остыла живая теплота ее чувства. Разве это не чудо? Каждое чувствование человека и каждая мысль есть в своем воплощении как бы дивный организм, и этот организм бессмертен; время может разбить только его материальную форму, но не властно расторгнуть или сделать не бывшим неповторимый строй чувств и идей, который мгновенно и раз навсегда возник в душе человека. Поэтому все золото, какое есть на земле, не может уравновесить цену этого бедного листка почтовой бумаги, бережно несущего чрез века бессмертную жизнь сознания».
Как близок Марине Цветаевой этот взгляд! Ей всегда было очень важно сохранить, спасти от забвения «бессмертную жизнь сознания» и «живую теплоту чувства».
Наша книга состоит из трех частей: «Марина и Сергей», «Мать и сын», «Мать и дочь». В каждой из этих линий жизни Марины Цветаевой, важных, сокровенных, болевых, во всей противоречивости отразился век головокружительных надежд и страшных разочарований, его идеализм и цинизм, ослепление толп и провидческая зоркость немногих, «соблазны кровавой эпохи» (Наум Коржавин) и тяжелое отрезвление от них.
Глава «Мать и дочь» завершает книгу. Голос сына, так много обещавший, оборвался слишком рано… Дочь – последняя из семьи, оставшаяся в живых после гибели брата в 1944 году, посвятила все отпущенные ей судьбой после тяжелейших испытаний годы памяти матери. Говоря словами, сказанными самой Мариной Цветаевой (по другому поводу), Ариадна Эфрон сделала все, чтобы сохранить живую жизнь их семьи на земле – то, что «кончилось, сгорело дотла, затонуло до дна» – поднять со дна собственной памяти и ВОСКРЕСИТЬ.
Семья Марины Цветаевой и Сергея Эфрона собрана здесь «под одной обложкой», разумеется, не в полном объеме – это было бы просто физически невозможно, и какой-то отбор был необходим, но их внутренние переклички и расхождения, их чувства на одной волне и на волнах несовместимо разных, их спонтанные отклики на события и аналитические размышления о них, их суждения о времени, о России, о прошлом, настоящем и будущем, о нравственных постулатах и возможности или невозможности их пересмотра – предстанут здесь как ПОПЫТКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ (по фрагментам) романа о земном доме поэта на ветру времени. Нужно только прочесть его…
Марина и Сергей
«Читающие теперь стихи зрелой Марины Цветаевой уносят с ее страниц трагический образ поэта и женщины, не нашедшей себе в жизни счастья», – так Анастасия Цветаева начала одну из глав своей большой книги «Воспоминания» («Марина, Сережа и Аля».).
В самом деле, многие строки цветаевской ранящей лирики потрясают именно трагедийным накалом.
…Расставание – не по-русски!
Не по-женски! Не по-мужски!
Не по-божески!..
* * *
…О вопль женщин всех времен:
«Мой милый, чтó тебе я сделала?!»
И слезы ей – вода, и кровь —
Вода, – в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха – Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
* * *
…Гора горевала о том, что врозь нам
Вниз, по такой грязи…
* * *
…Я не более чем животное,
Кем-то раненное в живот…
Очень неожиданно прозвучало после всего этого страстное опровержение Анастасии Цветаевой, идущее сразу за ее словами, приведенными выше (о сложившемся читательском представлении о Марине):
«И никто, кроме меня, ее полу-близнеца, не помнит тех лет ее жизни, которые это оспаривают. Но я их помню, и я говорю: Марина была счастлива с ее удивительным мужем, с ее изумительной маленькой дочкой – в те предвоенные годы. Марина была счастлива».
Имя Сергея Эфрона впервые прозвучало в легальной советской печати, когда были опубликованы мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» – эта книга вызвала в годы хрущевской оттепели огромный интерес. Эренбург сказал о муже Марины Цветаевой всего несколько слов: тихий, скромный, приветливый юноша с огромными добрыми глазами… Такой отзыв о человеке, с которым Марина Цветаева прожила всю отпущенную им судьбой жизнь – с венчания в январе 1912 года до ареста Сергея Эфрона в 1939 году (двадцать семь лет) – очень поразил меня тогда явным несовпадением с образами адресатов многих ее лирических стихов:
Было дружбой, стало службой.
Бог с тобою, брат мой волк!
Или
…Тяжело ступаешь и трудно пьешь,
И торопится от тебя прохожий.
Не в таких ли пальцах садовый нож
Зажимал Рогожин?
Совсем другие характеры… Эти стихи мы узнали гораздо раньше, чем стихи, посвященные Сергею Эфрону. С ними нас первая познакомила Анастасия Цветаева в своих «Воспоминаниях».
Мне говорят – ты странный человек —
Другим на диво!
Быть, несмотря на наш двадцатый век,
Такой счастливой!
Не слушая о тайном сходстве душ
И всех тому подобных басен,
Всем говорить, что у меня есть муж.
Что он – прекрасен!
Я с вызовом ношу его кольцо
– Да, в Вечности жена – не на бумаге!
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови. ‹…›
В его лице я рыцарству верна.
– Всем вам, кто жил и умирал без страху. —
Такие – в роковые времена —
Слагают стансы – и идут на плаху.
3 мая 1914
…Анастасия Цветаева дала нам почувствовать редкую атмосферу отношений юных Марины и Сергея в первые годы их любви:
«Волнение ее счастья передавалось мне за нее, радостью! за нее, которая никогда с детства не была счастлива, всегда одинока, всегда – в тоске».
Всю свою долгую жизнь (Анастасия Ивановна прожила девяносто восемь лет) остро и ярко помнила она Марину такой:
«Я никогда во всю жизнь не видела такой метаморфозы в наружности человека, какая происходила и произошла в Марине: она становилась красавицей. Все в ней менялось, как только бывает во сне. Кудри вскоре легли кольцами. Глаза стали широкими, вокруг них легла темная тень. Марина, должно быть, еще росла? И худела.
Ни в одной иллюстрации к книге сказок я не встретила такого сочетания юношеской и девической красоты. ‹…› Я никогда не была красавицей, а Марина была ею лет с девятнадцати до двадцати шести, лет пять-шесть. До разлуки, разрухи, голода».
Анастасия Ивановна считала очень важным, чтобы любящие Марину Цветаеву люди узнали о ней и это.
«Не помню, как в первый раз ‹…› мне сказала Марина о том, кем стал ей Сережа Эфрон и она ему. Мы стояли – Марина и я – под шатром южных звезд ‹…›, и ее слова, как волны о черный берег, луной или фосфором под водой бились о мое одинокое без нее сердце:
– Он чудный, Сережа… Ты поймешь. Мы вечером будем у меня – приходи! Втроем. Ты увидишь! Сестры еле отходили его, когда он узнал о самоубийстве матери и брата. Котик, в четырнадцать лет… Они обожали мать. Она не перенесла. Сережа и Котик росли вместе, как мы. Тоже два года разницы. Он болен, Сережа, – туберкулез. Мы, может быть, скоро уедем отсюда, он не переносит жару… „Мы“. Значит, кончено мое „мы“ с Мариной ‹…› если бы я могла так подумать, я бы сказала: меж Мариной и мной встал Сережа. Но я не могла сказать так. Сережу любила Марина – и он любил ее ответной любовью, и Марина была счастлива ‹…›
Сережа полулежит на ковре, тонкая, чуть смуглая, – болея, он не загорает! – рука привычно отводит со лба темную прядь, и улыбаясь глубокой своей, впитывающей нас улыбкой, радостной, как все, что делает, пьет глотками маленькую чашечку кофе. У него узкое лицо, темный разлет бровей и под ними такие огромные, совершенно невероятные по красоте и величине глаза. Они серо-зеленоватые и сияют добротой и счастьем – быть так любимым, так ценимым, быть сейчас с нами! Его радости хватает и на меня – он и меня в себя принял, он – наш, и мы обе – его, и как совершенно чудесно, что он мне – брат без малейшей смуты. Когда он начинает рассказывать о своем, о матери, брате, с которым рос, как Марина и я, и о другом брате, еще прежде умершем, – я проваливаюсь в это детство – с головой ‹…›
Силы Марининой юности, без меры печальной, все сны ее одинокой дремоты, все собралось воедино: поднять его на руки, победить в нем гнувшую его утрату, дать ему жизнь! Она не сводила с него глаз. Каждый миг с ним было познанье и любованье, все более глубокое погружение в эту душу, самую дорогую из всех. Драгоценную, ни с чем не сравнимую. Это сердце, эта жизнь брала все ее силы, нацело ее поглотив. В его взгляде, на нее устремленном, было все ее будущее. Он никого еще не любил. Он пошел в ее руки, как голубь. Он был тих. Он был отдан мечте, как она. Как она, он любил свое детство. Он утратил мать, как мы. Он рос с братом, как Марина со мной. Он родился в день ее рожденья, когда ей исполнился один год.
В ее стихах он понимал каждую строку, каждый образ. Было совсем непонятно, как они жили врозь до сих пор…»
Этот рассказ сестры Марины Цветаевой глубоко взволновал нас, многое мы увидели по-новому. Говорю о тех нас («про ту среду», как сказал об определенном круге своего поколения Борис Пастернак), в чью жизнь в 1960-е годы так бурно ворвались цветаевские стихи.
Чуть позднее мы прочли в воспоминаниях Ариадны Эфрон:
«…Они встретились – семнадцатилетний и восемнадцатилетняя – 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей – красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым, точнее: радостным!) – с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, – и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, который она хранила всю жизнь, который уцелел и по сей день…»
Но как было совместить это новое знание с такими строками, как:
…Гора говорила, что быть с другими
Нам (не завидую тем другим!)…
Или:
…Как живется, милый? Тяжче ли? —
Так же ли – как мне с другим?
«С другим» – это о ее Сереже? После всего? Как совместить это с неизбывными жалобами ее на внутреннее одиночество, с признаниями в собственной неспособности «жить дома – душой» (в письмах Борису Пастернаку), с горьким лирическим отступлением в «Моем Пушкине»:
«…многое предопределил во мне „Евгений Онегин“ ‹…› и если я ‹…› когда уходили (всегда – уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей».
«Всегда уходили…» – сказать такое, когда всю жизнь был рядом с ней преданный и понимающий ее человек?
«Сережа остался верен ей до конца жизни», – написала Анастасия Цветаева.
Как совместить все это с еще более горестной «попыткой завещания»:
«Мне все эти дни хочется написать свое завещание. ‹…› что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: разъяснение. Свести счеты ‹…› Я дожила до сорока лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Это я бы хотела выяснить. У меня не было верного человека. Почему? У всех есть…» (А. Тесковой. 1934, 21 ноября).
Это письмо надолго повергло меня в тяжелое недоумение – поразило вопиющей, как мне виделось, несправедливостью (особенно остро – в первом чтении). После всего сказанного ею о «чуде встречи», после восторженных писем о Сереже и стихов, ему посвященных, после его писем к ней, после его многолетней преданности – «не было верного человека»? И еще – «у всех есть»…
Неужели Марина Цветаева в самом деле верила в это? А писалось это одинокой женщине (Анна Антоновна Тескова никогда не была замужем).
Очень трудно, даже при всем знании происходящего с ними обоими в драматичной «совместности» (особенно в 1930-е годы), воспринять и осмыслить такую двухполюсность:
«…Сережу я люблю бесконечно и навеки ‹…› Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша!
‹…› Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась, – люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет. Мы никогда не расстаемся. Наша встреча – чудо. Пишу Вам все это, чтобы Вы не думали о нем, как о чужом. Он – мой самый родной на всю жизнь» (В. Розанову. 1914, 7 марта).
А годы спустя: «У меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. ‹…› У меня не было верного человека».
Тяжело размышляя над этим противоречием и в очередной раз перечитывая это письмо, я вдруг увидела в нем то, чего долго не замечала, точнее, на что не обращала пристального внимания, необходимого в этом случае. В том же письме Анне Тесковой после слов о том, что у нее «не было верного человека», Марина Цветаева в сущности сама признает несправедливость только что сказанного:
«Подымаю глаза, совершенно горящие от слез (целые дни!), и сквозь слезную завесу вижу лицо Сигрид Унсет из серебряной рамки: недоумевающее, укоризненное, не узнающее (меня)».
Сигрид Унсет – любимая писательница Марины Цветаевой, ее роман «Кристин, дочь Лавранса» занимал огромное место в жизни поэта (см. об этом в моей книге «Душа, родившаяся где-то. Марина Цветаева и Кристин, дочь Лавранса». М., 2000). Имя Сигрид Унсет в ее восприятии – символ достойного, вызывающего глубокое уважение женского мужества и высокого благородства.
Укоризненное выражение, прочитанное Мариной Цветаевой на ее лице в эту тяжелую минуту нервного срыва, говорит об острых угрызениях совести, испытываемых Мариной, когда у нее невольно вырвались слова вопиюще несправедливые (не только по отношению к мужу, но и к самой себе!), упрощающие трагическую историю их отношений.
Знаменитый постулат Льва Толстого – «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – явно не годится для постижения истории любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Их семья и в счастье, и в несчастье не была похожа ни на какую другую.
Есть рассказ Анастасии Цветаевой о начале их любви, есть воспоминания Ариадны Эфрон об атмосфере жизни семьи в Чехии.
Есть множество мемуаров людей, в разные годы знакомых с их семьей и очень по-разному воспринимающих их отношения. Мне придется не раз обратиться к ним по ходу осмысления этого сюжета. Я остро ощутила явную лакуну: для понимания всего происходившего в семье Марины Цветаевой и Сергея Эфрона в разные годы очень не хватало живого голоса самого Сергея.
Одной из первых заговорила об этом Мария Белкина в книге «Скрещение судеб»: «…при всех ее падениях и взлетах, при всех разочарованиях и увлечениях всегда присутствует Сергей Яковлевич… Он прошел тенью через всю ее жизнь, и мы почти что ничего о нем не знаем».
Публикация «Записок добровольца» Сергея Эфрона в России до 1990-х годов была невозможна. Его юношеская повесть «Детство», о которой с таким восторгом отзывалась Анастасия Цветаева, хоть и была написана до 1917 года, хоть и не содержала (и, естественно, не могла содержать) никаких запретных политических взглядов, тем не менее, оставалась почти недоступной. Сразу оговорюсь, что этот сборник рассказов объединяют очень запоминающиеся герои и общая сюжетная линия, отчего все истории выстраиваются в повесть, и далее я буду говорить об этой книге именно так. Не публиковались и письма Сергея. История запрета на объективный рассказ о его жизненном пути трагически парадоксальна. Сначала такой рассказ о Сергее Эфроне был запретен из-за его белогвардейского прошлого (точнее – разрешалось лишь сказать, что он раскаялся в нем, признав ошибки и вину перед Родиной, но никак не углубляться в его мысли и чувства до этого раскаяния, когда он еще верил в правоту и благородство белой идеи). Позднее, когда вся российская жизнь так кардинально изменилась, что в осмыслении многих и разных (почти всех!) исторических событий и участников их поменялись плюсы на минусы и наоборот, имя Сергея Эфрона стало «сомнительным» по прямо противоположной причине – из-за его связей с ГПУ-НКВД. На смену многолетнему замалчиванию пришли статьи скандально-разоблачительного жанра.
Впрочем, в книгах Виктории Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой», Анны Саакянц «Марина Цветаева. Жизнь и творчество» и особенно в нескольких книгах Ирмы Кудровой – «Версты, дали… Марина Цветаева: 1922–1939», «После России. Марина Цветаева. Годы чужбины», «Путь комет» – рассказано о многом, прежде замалчиваемом. Да и той же Марии Белкиной в книге «Скрещение судеб» (очень ценной как личное свидетельство), несмотря на то, что книга в основном посвящена Марине Ивановне и ее детям, с которыми та была знакома (с Сергеем Эфроном – не была), все же удалось в значительной степени заполнить эту лакуну.
Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы быть первооткрывателем, но хочу сказать, что сейчас, когда и голос Сергея Эфрона зазвучал в полной мере, много нового не столько в фактическом, сколько в психологическом плане. После того как были опубликованы главы из его повести «Детство», его очерки под общим названием «Записки добровольца» и множество писем, а также записные книжки Марины Цветаевой, в которых зафиксированы их живые диалоги, споры и размышления, я была поражена разнообразием, многоцветностью, иногда неожиданностью обсуждаемых ими тем (особенно в юности Марины и Сергея) и тональностью общения. Открылся целый новый пласт, во многом, как мне видится, недооцененный исследователями, ставящими эмоциональное ударение на последнем – трагическом – этапе жизни Сергея Эфрона и на происходящем в их отношениях тогда. При таком акценте последние годы как бы бросают тень на все предшествующие, заставляя видеть и их преимущественно в мрачном свете. Между тем более психологически подробное представление о начале их отношений (возникшее благодаря опубликованным цветаевским записям) открывает нам возможность увидеть и дальнейшее в какой-то степени в новом, не столь ограниченном и от того упрощенном, свете. А главное – дает редкую возможность «выслушать обе стороны», услышать диалог, проходящий через всю их жизнь, осознать, что диалог этот – был. Мне он показал и удивительную их «голосов перекличку» в первые годы, и резкие разногласия позднее, и всегда ощущаемую в этом диалоге глубокую внутреннюю связь и большую эмоциональную зависимость друг от друга – такую, какая бывает только у очень близких людей. И мне захотелось как можно внимательнее вслушаться в этот диалог с самого начала.
Встречу свою на берегу Черного моря в Коктебеле под крылом Макса Волошина юные Марина и Сергей восприняли как чудо, по-новому осветившее всю их жизнь. Каждый из них пришел к этой, оказавшейся во многом роковой для обоих, «несчастно – счастливой» встрече – из своего детства. Известные слова Экзюпери – «Я родом из детства» – мог бы с глубоким основанием – с большим, чем многие другие молодые люди, не так больно и резко со своим детством расставшиеся, – сказать каждый из них.