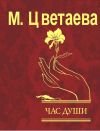Текст книги "Марина Цветаева. Воздух трагедии"
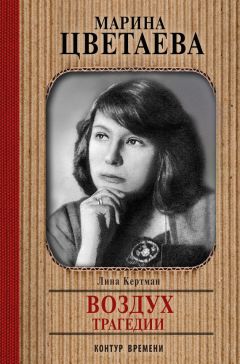
Автор книги: Лина Кертман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«Психее (в жизни дней) остается одно: хождение по душам ‹…›. Сейчас, после катастрофы нынешней осени, вся моя личная жизнь (на земле) отпадает. Ходить по душам и творить судьбы можно только втайне. Там, где это непосредственно переводится на „измену“ (а в жизни дней оно – так) – и получается „измена“. Жить „изменами“ я не могу, явью – не могу, гласностью – не могу. Моя тайна с любовью – нарушена ‹…›. Итак, другая жизнь: в творчестве. Холодная, бесплодная, безличная, отрешенная, – жизнь 80-летнего Гёте. Это: будучи ласковой, нежной, веселой – живой из живых! – отзываясь на все, разгорающейся от всего. Рука – и тетрадь. И так – до смерти. ‹…› Книга за книгой. ‹…› Еще: менять города, дома, комнаты, укладываться, устраиваться, кипятить чай на спиртовке, разливать этот чай гостям. Да, гостям, ибо на другое я не вправе. Никого не любить! Никому не писать стихов! И не по запрету, дареная свобода – не свобода…»
«Никого не любить…» – обреченно пишет она. А рядом – родной, любящий, страдающий человек, живой, молодой, обаятельный (совсем недавно – безмерно обаятельный и в ее глазах), как и она, способный быть ласковым и веселым. На какую же жизнь она при этом обрекает и его?
Он думает об этом – и с болью пишет, что он слишком молод, чтобы, присутствуя, отсутствовать.
«Долго это сожительство длиться не сможет. Или я погибну.
‹…› В личной жизни это сплошное разрушительное начало».
В дневниковых записях Марины после катастрофы вдруг звучит такая резкая переоценка ценностей, что читать это по-настоящему больно:
«Личная жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. днях и местах) не удалась. Это надо понять и принять. ‹…› Причин несколько.
Главная в том, что я – я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных – прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке».
Это написано в Праге в декабре 1923 года, то есть в разгар страстной любви Марины к Родзевичу. А при переписывании тетради десять лет спустя добавлено: «Попросту: слишком ранний брак с слишком молодым». (1933).
Если при чтении многого написанного Мариной Цветаевой в стихах и прозе бывает больно за нее, то в данном случае – больно от нее. Особенно если представить себе Сергея Эфрона, читающего эти строки. Неужели она с ее необыкновенно острой эмоциональной памятью забыла свои чувства в те месяцы перед венчанием, когда ей и ему было так важно их решение – обвенчаться и быть вместе всю жизнь? Попробовал бы тогда кто-то предложить ей изменить решение и остаться с Сергеем просто друзьями! Макс Волошин и пробовал сказать что-то подобное, за что Марина чуть не поссорилась с ним на всю жизнь. Об этом она с юмором вспоминает в своем мемуарном эссе «Живое о Живом», и ясно, что ее только возмутило тогда такое непонимание и неуважение к их чувствам и серьезности решения.
Судя по многому дальнейшему (в их жизни происходящему), – такое, чуть ли не все перечеркивающее – сказано ею все же под влиянием временного настроения. Да и слова «никого не любить» нельзя прочитывать слишком буквально – как признание в нелюбви к Сергею. Необходимо знать ее словарь.
(«У нас разный словарь», – написала она однажды Борису Пастернаку).
Годы спустя, написав в одном из писем к Анне Тесковой: «Я давно уже никого не люблю», она уточняет: «Не о своих говорю – другая любовь, с болью и заботой, искаженная бытом. – Я говорю о любви на воле, о чуде чужого…» (1928, февраль).
Вот это уточнение о само собой разумеющейся для нее «другой любви» в дневниковых записях для себя она просто пропускает.
Глубже и тоньше других почувствовал эту ситуацию, безмерно сложную, никак не укладывающуюся в традиционное представление о «любовном треугольнике», Марк Слоним:
«Она, в сущности, была однолюбом и, несмотря на увлечения и измены, по-настоящему любила одного лишь Сергея Эфрона, своего мужа…».
Написал он и о Родзевиче:
«Полюбила она его очень. Были очень близкие отношения, настоящая и трудная любовь. Трудная из-за ее лояльности к мужу, к которому она питала любовь, всякую, и женскую, и материнскую… Она была ему верна всегда, даже когда была неверна физически».
Это тонкое прозрение подтверждается и тем, что даже на тех горчайших страницах дневника, где сказано, что «личная жизнь не удалась», что впереди «холодная, безличная, бесплодная» жизнь и т. д., Марина Цветаева, в отличие от Сергея Эфрона, даже не обсуждает возможность разрыва и попытки начать другую жизнь. Наоборот, она готова отказаться от всего, но только не от их жизни, без которой своей жизни совсем не представляет.
Той же осенью 1923 года Сергей Эфрон писал своим друзьям Богенгардтам, Всеволоду и его жене Ольге:
«Сейчас вечер. Марина переписывает стихи для журнала. На умывальнике хрипит и шипит испорченный примус, выпуская клубы черного благословенного дыма. Кипит кастрюля с нашим ужином. Смесь всех плодов земных и не – земных – секрет Марининой кухни» (Цитируется по книге Виктории Швейцер «Быт и Бытие Марины Цветаевой»).
Спокойный, умиротворенный тон… Мучительная мысль о разрыве явно ушла из их мира. Дневниковая запись Марины Цветаевой:
«Господи, дай мне на этот Новый Год – написать большую и прекрасную вещь. Больше не знаю о чем (для себя) просить: все остальное – неосуществимо. ‹…› Непременно, непременно, непременно нужно: Поэму Расставания…» (1924).
Две великие поэмы – «Поэма Горы» и «Поэма Конца» – родились из той ее «несчастно-счастливой» любви.
«Видела я героя „Поэмы Горы“ – К.Б.Р. (Константина Болеславовича Родзевича. – Л.К.). Таким – немного таким, только с лицом жестче и темнее – я представляю себе Андрея Болконского.
Но этот человек был тронут крылом польской прохладной пленительности. Невысок, тонок. Обращение Марины с ним было дружески равнодушное, она с ним мало говорила» (Анастасия Цветаева. «Воспоминания»).
Анастасия Ивановна была в Париже и видела Марину с Сергеем в 1927 году. После сюжета «Поэмы Горы» прошло четыре года.
Это была последняя встреча сестер.
Разрыва не произошло. Марина Цветаева и Сергей Эфрон навсегда остались вместе. Но прежние отношения не вернулись: что-то очень важное для обоих, самое сокровенное было непоправимо отравлено, и в каком-то смысле от этого, так тяжело пережитого обоими, кризиса круги расходились все последующие годы, и сыграл он в их жизни и судьбе роль еще более трагическую, чем могло показаться в первое время относительного затишья. До конца жизни продолжая любить Марину, с этого момента Сергей Эфрон никогда уже не «жил больше всего – ею».
Теперь для него становится особенно важным психологическое отгораживание своего пространства. Пропасть между ними при этом расширялась. Он не ушел, но во многом добился разъединения путей. Очень точно сказала об этом прозаик Мария Белкина в книге «Скрещение судеб»:
«Он с головой ушел в политику, она – в поэзию, – две разные державы, два разных подданства…»
Но в живой жизни такое полное разъединение произошло далеко не сразу. Заботы о сыне, родившемся 1 февраля 1925 года, займут огромную часть души Марины Цветаевой на долгие годы – до самого конца ее жизни. Подробнее речь об этом пойдет в главе, посвященной Муру.
Трудно сказать, сблизило ли Марину и Сергея рождение сына.
В иной ситуации это, безусловно, было бы так – ведь еще в первых письмах после обретения друг друга в эмиграции Марина писала, как мечтает о сыне, обещала его Сергею. Впрочем, если эта радость и была поначалу отравлена, постепенно Сергей Эфрон все больше любуется маленьким сыном и гордится им, много пишет о нем в Россию сестре Лиле. Пишет очень живо, с юмором и нежностью, создает яркий психологический портрет маленького Мура.
Теперь голос Сергея Эфрона звучит только в письмах – художественных произведений он больше не напишет. Не потому ли (разумеется, наряду с другими причинами), что эта сфера – «подданство» Марины? В годы безоглядного доверия он с радостью находился в одном с ней «подданстве», теперь – больше не хочет этого.
Некоторые исследователи склонны объяснять отход Сергея Эфрона от литературы несоизмеримостью мощного дара Марины Цветаевой с его обычным талантом, якобы болезненно им переживаемой, унижающей самолюбие и т. д. Я понимаю внутреннюю логику этой версии, но не думаю, что дело в этом. Более того, убеждена, что совсем в другом.
В характере Сергея Эфрона никогда не было никакого, даже в самой малой степени, «сальеризма», он умел горячо, искренне и бескорыстно радоваться талантам. Но он теперь слишком хорошо знал, какими чувствами питается ранящая лирика Марины Цветаевой, и не хотел – не мог быть и дальше зависимым от ее ураганных страстей.
Спасение от этого было одно: выдерживать и в занятиях своих, и в повседневной жизни какую-то дистанцию. И он уходит в другие сферы.
Катастрофа 23-го года, как назвала это сама Марина Цветаева, явно надломила Сергея. Понимала ли она до конца, часто вспоминая годы спустя, что не рассталась с ним, потому что не в силах была строить свое счастье на чужой боли, что произошло с ним после всего пережитого?
Она упорно продолжала направлять его в литературное русло, о чем писала в письмах к друзьям – Раисе Николаевне Ломоносовой и другим, и удивлялась его сопротивлению – ведь раньше он так доверчиво шел за ней… Впрочем, Сергей, видимо, не очень демонстрировал сопротивление, скорее интуитивное, чем ясно осознанное. Может быть, он и сам не желал окончательно расставаться с мечтой – вернуться когда-нибудь к литературной работе. Но в то время он не мог писать.
В воспоминаниях Марка Слонима рассказывается и об этом.
«На посторонних эта пара производила странное впечатление: они говорили друг с другом „на вы“, их отношения казались формальными, их даже трудно было признать товарищескими, каждый оставался в своем углу, работали они в разных и далеких областях и встречались главным образом за семейными трапезами: тут Марина Ивановна выполняла роль домашней хозяйки. Политика, социальное так же безраздельно владели Сергеем Яковлевичем, как слово, поэзия – Мариной. В этом был их коренной разлад и источник непонимания, утаивания и молчания» (Марк Слоним. «О Марине Цветаевой. Из воспоминаний»).
Марк Слоним не знал и не мог знать, что обращение друг к другу «на вы» началось у Марины и Сергея как раз на волне «чуда встречи» и горячей очарованности друг другом. Не знал он и того, что прежде мир слова вовсе не был чужим для Сергея Эфрона, что и в этом мире его когда-то многое объединяло с Мариной. Слоним вообще дружил с Мариной Цветаевой, а Сергея Эфрона видел мало и редко. (Впрочем, даже при этом он тонко и не упрощенно почувствовал главное, так неожиданно назвав Марину Цветаеву «в сущности однолюбом»).
По-иному, гораздо глубже видел их отношения Валентин Федорович Булгаков. Их обращение друг к другу «на вы» он вовсе не воспринимал как знак отчуждения. Правда, он ближе знал обоих еще на прежнем, не таком тяжелом этапе их жизни, но, думается, основная причина большей психологической проницательности В. Булгакова в другом: может быть, этот человек, долго проживший в ауре Льва Толстого (в Ясной Поляне), тоньше воспринимал внутреннюю жизнь семьи – ту неповторимую атмосферу, которая никогда не может быть внятной чужим людям во всей полноте.
Сергей Эфрон не сразу ушел в политику, сначала – в журналистику, в редакторство и в издательские работы. Все острее он тоскует по близким людям, оставшимся в далекой России. Он пишет сестре Елизавете:
«Сообщи мне адрес Веры (другой сестры. – Л.К.) и Макса.
Последний вот уже год, как мне ничего не пишет. Я уже писал тебе, что у меня чувство, что все москвичи меня позабыли. Я знаю, что меж нами лежат годы, разделяющие больше, чем тысячи и тысячи верст. Но все же больно. И напоследок – твое многомесячное молчание» (Е. Эфрон. 1924, осень).
А в 1928 году – ей же:
«Не буду писать тебе, что нахлынуло на меня, когда я стоял у могилы (родителей и брата на парижском кладбище. – Л.К.). Только вот что хочу сказать – кровно, кровно, кровно почувствовал связь со всеми вами. Нерушимую и нерасторжимую. Целую твою седую голову, и руки, и глаза и прошу простить меня за боль, которую, не желая, причинил и причинял тебе. Это будет ужасно, если нам не суждено увидеться! Последние дни все думаю о тебе и очень, очень тревожусь. Береги себя, ради Бога ‹…›. Вспомнилась смерть Пети. Бывала ли ты на Ваганькове?» (1928, 1 апреля).
«…кровно, кровно, кровно почувствовал связь со всеми вами…» – это звучит как заклинание, почти как клятва. В чем?
Это сказано Сергеем Эфроном в момент внутреннего кризиса и коренной переоценки ценностей, когда он начал новыми глазами смотреть на новую Россию и считать свое участие в Белом движении трагической ошибкой. Память о матери, с молодых лет ушедшей в революцию и всю жизнь боровшейся за счастье народа, как она это понимала, всегда была для него священной.
Уходя на Дон защищать Россию, он верил, что служит тем идеалам, в каких был воспитан с детства. Теперь же он все больше укреплялся в мысли, что то, за что боролись его родители, осуществилось в России советской, и что он отступил от их идеалов, участвуя в Белом движении. Сергея Эфрона начинает мучить комплекс вины – перед памятью матери и перед родиной. Мучает и острая ностальгия. Смешавшись, эти преобладающие теперь в душе его чувства образуют тяжелый клубок.
И все более невыносима для него жизнь вдали от родины:
«…была минута, когда я от боли почти не мог дышать, и т. к. я не знал, что со мной, то подумал о смерти. Вот чего я по правде сказать, боюсь ужасно – это не дождаться возвращения» (Е. Эфрон. 1929, 7 марта).
И далее: «Мне бы очень хотелось иметь переснятые карточки нашей семьи. Пришлю тебе на это деньги. Хорошо?»
В этих письмах многое еще созвучно душе Марины: его верность прошлому, память о родных людях (она в конце 1930-х годов, уезжая в СССР, поставила памятник на могиле родителей и брата Сергея). В этом еще был тот Сережа, какого она полюбила в юности.
В одной из своих статей Сергей Эфрон настойчиво призывал тоскующих русских эмигрантов к «творческому вхождению в жизнь Запада», но в его собственной жизни вхождение это, по ряду объективных и субъективных причин, так и не состоялось.
Еще в Чехии Сергей Эфрон в каком-то смысле выделялся из эмигрантской массы особо болевым ощущением духоты той жизни, нервностью и мучительными метаниями в поисках своего места в ней:
«В Праге сосредоточились наиболее культурные люди русской интеллигенции, и чешское правительство всячески шло навстречу нуждам русских беженцев ‹…›. Эфрон вспоминается мне в какой-то мучительной несогласованности всего его внутреннего мира с окружающей обстановкой (хотя многие люди, не менее культурные, как-то сумели найти свое место и встать на ноги). Эфрона, еще до приезда Марины, мы с сестрой воспринимали: „помочь“ (даже не зная, чем и как)» (Екатерина Рейтлингер. «В Чехии»).
Когда Сергей Эфрон оканчивал университет, работы по специальности в Чехии не предвиделось. Большие надежды возлагали и он, и Марина на переезд в Париж: Сергей – на прочное жизнеустройство в новой стране и среде; Марина – на более широкие возможности публикаций и более щадящие условия жизни; а вместе – может быть, на возможность если не вернуть былые отношения, то все же как-то просветлить совместность.
«…еще зимы во Вшенорах не хочу, не могу, при одной мысли – холодная ярость в хребте. Не могу этого ущелья, этой сдавленности, закупоренности, собачьего одиночества (в будке!)…» (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 28 февраля).
«Живу трудно, удушенная черной и мелкой работой, разбито внимание, нет времени ни думать, ни писать ‹…›. Ему необходимо не жить в Чехии, уже возобновился процесс, здесь – сгорит» (Ей же. 1925, 14 августа).
В первое время после переезда во Францию обоим показалось, что какие-то надежды сбываются, и их голоса еще какое-то время звучат в унисон:
«У Марины есть возможность в Париже устраивать свои литературные дела гораздо шире, чем в Праге. Кроме того, здесь есть среда, вернее несколько человек, Марине по литературе близких» (С. Эфрон – В. Булгакову. 1926).
«Марина устраивала свои вечера в Париже в весьма убогом, невзрачном зале. Она читала доклады, стихи. Приходили друзья, но их было так мало! В первом ряду сидели Сергей, Аля, Мур.
Аля вязала шарф. Мур сосал карамельки. Сережа слушал, склонив романтически голову. Все трое чувствовали себя как-то неловко. И все же это была семья Марины; они без нее, как она без них, перестали бы существовать…» (Елена Извольская. «Тень на стенах»).
Сергей Эфрон умел слушать стихи – таких людей в окружении Марины Цветаевой после отъезда из России было не много…
Сам он в какой-то момент поверил, что нашел наконец свое место в этой трудной жизни. Марина надеялась на это вместе с ним, но в глубине души она теперь немного отстраняется от его новых знакомых и новых увлечений, например, евразийством, хотя в период его увлечения театром она с интересом познакомилась с режиссером и литератором Александром Брэйем, сотрудником журнала «Своими путями», бывала на их спектаклях. Отстранение очень слышится в их письмах, там начинают звучать разные, а иногда и резко контрастирующие ноты.
«Познакомился с рядом интереснейших и близких внутренне людей…» (С. Эфрон – В. Булгакову. 1926).
«В Париже у меня друзей нет и не будет. Есть евразийский круг ‹…› любящий меня „как поэта“ и меня не знающий, – слишком отвлеченный и ученый для меня…» (М. Цветаева – А. Тесковой. 1927, 15 января).
И еще – ей же: «Сережа в евразийство ушел с головой. Если бы я на свете жила (и, преступая целый ряд других „если бы“) – я бы наверное была евразийцем. Но – но идея государства, но российское государство во мне не нуждается, нуждается ряд других вещей, которым и служу…» (1927, 21 февраля).
«В порядке действительности и действенности евразийцы – ценности первого порядка. Но есть порядок – над-первый – мой…» (Ей же. 1927, третий день Пасхи).
«Новый год встречала с евразийцами, встречали у нас. Лучшая из политических идеологий, но… что мне до них? Скажу по правде, что я в каждом кругу – чужая, всю жизнь. Среди политиков так же, как среди поэтов ‹…›. Поэтому мне под Новый год было – пустынно» (Ей же. 1928, 3 января).
Сотрудничество в журнале и газетах евразийского направления радовало Сергея Эфрона не только потому, что нашлась интересная работа, которая давала, как показалось в какой-то момент, твердый заработок и возможность кормить семью, но и (может быть, прежде всего) – как выход из внутреннего тупика. Он пылко, как часто бывало, увлекся идеями евразийцев об особом пути России – не «западном» и не «восточном».
«Говорить Эфрон умел и любил – много и интересно ‹…›.
Когда я ездила в Париж, я неизменно посещала их, и меня больно огорчила еще большая неустроенность Марины, горечь и даже озлобление (чего не было в Чехии), работа Али (вместо образования) и недоброжелательность или полнейшее равнодушие к ее судьбе у окружающих. Эфрон много и вдохновенно говорил о „новой эре человечества“, сравнивал с временами первохристианства.
Один из вечеров я провела у „возвращенцев“, с интересом слушала их разговоры…» (Екатерина Рейтлингер. «В Чехии»).
Иногда Сергей Эфрон обращался к сестре в Россию с практическими просьбами, связанными с его издательскими и редакторскими делами:
«Я сейчас занят редактированием небольшого журнала литературно-критического („Своими путями“, издавался в Чехии. – Л.К.). Мне бы очень хотелось получить что-нибудь из России о театре, о последних прозаиках и поэтах, об академическо-научной жизни. Если власти ничего не будут иметь против, попроси тех, кто может дать материал в этих областях, прислать по моему адресу. Все будет хорошо оплачено. Очень хотелось бы иметь статью о Студии (Третьей Вахтанговской. – Л.К.), Камерном театре, Мейерхольде. С радостью редакция примет стихи и прозу. Поговори с Максом и Антокольским, может быть, они дадут что-нибудь.
Может быть, ты напишешь о театре или о покойном Вахтангове ‹…›. Сообщи мне немедленно, могу ли я чего-нибудь ждать. Журнал чисто литературный» (Е. Эфрон. 1924, осень).
«Мне предложили здесь редактировать – вернее, основать – журнал – большой – литературный, знакомящий с литературной жизнью в России („Версты“. – Л.К.). И вот я в сообществе с двумя людьми, мне очень близкими, начал. Один из них – лучший сейчас здесь литературный критик Святополк-Мирский, другой – теоретик музыки, бывший редактор „Музыкального Вестника“ – человек блестящий – П.П. Сувчинский. На этих днях выходит первый №. Перепечатываем ряд российских авторов. Из поэтов, находящихся в России, – Пастернак („Потемкин“), Сельвинский, Есенин. Тихонова пока не берем. Ближайшие наши сотрудники здесь – Ремизов, Марина, Л. Шестов. Мы берем очень резкую линию по отношению к ряду здешних писателей, и нас, верно, встретят баней. В то же время я сохранил редактирование и пражского журнала. Но, увы, эта работа очень не хлебная» (Ей же. 1926, 4 апреля).
В 1928–1929 годах Сергей Эфрон работал в редакции еженедельника «Евразия» и сам продолжал писать.
«На днях вышлю тебе свою статью во французском журнале о Маяковском, Пастернаке и Тихонове. Пошлю одновременно Пастернаку. Для французского журнала (не коммунистического) это максимальная левизна» (Ей же. 1929, 4 апреля).
Статья, видимо, не сохранилась.
К таким поискам и действиям Сергея Эфрона Марина Цветаева относится с уважением: «…муж ‹…› бывший доброволец (с Октябрьской Москвы до Галлиполи – все сплошь в строю, кроме лазаретов (три раненья), потом пражский студент ‹…› ныне один из самых деятельных – не хочу сказать вождей, не потому что не вождь, а потому что вождь – не то, просто – отбросив ‹…› сердце Евразийства. Газета „Евразия“, единственная в эмиграции (да и в России) – его замысел, его детище ‹…› его радость. Чем-то, многим чем, а главное: совестью, ответственностью, глубокой серьезностью сущности, похож на Бориса (Пастернака. – Л.К.), но мужественнее» (Р. Ломоносовой. 1929, 12 сентября).
Но «Евразия» приостановилась…
«Сергей Яковлевич в тоске – не может человек жить без непосильной ноши. Живет надеждой на возобновление и любовью к России» (А. Тесковой. 1929, 30 сентября).
Сергей Эфрон продолжал искать на родине, где жизнь так необратимо изменилась, то, что было мило его душе прежде, надеясь, что хоть что-то сохранилось.
«Сейчас у вас вербный базар. Вербное воскресенье – один из любимейших мною праздников. Много бы дал я… да что об этом говорить!» (Е. Эфрон. 1929, 27 апреля).
Но и в новом он стремился находить, пока, может быть, интуитивно, то, что считал возможным принять. С особым интересом пишет он о новых, выходящих в Советской России книгах, о советских фильмах.
С сестрой Лилей их всегда объединяла общность художественных интересов, и он увлеченно делился с ней впечатлениями от новых книг, фильмов, спектаклей – по обе стороны границы. Эти темы занимают в его письмах к ней большое место.
«С большим интересом прочел твое письмо о работе над читкой Пушкина (Елизавета Эфрон была режиссером-педагогом. – Л.К.).
Должен тебе сказать, что поскольку я могу судить о читке по звуковым советским кино – она очень и очень слаба. Но кинематографическая „читка“, конечно, вещь совсем особая и очень далека как от театральной (должна быть далекой), так и от „литературной“. Эту „особость“ пока что советские актеры совсем не чувствуют – им нужно поучиться у американцев. Что же касается стихов – то я лично очень люблю сухую читку, с еле заметным вскрытием эмоционального костяка и с выделением ритмического остова стихотворения. Классическая читка, наверное, ни то и ни другое – а среднее. А по мне лучше всего читают стихи авторы…» (Е. Эфрон. 1933, 31 октября).
Читая все это, нельзя не вспомнить, как слушал Сергей чтение Марины…
В записях Марины Цветаевой в годы ее дружбы с актерами Третьей Студии (1918–1920), которая позже станет Государственным театром им. Е.Б. Вахтангова, большое место занимают размышления о разной манере чтения стихов актерами и поэтами и о причинах этих различий, и здесь – еще одна перекличка:
«Люди театра не переносят моего чтения стихов. „Вы их губите!“ Не понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актера и поэта – разное. Дело поэта: вскрыв – скрыть. Голос для него броня, личина. ‹…› Голос поэта – водой – тушит пожар (строк). Поэт не может декламировать: стыдно и оскорбительно.
Поэт – уединенный, подмостки для него – позорный столб ‹…›
Актер – другое. Актер – вторичное ‹…› Поэт в плену у Психеи, актер Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт – самоцель, покоится в себе (в Психее). Посадите его на остров – перестанет ли он быть? А какое жалкое зрелище: остров – и актер! Актер – для других, вне других он немыслим, актер – из-за других ‹…›. Нет, господа актеры, наши царства – иные ‹…›. Все это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне – в следующей сдержанной заметке: „Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра“» (1919).
Вернемся к письму Сергея Эфрона.
«Ужасно, когда стихи навязываются. Обычное актерское чтение, даже культурное, а не по Художественному театру – именно такое: все договаривается, разжевывается, подчеркивается. А договаривать и чувствовать – я должен, а не чтец. Вообще в читке стихов лучше недодать, чем передать. Я говорю о стихах лирических».
Так говорят они о том, что волнует обоих. С большой долей вероятности можно предположить, что они не раз в жизни беседовали на эти темы.
В 30-е годы Сергей Эфрон живет преимущественно другим, но не может не быть эмоционально включенным в дорогие ему сферы:
«Видел недавно очень хороший здешний (немецкий) фильм.
Инсценировка книги Ремарка „На Западе без перемен“ (в русском переводе – „На западном фронте без перемен“). Удивляет, что полиция разрешила демонстрацию – до такой степени этот фильм обличает бывшую войну. В Германии расисты срывают демонстрацию фильма ‹…›. Ты, верно, будешь иметь возможность видеть этот фильм в Москве. Несомненно, Москва его купит. Вспомни меня тогда…» (Е. Эфрон, 1930, 10 декабря).
Марина Цветаева тоже восторженно отзывается об этом фильме:
«Пойдите, если не были, на потрясающий фильм по роману Ремарка: „На Западном фронте без перемен“. Американский. Гениальный» (Р. Ломоносовой. 1930, 4 декабря).
Еще многое могло настроить их души на одну волну…
Увлечение кинематографом вообще было далеко не чуждо Марине Цветаевой, что выяснилось сравнительно недавно – к удивлению многих исследователей и моему тоже. В ее письмах к Ариадне Берг (переписка шла с 1934 года до самого отъезда Марины Ивановны с Муром в СССР в 1939 году) много говорится о поразивших ее фильмах (с советами непременно их посмотреть), о том, как она «мчалась на другой конец города», чтобы увидеть фильм с любимой актрисой. Может быть, кинофильм с любимой актрисой – именно далеко, на другом конце города – был для Марины Цветаевой чем-то вроде «царства под веками», «царства сна»…
Если бы жизнь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона удержалась в кругу гуманитарных дел и интересов, в котором их так многое объединяло, если бы сохранились журнал «Версты» и газета «Евразия», может быть, все сложилось бы по-другому…
Письма Сергея Эфрона о книгах и фильмах по-настоящему интересно читать: он предстает в них человеком широких интересов и живых реакций, размышляющим и тонко чувствующим. Он пишет сестре:
«Недавно с величайшим наслаждением прочел Эйхенбаума „Толстой“. Замечательная книга» (Е. Эфрон. 1930, 5 сентября).
Зная, каким увлеченным и любящим читателем Толстого Сергей Эфрон был с самого детства, легко понять его удовольствие от книги Бориса Эйхенбаума, глубоко и тонко проникшего в мир Толстого и рассказавшего об этом живым и увлекательным, без сухого наукообразия, языком.
«С Рене Клером ты не права. Это замечательный режиссер и кинолирик. ‹…› У вас появились „Живые рисунки“ Вал-Диснея – посмотри непременно. Это подлинное и высокое искусство» (Ей же. 1935, 4 декабря).
Заметим, что Сергей Эфрон оценил талант Рене Клера задолго до широкого признания этого режиссера.
«Сейчас парижский рынок наводнен военными книгами. На них большой спрос, а я их больше читать не могу – все на один лад.
А ведь одна из первых хороших книг о войне – Эренбурга „Лики войны“ (Книга военных корреспонденций 1915–1917. – Л.К.). Все о ней забыли. Но после Бабеля – все слабо» (Ей же. 1930, 5 сентября).
В живой беседе он скорее всего развил бы эти мысли – ведь у Сергея Эфрона была своя память о войне – он был медбратом в санитарном поезде, увозившем раненых прямо с мест боев…
«Недавно видел „Баб Рязанских“ (фильм 1927 года. – Л.К.).
И должен признаться – готов был плакать во время сцены жатвы.
Советский фильм пользуется здесь исключительным успехом, но в Париже почти все запрещается. ‹…›. Лучшее, что я видел, – „Потемкин“» (Ей же. 1929, 1 августа).
Все острее мучает его ностальгия, и все внимательнее вчитывается он в газеты и новые книги, выходящие в СССР.
«Спасибо, родная, за „Вечернюю Москву“ ‹…› больше, чем какая-либо другая газета, дает представление о быте Москвы» (Ей же. 1929, 27 апреля).
«Недавно прочел 2-ю ч. „Тихого Дона“. Все знакомые места и лица. Исторически все очень правильно…» (Ей же. 1932).
«Читала ли „Разгром“ Фадеева? Одна из лучших книг последних лет. Верно?» (Там же).
Очень жаль, что Сергей Эфрон не остановился на этом своем впечатлении подробнее. Роман Фадеева – «свидетельство» о Гражданской войне с другой стороны баррикад – мог сыграть большую роль в производимой Сергеем Эфроном в это время настойчивой переоценке ценностей, особенно если он и в нем увидел «только то, что хотел видеть»…
Интересно было бы узнать, почему он счел этот роман «одной из лучших книг последних лет», что именно вызвало такую высокую оценку.
В 1936 году Сергей Эфрон пишет:
«Марина работает над переводом Пушкина (не своего) на франц-й язык. Получается у нее, поскольку могу судить, замечательно. Так, как, верно, написал бы сам Пушкин. Особенно хорошо переведено „Прощай, свободная стихия…“» (Е. Эфрон.1936, 31 июля).
Широкий круг художественных интересов Сергея Эфрона явно свидетельствует о том, что при иных обстоятельствах, погрузись он в эту сферу со всем тем энтузиазмом, с каким погрузился в другие, он мог бы стать талантливым литературным критиком или кинокритиком и писать о чтении стихов в кино и на сцене, о фильмах Рене Клера и Сергея Эйзенштейна, о Бабеле и Фадееве, о заграничных гастролях МХАТа и Театра им. Е.Б. Вахтангова…
Есть в письмах Сергея Эфрона одна сокровенная тема, требующая особого углубления.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?