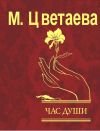Текст книги "Марина Цветаева. Воздух трагедии"
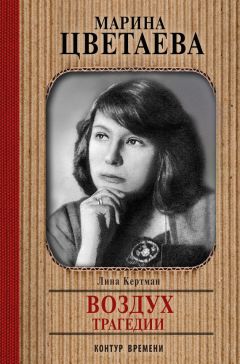
Автор книги: Лина Кертман
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«Это книга живой жизни и правды политически (т. е. под углом лжи!) заведомо проваливается! В ней есть очаровательные коммунисты и безупречные белогвардейцы, первые увидят только последних, и последние – только первых» (Р. Гулю. 1923, 27 мая).
И судьба «Записок добровольца» очень волновала Марину Цветаеву – она воспринимала их тоже как «книгу живой жизни и правды», как свидетельство честного и талантливого человека, умеющего видеть и слышать. Много раз с горячей заинтересованностью она писала об этом разным людям.
«Сережа ‹…› пишет большую книгу о всем, что видел за четыре года революции, – книга прекрасна, радуюсь ей едва ли не больше, чем собственным» (М. Цетлиной. 1923, 9 января).
«На днях Сережа вышлет вам № „Своих путей“ ‹…›. В следующей книге „На чужой стороне“ выйдет его „Октябрь“.
Я очень рада – оправдательный документ добровольчества» (О. Колбасиной-Черновой. 1925, 12 апреля).
Марине Цветаевой очень нравилось название журнала – «Своими путями», и она с гордостью писала в нескольких письмах разным людям, что ее доброволец ходит «своими», а не «чужими», банальными, исхоженными путями.
В письме к Роману Гулю от 27 июня 1923 года – деловая просьба: «В следующем № „Русской Книги“ поместите, пожалуйста, если не поздно:
Подготовлена к печати книга:
СЕРГЕЙ ЭФРОН – „ПОБЕЖДЕННЫЕ“ (С МОСКОВСКОГО ОКТЯБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ – ПО ГАЛЛИПОЛИ. ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА).
МАРИНА ЦВЕТАЕВА – „ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ“ Т. 1 (МОСКВА, МАРТ 1917 г. – ОКТЯБРЬ 1919 г. ЗАПИСИ.)
– „МÓЛОДЕЦ“ ПРАГА, 1923 г. ПОЭМА-СКАЗКА.)
– „ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН“ (МОСКВА, МАРТ 1917 г. – ДЕКАБРЬ 1920 г. БЕЛЫЕ СТИХИ)».
Марина хотела бы издать две книги под одной обложкой или в двух томах. Если бы это осуществилось, получилась бы единая книга «живой жизни и правды».
Это письмо, как и письма Сергея Эфрона сестре на эту тему, вызывает у исследователей множество вопросов, на которые до сих пор не получены ясные ответы. Были ли эти книги сданы в печать?
Если да, почему не были опубликованы, кто отказал?
Роман Гуль в своих воспоминаниях совсем не касается этой темы. Если «Записки добровольца» так и не были отосланы – что побудило Сергея Эфрона изменить твердое, судя по этому письму, решение? И существовала ли в готовом виде рукопись этой, по словам Марины, большой книги? Сергей Эфрон пишет сестре Лиле весной 1924 года, что в ней пятнадцать глав и что он надеется увидеть ее полностью опубликованной к осени, а в письме Марины Цветаевой – еще в июне 1923 года – говорится о полной готовности книги.
Опубликовано, однако, было не очень многое. Впрочем, если перечислить все, обнаружится, что написано Сергеем Эфроном за сравнительно короткий период немало: очерк «Октябрь. 1917 г.» – в 1925 году в Праге в историко-литературном сборнике «На чужой стороне»; рассказы: «Тиф» – в 1926 году в Праге в сборнике «Ковчег»; «Тыл» – в 1926 году в журнале русской литературной культуры «Благонамеренный»; «Видовая» – в 1926 году в Праге в журнале «Своими путями»; очерки «О добровольчестве» – в 1924 году в Париже в журнале «Современные записки», известном в широких эмигрантских русскоязычных кругах во многих странах; «Церковные люди и современность» – в 1925 году в журнале «Своими путями»; там же – «О путях к России» и «Эмиграция» в 1925 году.
Но обещанные в письме сестре Лиле пятнадцать глав нигде не обнаружены, хотя написано было явно больше, чем появилось тогда в печати. Об этом свидетельствует и письмо Сергея друзьям – Всеволоду Богенгардту и его жене, где он рассказывает:
«Есть там кой-что и о Всеволоде. Описываю нашу встречу под Екатеринодаром, когда он, веселый и худой, сидел на подводе с простреленным животом» (1924, апрель).
Однако и этот отрывок не найден.
Остается только предполагать.
Возможно, рукопись была конфискована французской полицией в 1937 году, когда Сергей Эфрон был вынужден тайно бежать из Франции (об этих событиях речь пойдет далее). Тогда в доме Эфронов, а также в Союзе Возвращения на Родину, где он активно работал, были произведены обыски. Если рукопись осталась в архиве полиции, она могла пропасть во время Второй мировой войны.
Если рукопись осталась в обширнейшем архиве Марины Цветаевой, она сама могла перед отъездом в Россию в 1939 году передать ее на хранение кому-то из друзей вместе с той частью собственного архива, которую она оставляла за границей.
Ее заграничный архив, как известно, был разделен на несколько частей и роздан разным людям, в разные места. В результате многое сохранилось, но часть архива погибла во время бомбежек.
Пятнадцать глав большой книги Сергея Эфрона могли оказаться именно в той части архива, где была и пропавшая «Поэма о царской семье» Марины Цветаевой. Возможно, Марина могла из предосторожности разделить рукопись Сергея на несколько частей и раздать их в разные места.
Последнее предположение косвенно подтверждается тем фактом, что рукопись главы «Декабрь. 1917 г.», которая при жизни Сергея Эфрона никогда не публиковалась, обнаружена в составе архива Марины Цветаевой, сохранившегося в библиотеке Базельского университета в Швейцарии. Эту главу впервые опубликовали только в 1992 году в журнале «Звезда», посвященном 100-летию со дня рождения М. И. Цветаевой. Она была переписана самой Мариной на больших тетрадных листах, и рядом с заглавием – ее почерком: «А переписывала – я». Так самоотверженно и терпеливо она переписывала многое дорогое ей в жизни: мемуары князя Сергея Михайловича Волконского – набело, для отправления в печать, письма Бориса Пастернака и Райнера Мария Рильке – в свою тетрадь, а свои разнообразные записи – в сводную тетрадь. Это свидетельство того, как дорого ей было, даже после тяжелого отчуждения, даже после того, как сам Сергей охладел к этой книге, их общее прошлое.
В какой-то момент мне даже подумалось: а не мог ли сам Сергей Эфрон, когда стал по-другому мыслить и чувствовать, уничтожить рукопись, которая могла скомпрометировать его перед людьми, от которых теперь зависело, разрешить ему возвращение в СССР или отказать. Но я быстро отбросила это предположение. Не уничтожил же он свои дневниковые тетради времен Гражданской войны, а в них были не менее, если не более компрометирующие вещи, чем в сохранившихся и ставших известными уже тогда «Записках добровольца». События на Перекопе, описанные глазами человека с той стороны! Да и вообще в их доме не принято было уничтожать рукописи…
Ни одно из этих предположений документально не подтверждено, но и не опровергнуто. Может быть, нас еще ждут неожиданные находки, как не раз уже случилось с письмами Марины Цветаевой и воспоминаниями о ней.
Статьи Сергея Эфрона написаны совсем по-иному, чем очерки «Октябрь. 1917 г.», «Декабрь. 1917 г.». Там была быстрота, динамика, эмоциональная захваченность происходящим, требующая мгновенного включения, – все это вовлекает читателя в бурный ход событий и читается на одном дыхании.
Здесь – эмоциональное последействие прошедшего, когда участник бурных событий ощущает, что он «на берег выброшен грозою» и имеет возможность «остановиться, оглянуться» – и подумать. Эти статьи требуют совсем иного, медленного, с остановками чтения. И – ответного, часто горького, соразмышления человека XXI века, которому уже открыто многое из того, над чем билась мысль человека, жившего в 1920-1930-е годы. Аналитизм эфроновских статей, разумеется, меньше всего кабинетно-академический – слишком жива и горяча в них память о пережитом:
«Я был добровольцем с первого дня, и если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 17 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем. Позвольте же мне – добровольцу, на вопрос „где правда?“, дать попытку ответа.
Как зародилось добровольчество?
Незабываемая осень 17-го года. Думаю, вряд ли в истории России был год страшнее. Не по физическим испытаниям (тогда еще только начинались), а по непередаваемому чувству распада, расползания, гниения, которое охватило нас всех ‹…›. В ушах – грохот, визг, вопли, перед глазами – ураган, обернувшийся каруселью, а в сердце – смертное томление: не умираю, а умирает.
Это и было началом. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи с переполнившим душу „не могу“, решили взять в руки меч.
Это „не могу“ и было истоком, основой нарождающегося добровольчества».
И далее с предельной жесткостью и четкостью поставлен вопрос:
«Кто же они или, вернее, кем были – героями-подвижниками или разбойниками-душегубами? Одни называют их „Георгиями“, другие – „Жоржиками“…»
Когда речь идет не о чем-то книжно-отвлеченном, а о кровно и болево собственной жизни касающихся вещах, для такой постановки вопроса требуется определенное мужество. «Цепь подвигов и подвижничеств и… „белогвардейщина“ ‹…› погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерство».
Первая попытка его ответа – романтическая:
«Мой ответ – „Георгий“ продвинул Добровольческую Армию до Орла, „Жоржик“‹…› разложил и оттянул ее до Крыма и дальше; „Георгий“ похоронен в русских степях и полях, „положив душу свою за други своя“; „Жоржик“ жив, здравствует, политиканствует, проповедует злобу и мщение ‹…›, стреляет в Милюкова, убивает Набокова ‹…›. Первый – лик добровольчества, второй – образина его».
Но Сергей Эфрон не может не понимать, что такой ответ все же упрощает ту противоречивую реальность, ради постижения которой и написана статья «О добровольчестве». И потому, как ни дорога эта мысль бывшему добровольцу именно возвышенно романтической стороной своей, автор не позволяет себе остановиться на ней. С воистину «достоевским» бесстрашием он говорит далее, что из такого разделения воинов Добровольческой армии на «Георгиев» и «Жоржиков» вовсе «не следует, что каждый данный доброволец является либо тем, либо другим. Два начала перемешались, переплелись. Часто бывает невозможно установить, где кончается один и начинается другой».
На этих страницах эфроновской прозы снова узнаваем тот юноша, что написал в своей автобиографии: «Из прозаиков больше всего волновали меня Достоевский и Толстой, связанные друг с другом самыми драгоценными свойствами – глубиной и полной искренностью».
И еще одно: в этих статьях (как во всем им написанном) больше всего волнуют меня те страницы, где еще ощущается – почти в последний раз – их перекличка с Мариной.
Эпиграфом к статье «О добровольчестве» Сергей Эфрон взял авторский эпиграф Марины Цветаевой к стихотворению «Посмертный марш»: «Добровольчество – добрая воля к смерти», обозначив их: «слова поэта» (без имени).
В другой статье – «Эмиграция» – эта мысль звучит более развернуто:
«Добровольчество в основе своей было насыщено не политической, а этической идеей. Этическое „не могу принять“ решительно преобладало в нем над политическим „хочу“, „желаю“, „требую“.
В этом „не могу принять“ была заключена вся моральная сила и значимость добровольчества. И когда военная борьба кончилась поражением, добровольцы принесли с собой на чужбину все то же „не могу принять“, являющееся главнейшим обоснованием и оправданием эмиграции».
С поразительной, почти дословной близостью сказано о том же в записных книжках Марины Цветаевой, где она очень подробно размышляет на эту тему:
«Не могу священнее не хочу…»; «Мое „не могу“ – это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет, вопреки моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю меня, значит, есть (помимо моей воли!) – „во мне“, „мое“, „меня“, – есть „я“»; «Не хочу служить в Красной Армии. Не могу служить в Красной Армии. Первое предпосылает: „Мог бы, да не хочу!“ Второе: „Хотел бы, да не могу“. Что важнее: не мочь совершать убийства, или не хотеть совершать убийства?
В не мочь – вся наша природа, в не хотеть – наша сознательная воля. Если ценить из всей сущности волю – сильнее, конечно: не хочу. Если ценить всю сущность – конечно: не могу»; «Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растет оттуда, откуда и наши могу: все дарования, все откровения, все наши Leistungen (деяния): руки, двигающие горы; глаза, зажигающие звезды. Из глубин крови или из глубин духа».
Марина Цветаева знала, что именно такое «не могу» лежит в основе действий ее героя, сражавшегося на Дону в то самое время, когда писались эти строки.
«Я говорю об исконном не могу, – продолжает она, – о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о кротком не могу». «Утверждаю: не могу, а не „не хочу“ создает героев!»
Это писалось в 1919 году. В 1937-м когда Сергея Эфрона обвинили в кровавом преступлении, Марина Цветаева убежденно и страстно говорила и писала друзьям: «Не верьте! Он не мог!»
Если пристально сопоставить эти высказывания, становится несомненно ясным, что, говоря в 1937 году: «Он не мог!», она говорила именно «о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать…»
В статье С. Эфрона истоком добровольчества названы те же самые императивы: «Не могу выносить зла, не могу видеть предательства, не могу соучаствовать – лучше смерть».
Поистине – как будто они вместе писали одну книгу!
Сергей Эфрон пытается найти корни трагических ошибок, которые привели идеалистов, присоединившихся к Белой армии из высоких нравственных побуждений, к невольному (или к не ожидаемому ими) участию в действиях, далеких от идеалов гуманизма:
«…а мы назад не оглядывались. До этого ли? Вчера бой, сегодня бой, завтра бой ‹…› скорей вперед, – туда, к Москве, там все решится, там все устроится к общей радости, к общему благу, к общему счастию.
А сзади – борьба с крестьянами, карательные отряды, порка, виселица, отбирание награбленного. В ответ – стихийная, растущая с каждым часом ненависть к нам:
– Помещики! – Баре! – Офицерье! – Золотопогонники!
От того, что ползло сзади, мы отмахивались.
– Не важно! – Временные меры! ‹…› – Всегда так бывает!
– В белых перчатках не воюют!
– Вот в Москве, там… Скорей в Москву! (курсив мой. – Л.К.).
‹…› Оторванные от народа, мы принимали его равнодушие, его недоброжелательство и наконец, его злобу, как темное непонимание нашей белой цели. Мы за них, а они на нас ‹…›. Кто не с нами, тот против нас, – кто против нас, тот против Родины, а потому… (курсив мой. – Л.К.) Идея отрывалась от земли все выше.
Земля наваливалась на нас всей своею тяжестью».
После таких слов приходится особенно поражаться всему случившемуся с Сергеем Эфроном потом. Пройдут годы, и он окажется по другую сторону баррикад, поверив, что в Советской России строится небывалое еще в мире великое государство и справедливое общество, что народ полон энтузиазма и счастлив.
Сергей Эфрон, как и многие его единомышленники, будет вновь отмахиваться от тревожных известий о преступлениях сталинского режима против своего народа, и в ход пойдут, больше не смущая его, те самые формулировки, бесчеловечность и лживость которых он столь глубоко понял, осмысляя грустный опыт добровольчества:
«Временные меры! Всегда так бывает! В белых перчатках не воюют!» И самая страшная: «Кто не с нами, тот против нас, кто против нас, тот против Родины, а потому…»
Но до этого еще далеко. Пока же он призывает в своей статье бывших боевых товарищей «почувствовать собственную вину, собственные ошибки, собственные преступления…», настойчиво убеждает, что они обязаны это сделать, если не хотят «порвать окончательно связи с Россией» и «сделаться духовными изгоями»:
«А народ? Возненавидев большевиков, он не принял и нас, хотя и жаждал власти, порядка и мира. Он пошел своей дорогой – не большевицкой и не белой».
Так – в поисках «третьего пути», которым, как показалось издалека Сергею Эфрону и его единомышленникам, пошел народ в России, началось его евразийство. Это теория об особом пути России, обусловленном даже ее географическим положением. (От евразийства он вскоре перейдет к однозначно просоветским симпатиям).
«И сейчас в России со страшным трудом и жертвами он (народ. – Л.К.) пробивает себе путь, путь жизни от сжавших его кольцом большевиков. Мы, научившиеся умирать и разучившиеся жить, должны, освободившись от язв и не устыдившись их, – ибо не ошибается только тот, кто сидит сложа руки (а сколько таких!), – мы должны ожить и напитаться духом живым, обратившись к Родине, к России, к тому началу, что давало нам силу на смерть. Наш стяг остался прежним. „Все для Родины“ должно пребыть, но с добавлением, которое уже не дает старых ошибок (курсив мой. – Л.К.):
„С народом, за Родину! – ибо одно от другого неотделимо“». (1924).
Увы, от ошибок, старых и новых, как трагически подтвердилось впоследствии, не спасает и этот лозунг. Всегда, а особенно при вслушивании в происходящее на родине издалека, остается опасность «ошибки слуха». Но напряженный и честный поиск своей правды, своего пути явлен и в этой, и в следующих статьях Сергея Эфрона, сочувственно читаемых Мариной, – в них она еще видела много близкого себе. Например, слова в статье «О путях к России»:
«Не путь, а пути, ибо не партия, а человеки („люди“ не есть множественное от „человек“. Разница людского и человеческого.)»
Не в беседах ли с Мариной родилось это уточнение в скобках?
Так похоже это на ее очень узнаваемые, в спорах рождающиеся афоризмы…
«Больше: партийное, предвзятое сейчас нетерпимо. Оно было источником тысячи русских бед, а может быть, и основной русской беды.
Есть два рода общности: общность, рождаемая человеческим (общее прошлое, вера, опыт, профессия и пр.), и общность как подчинение догме. Общность изнутри и общность извне.
Общность лиц и общность безличий. Вторая нам хорошо известна по недавнему прошлому».
Духовная аура, в которой рождался этот круг мыслей, безусловно, родная и для Марины Цветаевой. Правда, Сергей Эфрон все же делает оговорку:
«Это не означает, что будущее (России. – Л.К.) обойдется без партий – партии будут, но возникнут они путем объединения лиц, одним кровно затронутых и в одном кровно нуждающихся. ‹…›
Партии будут организмами, а не казармами догм».
На этом этапе Эфрон мыслит еще как демократ западного типа – ему и в голову не может прийти, что в России останется одна правящая партия, не допускающая никаких отклонений от застывших, абсолютно оторванных от живой жизни догм.
Родственность Сергея и Марины здесь явно ощутима – и по сути высказанных мыслей, и даже по форме выражения их.
«Одно только его не захватило: партийность, вещь заведомо не человеческая, не животная и не божественная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество». Так писала Марина Цветаева в эссе «Живое о живом» о Максимилиане Волошине, где воспела его мудрую широту: в революцию он спасал, укрывал, иногда одновременно, в разных комнатах своего коктебельского дома, красных от белых и белых от красных, «то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей… Этого человека чудесно хватило на все».
Сергей Эфрон в большей степени был человеком энтузиазма и веры, чем аналитиком, в отличие от Марины Цветаевой. Дар поэта и резкий аналитический ум в равной мере были даны ей от природы.
«Стоит мне только начать рассказывать человеку то, что я чувствую, как – мгновенно – реплика: „Но ведь это же рассуждение!“ ‹…› Четкость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения», – заметила она.
Но и в статьях Сергея Эфрона несомненна его настоятельная потребность додумать, докопаться до истины, уточнить мысль, прежде всего для себя самого, и порой он доводит ее – именно в стремлении к точности – до чеканного афоризма. Эта чеканность, как и страстный протест против иссушающей души идеологичности партийных группировок, очень близка цветаевской прозе.
Он и не скрывает этой близости. Строки стихов Марины Цветаевой очень естественно вплетаются в ход его горячих размышлений и выстраданных итогов:
«Вспомним лозунги революции и людей, объединяемых ими:
Нету лиц у них и нет имен,
Песен нету…»
Эти строки – из стихотворного цикла Марины Цветаевой «Лебединый Стан».
«Путь к России лишь от себя к ней, а не наоборот. Я всматриваюсь и приемлю, но без отказа от себя, от своего критерия».
«Без отказа от себя…» – как это важно в любых обстоятельствах! Если бы Сергей Эфрон оставался и дальше верен этой установке… Но фанатичная вера в догмы, какими бы они ни были, исключает верность себе. Почему-то вспомнилось горькое размышление на эту тему поэта, подводящего грустные итоги в 60-х годах XX века:
…Но внезапно я спор обрываю, я сдался – я понял,
Что борьбе отдала ты и то, что нельзя ей отдать.
Все – возможность любви, мысль и чувство, и самую совесть,
Всю себя – без остатка, а можно ли жить без себя?
И на этом кончается длинная, грустная повесть,
Я ее написал, ненавидя, страдая, любя…
(Наум Коржавин. Из поэмы «Танька»).
«Письма и газеты из России говорят о стихийном тяготении к американизму, наблюдаемом там, – продолжает Сергей Эфрон статью „О путях к России“. – Ежели это так, то я, принимая этот процесс, не приму однобокой американской идеологии русской молодежи».
Видимо, он имеет в виду увлечение русской советской молодежи техникой и спортом и упрощение духовной жизни – «сбрасывание с корабля современности» всей культуры прошлого. Он не может примириться с этим:
«Я буду всячески стараться привить русскому американизму близкое мне духовное содержание. Не Достоевского заменить русским янки, а американизм напитать Достоевским. Не лик сузить до лица, а лицо приобщить лику».
Как верит он в возможность повлиять на происходящее в России! Таких иллюзий у Марины Цветаевой никогда не было.
Но обратим внимание на чеканную афористичность этих строк, очень близкую цветаевской прозе.
Мог ли думать Сергей Эфрон, когда писал это в 1920-е годы, что сравнительно скоро в Советской России наступит время, когда «тяготение к американизму» и любовь к Достоевскому, воспринимаемые им как противоположные полюса духовной жизни, будут официально оцениваться как одинаково враждебные «единственной в мире правильной идеологии» и служить равным основанием для политических репрессий?
«… Каков же наш путь? Он труден, сложен и ответственен.
С волевым упорством, без ложных предвзятостей всматриваемся мы в далекие, родные туманы с тем, чтобы увидеть, познать и почувствовать, а следовательно, и принять послереволюционное лицо России, лицо, а не личину, органическое начало, а не преходящую идеологию, и только всмотревшись и увидав, дадим мы действенный и творческий ответ, наш ответ, собственный, личный, нашим я нашим опытом, нашим credo данный» (1925).
«Ложными предвзятостями» Сергей Эфрон, видимо, считал непримиримость правого крыла эмиграции ко всем советскому, заведомое неприятие всего в Советской России происходящего, но сам он здесь тоже начинает мыслить, пусть с противоположной позиции, именно предвзято. Для трезвой ориентации в происходящем на далекой родине действительно необходимо «увидеть, познать и почувствовать» послереволюционное лицо России. Но разве из этого логически вытекает, как он пишет – «следовательно, и принять»?
Как хотелось Сергею Эфрону не совершить снова трагической ошибки в выборе пути служения России! Без этого служения он, как и в годы добровольчества, не может представить своей жизни.
И все же ему не удалось избежать того ослепления, какому, как известно, подверглись тогда и многие яркие люди Запада (Ромен Роллан, Бернард Шоу, Луи Арагон, Лион Фейхтвангер и др.), не удалось, как ни стремился он всмотреться в происходящее пристально и не предубежденно.
Во время работы над книгой Сергей Эфрон еще считает большевизм безусловным злом и ставит интересный вопрос: почему большевизм не привился на Западе, хотя «пороха для взрыва в странах побежденных было не меньше, если не больше, чем в России (страшная война, поражение, голод, миллионы рабочих-социалистов, русская коммунистическая зараза)». Размышляя о причинах этого явления, он приходит к выводу, в котором еще слышна высокая оценка западной демократии (позднее он и об этом будет думать по-иному, как требовали рамки советской догмы):
«Думаю, что устояли именно потому, что чувствовали государство как свое государство, законы как свои законы, правовой порядок как свой правовой порядок. ‹…›. У нас же все то, что было на Западе личным, все, говоря о чем употребляли первое лицо местоимения – „мое“, „наше“, „у нас“, – все это ощущалось как постороннее, не свое…» («Церковные люди и современность»). Как злободневно звучат сейчас эти слова…
Самая личная, даже, можно сказать, лирически-исповедальная статья Сергея Эфрона – «Эмиграция». Ее тональность чем-то напоминает тональность его доверительных писем или юношеской прозы:
«Есть в эмиграции особая душевная астма. Производим дыхательные движения, а воздуха нет. Которая весна, лето, осень и зима протекли, а вот не заполнили ни одного времени года – зима, как весна, лето, как осень. Все подменилось черными и красными цифрами календаря. День превратился в бесцветную временную единицу, отсекаемую неумолимым маятником. Желтый свет электрической лампы сменяет белые лучи солнца. И ничего больше. Мир обесцветился и обезголосился. Словно вошли мы чудесным образом в кинематографический фильм без красок, без солнца, без воздуха, с белесым светом, с серыми лицами и с математическим, а не космическим пространством (Эта талантливо написанная картина неожиданно тревожно напоминает – по контрасту – монолог героя рассказа „Тиф“, утверждавшего, что мир расцвечивается яркими красками в период бурных исторических катаклизмов – войн и революций. – Л.К.) Неутомимый тапер годами наколачивает по клавишам победоносный марш. Фильм мелькает, а… дышать нечем. И чем дальше, тем душнее, тем безвоздушнее. ‹…› каждый переезд на новое место, каждая перемена службы связана с наплывом новых людей, новых отношений, новых связей и с почти хирургическим изъятием вашего человеческого вчера».
Как близок этой грустной мысли остро запомнившийся Анастасии Цветаевой горький вздох Марины при прощании: «Отъезд, как ни кинь, смерть…»!
Это и потом, пусть другими словами выраженное, не раз звучало в цветаевских письмах…
«Вместо свободного подбора к душевному и духовному сожительству человеческие отношения построены на случайной механической сцепленности», – продолжает Сергей Эфрон.
От такого формального, не утоляющего душу общения остро страдала и Марина Цветаева:
«Париж мне душевно ничего не дал. Знаете, как здесь общаются? Гостиные, много народу, частные разговоры с соседом – всегда случайным, иногда увлекательная беседа и – прощай навсегда. Так у меня было много раз, потом перестала ходить (пишу о французах).
Чувство, что всякий все знает и понимает, но занят целиком собой, в литературном кругу (о котором пишу) – своей очередной книгой.
Чувство, что для тебя места нет ‹…› самая увлекательная, самая как будто – душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так, как говорит со мной, говорит с любым, я только подставное лицо, до которого ему никакого дела нет.
Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения.
Эх дружба, любовь двухдневная —
И забвенье на тысячу дней!
Короткая память душевная
У здешних людей…
Так писала в 1912 году одна молодая поэтесса о Петербурге, точь-в-точь это же говорю в 1932 г. о Париже – я» (А. Тесковой. 1932, 1 января).
Поразительно, до какой степени «точь-в-точь это» писал в своей статье на несколько лет раньше Сергей Эфрон:
«Эта безвоздушность переносится и на человеческие отношения. Никогда раньше встречи с людьми не были столь многочисленны: в России десятки – здесь сотни знакомых. Но следы от тех бывших встреч насколько осязательнее, насколько длиннее, насколько значительнее здешних зарубежных. Как в поезде, перезнакомившись со всеми попутчиками, забываешь их, пересев на узловой станции в другой, так и здесь…»
И тогда же – в письме сестре:
«Вижу я бездну людей. Но те – российские встречи – гораздо крепче и значительнее здешних. Потому-то и не хотелось бы мне, чтобы меня в Москве совсем забыли» (1925, 3 декабря).
Они писали по сути об одном… Такая близость их глубинных восприятий была далеко не очевидной для поверхностно знающих их людей (как, впрочем, и для многих пишущих о них сейчас). Остроумный, доброжелательный, приветливый человек, к тому же активный участник разных начинаний, Сергей Эфрон, в отличие от Марины Цветаевой, всегда страдавшей от шумного многолюдства, дорожившей уединением, необходимым ей для самого главного в ее жизни, часто находился в окружении множества людей: в студенческом журнале, в театральном кружке, в Союзе писателей в Праге, в кругу евразийцев в Париже, позднее – в Союзе Возвращения на Родину.
Казалось, он чувствовал себя в этой обстановке вполне комфортно, но на самом деле в атмосфере поверхностного общения он тоже остро ощущал глубокое внутреннее одиночество и тосковал по людям, следы от встреч с которыми в его душе несравненно «осязательнее, длиннее, значительнее».
В своих статьях Сергей Эфрон пытался осмыслить причины неприкаянности русских эмигрантов:
«Но в чем же дело? Куда исчез весь воздух? Или причиной всему тоска по Родине? Она – душит нас, закрывает глаза и уши, иссушает сердца? ‹…› Жизнь побеждена десятками идеологий.
Свежий воздух и солнечный свет пропускается через ряд политико-идеологических фильтров и спектров. Все кровавое и кровное, пережитое и переживаемое каждым из нас, перерабатывается в бескровную и некровную ходячую политическую формулу…»
Последняя фраза о кровно пережитом и о «перерабатывании» живого в неживую политическую формулу тоже очень близка Марине Цветаевой.
Можно представить, что они много говорили обо всем этом в те годы, когда Сергей работал над «Записками добровольца» – говорили, хорошо понимая друг друга!
И можно с ужасом представить, как тяжело и страшно было Марине Цветаевой, когда через несколько лет Сергей Эфрон, всегда такой живой, эмоциональный, с тонким чувством юмора, всегда чутко распознававший фальшь, вдруг заговорил (и начал мыслить!) именно «ходячими политическими формулами».
Многое в случившемся с Сергеем Эфроном позднее, когда Марина Цветаева с горечью писала, что он видит в советской России «только то, что хочет видеть», объясняют его страшные слова о том, что тоска по родине душит эмигрантов и закрывает их глаза и уши… И все же понять это превращение очень трудно.
Статью «Эмиграция» Сергей Эфрон закончил глубоко выстраданным заявлением о своем личном выборе: «Как рядовому бойцу бывшей Добровольческой Армии, боровшейся против большевиков, возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, м. б., даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться. Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед Чекой меня (да и большинство моих соратников) останавливает, а капитуляция перед чекистами – отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое: могила Добровольческой Армии».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?