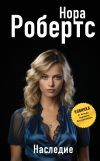Текст книги "Словарь Ламприера"
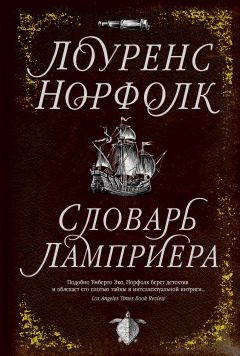
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Мы изображали Тесея, – шипит он. – Шевелящиеся пальцы – это был Минотавр, а потом вы должны были покинуть Ариадну, а вовсе не жениться на Андромеде. А последняя сцена – ваше возвращение в Афины на корабле с черным парусом…
– Который престарелый Эгей должен был принять за знак моей гибели…
Недавние недоумения Ламприера начинают проясняться.
– …И совершить самоубийство, да. К счастью, ваше метание диска походило на то, как Тесей машет рукой с корабля, что даже добавило драматической иронии, ну и так далее. Одним словом, друг мой, все попались на эту удочку, но теперь держите вашего Персея в секрете. Ну, Джон… – (Ламприер поворачивается лицом к клубу.) —…мы победили. Вы молодчина.
Септимус улыбается и протягивает своему товарищу по игре бутылку. Боксер и Уорбуртон-Бурлей хмурятся, но мнение Поросячьего клуба единодушно: лавры присуждаются последней паре игроков. Септимус вытаскивает пробку и для себя, они пьют на пару, жидкость напоминает Ламприеру кубок с буквой «X» с легким оттенком буквы «Л», раз, раз, она проскальзывает в его горло, как сироп.
И тут Карга прокладывает себе дорогу через кольцо, образовавшееся вокруг победителей. Ламприер старательно пытается сфокусировать на ней взгляд. Бутылка в его руке наполовину пуста, и тут он начинает подозревать, что пить из нее, пожалуй, не стоило.
– Приз! Приз! – кудахчет Карга.
– Хрю! – подтверждает Поросячий клуб.
– Приз? – невнятно бормочет Ламприер.
– Приз, – поддерживает Септимус.
– Кто первый пойдет к кормушке, мои поросятки? – визгливо кричит Карга им обоим.
Члены Поросячьего клуба начинают обсуждать это между собой. Септимус кладет конец колебаниям.
– Джон пойдет первым, – провозглашает он. – В качестве награды за вдохновенное любительское исполнение.
– За его морскую походку, – выкрикивает кто-то, потому что Ламприер теперь качается в такт со стенами, которые в свою очередь тоже начали раскачиваться.
– Не троньте его ноги, – орет Карга. – Скоро они ему понадобятся! – Несколько чертовски преувеличенных подмигиваний и непристойных взмахов руками обнажают суть едва прикрытого намека.
– Может, мне лучше немного обождать? Кажется, я слегка перебрал, – лепечет Ламприер.
– Вы в превосходной форме, Джон! – ревет Септимус. – Вперед, Тесей!
– Как вы себя чувствуете, Джон? – спрашивает граф.
Ламприеру так худо, что он позволяет себе поддаться на призыв Септимуса. Да, в превосходной форме.
– Прекрасно. Лучше некуда, – отвечает он и, накренившись, бредет к лестничному маршу в дальнем конце комнаты.
Когда он добирается до лестницы, она начинает валиться на него. С шендианской медлительностью они начинают танцевать кадриль (лестница танцует сразу за троих), а когда кадриль заканчивается, он оказывается на верхней площадке.
– Bon soir, прекрасный царевич, – окликает Септимус рассеянного героя.
Герой пытается ответить ему карикатурным реверансом. Шум толпы внизу напоминает звуки оркестра, свет накатывает на него волнами, все более настойчивыми. Вовсе не так уж и хорошо он себя чувствует. Пронзительный звук фагота парит где-то рядом на грани слышимости, а вся комната заполняется крошечными мыльными пузырями, которые лопаются со скоростью нескольких миллионов в секунду, их шипучее массовое самоубийство отбеливает воздух – вроде того, как небо бывает сплошь выбелено непроницаемой пеленой облаков, так что больно глазам, куда ни взгляни. Ламприер отчетливо ощущает, что с ним что-то не то.
Внизу в честь его победы уже поднимают тосты. Кто-то потихоньку засунул Лидии в вырез платья павлинье перо, и она заливается смехом. Уже и Боксер нашел себе подругу и держит ее над головой на вытянутых руках, а она опускает кусочки свинины ему в рот, сдабривая мясное порциями негуса, когда скорость жевания замедляется, а в промежутках сама припадает губами к горлышку бутылки. Общее побуждение вступить в тесные и страстные отношения, все равно с кем, охватило Поросячий клуб; если это и не совсем открытая похоть, то и невинным это желание тоже не назовешь. Возбуждение пронизывает все вокруг, даже мебель начинает выглядеть кокетливо; эти токи достигают Ламприера на верхней площадке лестницы, подтверждая его догадку относительно доставшегося ему приза.
Но это не значит, что сам он возбужден. Пока что он просто стоит, вытянувшись в струнку, что позволяет ему чувствовать себя более-менее сносно, хотя дела с желудком могли бы обстоять и получше. Какое-то недоброкачественное вино, объединившись с имбирным пивом, медленно выворачивает его наизнанку; в полной гармонии с ними действуют бренди и вермут, а юкка, ядовитым концентратом залегшая где-то на дне желудка, еще ждет своего часа. Жидкость, которую он выпил последней, все еще прокладывает себе путь вниз, но встреча их уже столь же близка, сколь и нежелательна. Тем не менее, пока он пробирается к дальней двери (разве она ближе, чем минуту назад?), его мучит только один вопрос: правильно ли он выбрал направление? Что-то есть приятное в этой пугающей дезориентации – главным образом ощущение, что все это исходит не от него самого. О метаморфозах Карги он уже и думать забыл. Он думает об истории, которую только что разыгрывал, о случайном совпадении сюжетов… Рассеянный герой… Знал ли Септимус заранее, предвидел ли это совпадение? Разумеется, нет. Слишком мудрено, профессор. Он делает еще шаг, решившись не думать ни о чем. Что это дверь так качается? Вот ручка, держись за нее, вот так, да… гляди в будущее – и вперед, Персей-Тесей, или как там его. Смотри вперед. Нет, не так. Прямо. Нет, он не выдерживает, шатаясь, раскачиваясь, поскальзываясь, но только не прямо, дверь открывается, и его бросает внутрь.
Под лестницей Джемайма объясняет, что она вовсе не хотела так делать. Нет, я нечаянно, извините, ох! Лопатка, которую Карга держит в руках, ломается о ее глупую башку, и еще раз, чтоб мало не показалось, боже милостивый! Кто-нибудь еще подумает, что это она нарочно. Но откуда же ей было знать, что девчонка продаст ей такого зловредного гуся, который даст тумака самой хозяйке (хи-хи)? Джемми крепко держит гуся под мышкой – такой красивый и тугой гусище, клюв зажат в кулаке – и глядит в открытые двери на графа, который терпеливо объясняет Лидии, почему для одного из них или даже для обоих сразу это кончится серьезной травмой, как минимум вывихом бедер. Какой же он прекрасный, добрый человек. И такой трезвый. «Женись на мне, – думает Джемми. – Сделай меня графиней Брейтской!» Кто-то стучит бутылками, динь, динь, вон там, позже нужно будет подмести пол. Гусятина никак не успокоится. И вымыть тоже – вон он какой жирный. Джемайма крепче прижимает к себе гуся. Динь. Гусь искусно изворачивается, пытаясь освободиться.
Дзинь. Наверху Ламприер смутно улавливает этот звук. Может быть, это серебряный фонтан роняет музыкальные струи в серебряное озеро, в котором плещутся и из которого пьют сказочные белые птицы? Нет. Грузные, хмурые псы возятся в озере, разбрызгивая воду, взбаламучивая грязь? Опять не то. Это спальня. Черное, красное, белое. Горит огонь, на полу ковры. Ламприер перестает скользить. В центре стоит кровать. Это от нее исходит дрожь предвкушаемого наслаждения. С этой целью она здесь поставлена. Горизонтали и вертикали. Ковер темно-красного цвета. Кровать из кованого черного железа. Столбики по углам поднимаются прямо вверх. Из того же черного железа. Подушек на кровати нет. Пошатываясь, Ламприер делает шаг вперед. Тишина этой комнаты и ощущение, что она ожидает его, приготовлена для него (но кем?), добавляют напряжения к перекрестному действию спиртного и занимающих его всецело мыслей о том, как бы обо что-нибудь не удариться. Стены и мебель выбиваются из сил, чтобы нанести ему решающий удар. Он сопротивляется. Пусть себе комната качается и кружится, навевая на него сонливость. Ламприер все равно хватается за ближайший к нему столбик кровати и смотрит вниз. Да, думает он, когда взгляд его фокусируется на призе, лежащем перед ним на кровати. Именно так и должно было быть.
На кровати лицом вниз распластана девушка, привязанная к черным железным столбикам. Она, разумеется, обнажена – на ней лишь красная лента, перехватывающая локоны на затылке. На нее наброшено покрывало из белого шелка-сырца. Хотя оно отчасти и скрывает ее наготу, понятно, что одежды на ней нет. Впрочем, не все тело девушки скрыто от взора. Из-под покрывала видны лодыжки и запястья, они пристегнуты к кроватным столбикам мягкими кожаными браслетами. Браслеты украшены бирюзой.
Ламприеру знакомы эти лодыжки. Он видел их раньше. Разбивающиеся о них сверкающие капли воды, и красная полоса, красный цвет на воде… Он наклоняется к изножию кровати, ноги его еще слушаются, но они ему больше не нужны, он держится рукой за столбик, этого не может быть, не может, так, медленно и осторожно, теперь сосредоточься. Он тянет к себе покрывало, одной рукой продолжая держаться за столбик, но лишь едва-едва, сперва показывается копна черных волос с красной лентой, словно черный янтарь на ее молочно-белой спине, слегка выгнутой, этого не может быть, он должен узнать, купание в озере молока, упругой и мерцающей, гладкие ягодицы, разделенные ложбинкой, ждущие бедра, нежные голубые жилки в подколенных сгибах, от которых по коже бегут мурашки, тело дрожит от нахлынувшей прохлады, сколько часов провела она здесь, лежа в такой позе в ожидании любовника? От белизны ее тела у него кружится голова, горячие струи текут по бедрам и ногам, напряжение оставляет его, он повисает на спинке кровати, пальцы медленно разжимаются.
– Джульетта? – Голос его звучит неуверенно.
Он знает, что в этой сцене чего-то недостает. Отец! Он делает неверный шаг в сторону, падает и остается недвижим.
Тем временем внизу гусь почуял-таки уготованную ему судьбу и ринулся на свободу, что не слишком удивительно, ведь Рождество не за горами. Когда дело доходит до трансконтинентальных путешествий (по неким необъяснимо точным навигационным приборам), общепринятое и единодушное мнение гласит, что гусь здесь непревзойден. Однако знаток непременно добавит к этому, что некоторые маневры гусю все же не по зубам, и в первую очередь – поворот. Под одобрительные выкрики Поросячьего клуба гусь летает под потолком с видом некоторого удивления, что само по себе тоже не удивительно, ведь он то и дело пытается пролететь сквозь стену. Просто чудо, что он до сих пор держится в воздухе, да еще в трех-четырех футах над головами. Хлоп! Ну вот, опять.
Однако Карга смотрит на это с иной точки зрения. Она кидает вверх подушки, пытаясь сбить гуся на пол. Пока у нее ничего не получается, но в стенах торчат гвозди, на которых когда-то висели довольно-таки дрянные акварели, написанные в манере Джона Опия, корнуоллского чуда, одного из прежних завсегдатаев таверны, ныне покойного. Гусь пока не встретился ни с одним из них (еще одно чудо), но пара подушек уже нашла свою цель, и гусиный пух, словно хлопья снега, летит на Поросячий клуб. Многие из присутствующих, перемазанные жиром от бекона и жареной свинины, представляют собой довольно липкие поверхности. Двуногие, обретшие перья, начинают подпрыгивать, подражая полету гуся, но гусь отнюдь не радуется тому, что стал центром всеобщего внимания. (К тому же понятно как дважды два, откуда взялось это таинственное белое вещество.)
Среди всего этого гама один лишь Септимус слышит донесшийся из верхней комнаты стук от падения. Возможно, он подозревал, что обязательно его услышит. Взлетев по лестнице и вбежав в комнату, он обнаруживает Ламприера растянувшимся на полу. Похлопывания по щекам извлекают из глубин его желудка бессвязные междометия. Легким рывком Септимус поднимает его с пола, перебрасывает через плечо и направляется к двери, но тут в комнату проскальзывает Уолтер Уорбуртон-Бурлей.
– Подумал, может, вам нужна помощь, – ухмыляется он. – Он ее не тронул?
– Разумеется, нет, – коротко бросает Септимус и, придерживая Ламприера, выходит из комнаты, обогнув двух женщин в голубом, которые заглядывают вглубь комнаты с хозяйской заинтересованностью.
Ламприер почти в полный рост качается в воздухе, ноги, согнутые в коленях, перекинуты через плечо Септимуса, руки свесились чуть не до самого пола. Старшая из женщин останавливает Септимуса.
– Ваш выигрыш, – говорит она.
– Его, – кивает Септимус на перевернутое вниз головой тело; женщина пытается впихнуть разбухший кошелек в руки Ламприера, но безуспешно.
Его ладони не способны ничего держать. Наконец она засовывает кошелек в его полуоткрытый рот. Уорбуртон-Бурлей тем временем извлек собственный кошелек и теперь выкладывает цепочку холодных монет вдоль теплой спины девушки, по одной на каждый позвонок. Она слегка ерзает.
– Лежи спокойно, Розали, – вкрадчиво шепчет он. – Вначале всегда тяжелее всего.
Ламприер приходит в себя, когда они спускаются по лестнице. Он что-то мычит, выигрыш, словно кляп, затыкает ему рот. Он плывет вниз головой по направлению к людям, чьи ноги приклеены к потолку. Внизу хрустальное дерево звенит листьями, а вокруг него неуклюжими кругами летает большая белая птица. Голова такая легкая, что поднимает за собой все его тело вверх, почти под самый потолок. Тут все ходят вверх ногами, бедолаги.
Поросячий клуб еще не утратил интереса к гусю. Они решили исполнить в его честь серенаду и для этого разделились на солистов и хор. Пока они выстраиваются друг напротив друга, словно две команды, собравшиеся состязаться в исполнении куплетов, кто-то замечает, что гусь летает кругами (если можно назвать кругами эти затейливые кренделя), и тут же кто-то еще вспоминает о музыке небесных сфер. Раздается мнение, что если спеть нужную песню, то гусь сам спустится вниз. Аргумент слабоватый, но всем хочется петь, и после неформального голосования они решают исполнить то, что по праву может считаться гимном Поросячьего клуба. Сия «Наследственная песнь» звучит примерно так:
Кто по вертепам грязным бродит?
Кого зовут Карман Дырявый?
Кто подает на бедность шлюхам
И утешает вдов над гробом?
Твой отец! Твой отец!
Твой родитель – безобразник.
Твой отец! Твой отец!
Первый в городе проказник.
Когда наследнику достались
Долги, счета и кредиторы,
Он пьет, блудит и куролесит.
Ты узнаешь пример отцовский?
Твой отец! Твой отец! и т. д.
Ламприер выплевывает кошелек в широкое голенище Септимусова сапога.
– Унеси меня, Септимус. Ради бога…
Он старается придать своему голосу настойчивость, хотя и не уверен, что его вообще слышно. Твой отец! Твой отец! Но Септимус расслышал или просто сам все понимает. Они бредут к дверям, которые граф уже распахнул перед ними. Септимус и граф обмениваются несколькими словами, после чего граф опускается перед Ламприером на колени.
– Сэр? – Граф трогает Ламприера за плечо. – Мистер Ламприер?
– Эгхмнн?
– Мистер Ламприер? – Перевернутое вверх тормашками лицо графа выглядит очень странно.
– То соглашение, о котором мы с вами говорили ранее…
Голос графа, впрочем как и он весь, переменился. Язык его уже ничуть не заплетается, взгляд сосредоточен. Внезапно приняв очень деловой вид, граф вкратце излагает Ламприеру суть их недавней дискуссии, указывая пальцем через комнату на то место, где она происходила, и напоминает, когда и каким образом протекала эта беседа, после чего пускается рассказывать какую-то очень запутанную историю, которая сейчас явно выходит за пределы понимания Ламприера. Зачем он это ему говорит?
– …между вкладчиками. Тысяча шестисотый год должен был стать для де Виров annus mirabilis, первое же плавание должно было принести огромные доходы. Мы заняли… Ставка была очень высока; но прибыль, прибыль должна была быть такой огромной… Де Виры всегда были торговцами, всегда держали ухо востро, когда речь заходила о грузе, который можно продать. Когда предприятие провалилось, Томас, четвертый граф, остался ни с чем. Наш род ждало жалкое будущее, если бы не ваш предок. Франсуа Ламприер стал нашим спасителем, наша доля акций ровным счетом ничего не стоила, вы понимаете. Конечно, он продал ее. А когда Компания снова стала процветать, де Виры разбогатели благодаря оставшейся у них доле. Но ваш предок должен был разбогатеть вдесятеро больше против нашего. Тысячи на тысячи! Конечно, когда соглашение было разорвано, удача опять от нас отвернулась. Но мы так никогда и не узнали, почему это произошло. Осада, предательство, что-то в этом роде. Это все уже в прошлом… Но соглашение заключалось без ограничения срока действия, навсегда, я полагаю, вам это известно. Теоретически говоря, его действие должно продолжаться и продолжаться…
Предки, соглашения; совершенно очевидно, граф говорит о чем-то, что должно как-то касаться Ламприера. Вот только о чем?..
– …кто знает, где эта доля находится сейчас? Доля Ламприеров и де Виров… Это должны быть миллионы, накопленные за века, это просто трудно себе вообразить, – продолжает граф, обращаясь к Ламприеру, который пребывает в состоянии тошнотворного безразличия; его глаза под очками начинают стекленеть.
– Миллионы! – кричит граф в лицо Ламприеру.
Это уже последняя капля.
– Отвали, – говорит Ламприер, впервые в жизни прибегая к такому выражению.
Лицо графа немного отшатывается, но по-прежнему остается в нескольких дюймах от лица Ламприера. И тут со дна памяти начинают всплывать смутные воспоминания о похожей сцене. Соглашения, предки, графы Брейтские. Но это было несколько часов, несколько лет назад, в любом случае с тех пор прошло время, что толку вспоминать? Все случилось слишком поздно, и в прошлом, и не имеет никакого значения, нет, не сейчас. Твой отец!
– Ваш предок! – взывает граф.
Но Ламприеру уже не схватить сути его слов. Этот граф – очень шумный малый, думает он. Пьяный, наверное. Ламприер раздумывает – не наблевать ли ему на ботинки? Граф снова что-то кричит, но уже слишком поздно, слишком шумно, он слишком пьян, пожалуйста, уходите, оставьте меня в покое, наконец…
Но граф не уходит. Он требует ответа. Ламприер собирает последние остатки сил.
– Спросите Себдимия, – выдавливает он наконец.
Граф на секунду отворачивается.
– Готов, – сообщает он Септимусу, затем снова поворачивается к Ламприеру.
– Значит, в другой раз, мистер Ламприер, – ревет граф. – Прощайте!
– Отвали! – делает еще одну попытку Ламприер.
На этот раз, кажется, с бóльшим успехом, потому что лицо графа исчезает из поля его зрения. Голос графа, впрочем, еще слышен где-то неподалеку, затем раздается голос Септимуса, но все теряется в шуме болтовни и этого ужасного пения. Над ним (или под ним?) что-то большое, белое и, по-видимому, крылатое – хлоп! – врезается в стену. Гусь все еще летает.
– До свиданья, гусь, – бормочет Ламприер.
Септимус рывком ставит его на ноги и пинком распахивает дверь.
– Отцеубийца, – шипит гусь.
Они вываливаются в ночь, царящую за порогом.
Тучу прорвало. Леденящий дождь заливает черные улицы, обрушиваясь палочными ударами на крыши и фронтоны. Он ложится полотнищем на шифер и черепицу, взрывает водосточные трубы и сдирает побелку со стен. Он пляшет по плитам тротуара и сбегает в водостоки и канавы. Он отдраивает булыжную мостовую, разжижая грязь, отбросы и отложения, и волнами несет это месиво через трущобы и переулки, широкие улицы и дворы. Он вгрызается в кучи конского навоза, хватает рыбьи головы, старые мясные объедки и дохлых крыс, утонувших в канавах, и гонит перед собой весь этот жирный вал жидкого компоста. Завтра все это застынет зловонным струпом. Но сейчас ливень обрушился на город во всей своей очистительной силе, и струи его пробуравливают себе дорогу сквозь каменную кладку дряхлых стен и обломки колонн. Хлещущая с небес вода размывает силуэты зданий, обращая их в неистощимые водопады, фантастические фонтаны и зыбкие минареты; только так и можно умиротворить голоса давно минувшего; вот и опять погода в самый раз для избранных, ибо ни единый грех небеса не отпускают задаром.
(дискант) (дискант)
Погода чужда этим наносам на теле земли, и нужды, царящие внизу, не поколеблют ее глубокого равнодушия. Неизменной чередой идут ее циклы, и один за другим исчезают города. Сегодня – дождь, завтра – ясное небо. И так было всегда, сколько ни вздымались постройки к небесам то со страстью, то с сумрачной надменностью. Семь горделивых холмов высились вокруг малярийного болота. Натиск, с которым империя простирала свою власть все дальше и дальше и с которым позднее рассеялся по лицу земли ее первообраз, был лишь маской, скрывавшей тайный недуг. Как из-под покрывала, накинутого на девушку на кровати, проступал чей-то другой облик, так и силуэт того древнего города проступает сквозь растекающиеся формы новой столицы и тянется к нему своими тонкими ледяными пальцами. Каждая капля – напоминание о старых долгах, каждая холодная капля прочерчивает в воздухе серебряный зигзаг, подобающий способ приблизиться к своему богу…
– Этот дождь… Так холодно.
Спотыкаясь, они бредут вперед, Септимус тащит его, обхватив руками за плечи, Ламприер с трудом волочит заплетающиеся ноги. Дождь накатывает волнами, то затихая, то вновь оглушая его своим шумом. Вот и река. Ламприер пытается повернуться к своему другу.
– Что вам известно? – требовательно спрашивает он. – Черт возьми, что вам известно обо всем этом? – Он больше не в силах сдерживаться. – Что вам известно обо мне? О том, что я сделал? О том, кто я такой? – Наверное, по его лицу текут слезы, но не важно, их все равно не отличить от дождевых струй.
Лицо Септимуса каменеет. Ламприер впервые видит его таким – мраморное лицо изваяния.
– Расскажите мне, – говорит он, обнимая Ламприера за плечи, – расскажите мне все.
* * *
Но тут дождь полил как из ведра, заглушая все голоса своим монотонным шумом. Расслышать, о чем рассказывает Ламприер, усевшийся прямо в лужу на обочине, было нелегко даже его спутнику, а заметить обоих за пеленой дождя невозможно было даже с тянущейся в двух шагах от них размытой дороги, по которой брели сейчас домой две женщины в голубом, с трудом переставляя облепленные грязью, будто свинцом налитые ноги. Потоки воды неслись вслед за ними по улицам через Стрэнд и мимо Флит-маркет к Ладгейту. Небеса хлестали и буравили город. Дождь не стихал.
От Ладгейта до того места, куда шли эти женщины, ходьбы было больше часа; то был дом с темными окнами на Стоункаттер-лейн. Вода заливала крышу и переполняла водостоки, отыскивала сломанные черепицы и отмечала их беспорядочными лужицами на полу верхнего этажа. Здесь, растеряв всю свою очистительную силу, дождь проползал черными языками по уклонам половиц и просачивался на нижний этаж. Оттуда через щели в покоробленных досках пола вода проникала в угольный подвал, пропитывая влагой черный грунт в основании дома. Холодный сырой воздух, словно непрошеный жилец, гулял по перегороженным комнатам, распространяя запах тления. Дом стоял, выдерживая осаду проливного дождя, заброшенный, темный, но не вовсе пустой.
В подвал шум бегущей воды докатывался приглушенными, беспорядочными волнами. Через узкую решетку, открывавшую для обзора крохотный клочок тротуара и пустынной улицы напротив, Назиму было видно, как ветер гонит ее по мостовой. Капли воды срывались с крыльца частой дробью. Сквозь щели в досках над головой Назим различал тусклый свет в окне верхней комнаты. Голый земляной пол наклонно уходил из-под него; он лежал на спине, разглядывая дощатое перекрытие. Это была самая сухая часть подвала. Но вот прямо над ним повисла капля воды, набухла и сорвалась вниз, затем другая, и еще одна – шлеп! – прямо ему на лоб. Назим нехотя поднялся, чтобы в третий раз за ночь переместить несколько досок, заменявших ему постель. Случайная капля упала на шею, и он беззвучно выругался. Проклятый дождь.
Он оттащил доски подальше от капающей воды и снова лег. Его черные глаза глядели в пустоту, он тяжело вдыхал сырой воздух. Глаза закрылись. Он вытянул ноги на досках. Ему казалось, будто дождь просачивается в него и тело становится все тяжелее. Когда он проснется, то обнаружит, что насквозь пропитался водой и не в силах поднять свое разбухшее тело. Ерунда… Он просто растворится и превратится в ничто. Он заснет и проснется, и все начнется сначала. Снова в доки. «Заснуть, проснуться, действовать, заснуть, проснуться», – накатывало на него, словно волны. Мягкая земля немного подалась под его весом, доски съехали с места, и Назим вздохнул про себя, слушая, как тянется ночь.
Еще несколько часов оставалось до рассвета. Скоро он вернется в доки, на свой сторожевой пост. Он увидит на прежнем месте «Вендрагон», увидит всю бригаду распорядителей и грузчиков и опять будет смотреть, как холод поднимает облачками пар с потных спин. Снова увидит Коукера – так вроде его имя? Коукера, старшего в артели грузчиков, чьи слова он расслышал из своего тайника, из-под груды сваленных на причале снастей. А тот узколицый человек видел, как Назим, надвинув поглубже свою широкополую шляпу, медленным шагом удаляется за ближайший угол. Притворные уходы, тайные возвращения… Да, Коукер. Но он здесь ни при чем. Ровным счетом ничего не значит… Назим незаметно вернулся обратно и прокрался вдоль пристани, укрыться там проще простого, совсем нетрудно было подобраться поближе и расслышать, о чем говорят эти двое.
– …через несколько недель. Когда прибудет груз, вас оповестят. Вы будете готовы?
Это был не вопрос, скорее приказ. И все же голос узколицего звучал не слишком уверенно. Коукер потирал руки. Разумеется, он будет свободен, его люди тоже. Ящики, за погрузкой которых Назим следил несколько последних дней, прибывали нерегулярно. Откуда? И когда прибудут в следующий раз? Назим напрягал слух, чтобы уловить подробности, но говорившие их почти не касались. Где-то в Лондоне. Остановить реку, поднявшись к ее истоку? Назиму вдруг почудилось, что он заблудился где-то среди притоков и каналов, засмотрелся на поверхность гудящей машины, устройство которой по-прежнему ему неведомо. Вряд ли он сможет узнать что-нибудь новое, продолжая следить за «Вендрагоном». Ящики, люди, корабль… Все это складывалось в следы, уводившие его прочь от Девятерых. «Мессир Мара» – так называл узколицего Коукер. «Мессир Мара» был одним из них.
Лицо старика, которое мелькнуло в окне мансарды в тот первый день, появлялось там еще несколько раз. Назиму показалось даже, что один раз их взгляды встретились, но до окна было слишком далеко. Даже если старик изучал его, пожалуй, не следовало придавать этому значения. Едва ли они послали бы двоих наблюдать за погрузкой. «Мара» отдавал распоряжения Коукеру металлическим монотонным голосом, почти лишенным всякого выражения. Тембр его поразил Назима.
– …по две гинеи на человека, ни больше ни меньше, договорились? Только те же люди, ни одного нового, ни одного неиспытанного, мы поняли друг друга, договорились? Через две недели, считая с сегодняшнего дня, в шесть утра, договорились?
Договорились, договорились, договорились, хотя Коукер не произнес ни слова и лишь нервно потирал большие красные руки, чтобы унять дрожь, хотя каждая ладонь была, наверно, размером с голову его узколицего, худощавого собеседника. Дело было в тембре, и Назим много раз слышал, как его собственный голос принимает точно такой же тембр.
– Закопал сокровища! Всего в тридцати шагах! – Калека-моряк приближался к ним, размахивая костылем и тяжело стуча обрубками. Изо рта его вылетали бессвязные фразы, обращенные к ним обоим. – В тридцати шагах отсюда!
Коукер отмахнулся от него, но калека не умолк и не двинулся с места, даже когда Коукер угрожающе двинулся на него.
– Пошел. Вон.
Произнесенные тихим голосом слова заставили калеку тут же замолкнуть. Поворот костылей, и вот он повернулся и поплелся прочь, побрел домой вдоль пристани. «Пошел. Вон». Этот тембр, казалось, лишал воли и Назима. Да, Бахадур, твой урок… Словно тайный знак для Назима. Этот тембр появлялся и в его голосе; но он берег его лишь для последних моментов, для мгновений самой тесной близости, что случалась между ним и другими людьми… Не более чем средство заполнить промежуток, отделявший для них понимание от смерти; не более чем мост. Этот особый тембр изгонял и страх, и торжество, и удовольствие. Оставлявший только действие. Люди слышали этот голос только однажды, за мгновение до того, как ассасин наваба отнимал у них жизнь. Но сам Назим, услышав, как этим голосом говорит кто-то другой, на мгновение утратил самообладание. Он понял, чем занимается «Мара». Мара тоже был убийцей.
– Ле Мара, – снова раздался этот голос. Он поправлял своего собеседника.
– Мессир Ле Мара, – повторил Коукер послушно, как ребенок, и, продолжая бормотать про себя «Ле Мара», неуклюжей походкой двинулся к своим людям.
Назим поднял голову и успел заметить краем глаза, как в окне мансарды задернулась занавеска. Калека удалялся в противоположном направлении и был уже ярдах в пятидесяти от них.
За последующие дни обстановка почти не прояснилась. Назим следил за тем, как Коукер и другие грузчики таскают ящики туда и назад; Ле Мара также наблюдал за их работой. Корабли проходили вверх и вниз по реке, солнце светило или пряталось за тучи, но Назим так ничего больше и не узнал. И теперь, прислушиваясь к тому, как вода сочится в подвал, а снаружи без умолку шумит дождь, он спрашивал себя, каким должен быть его следующий шаг. Незнакомая земля, и затем: «Ты не должен потерпеть неудачу». Простое и прямое указание наваба – знак большого доверия; доступ в святая святых тайных желаний наваба был большой честью. Наваб избрал Назима орудием для выполнения великой задачи. «Ты не должен потерпеть неудачу, ты не должен подвести меня», – сказал ему наваб. Назим не потерпит неудачу. Он не подведет. В этом и заключался смысл их встречи, состоявшейся за несколько месяцев до сегодняшнего дня: приказание и уверенность, что он справится. Наваб послал за ним, потому что иного выхода у него не оставалось. Назим шел по коридорам дворца, наслаждаясь их несравненной прохладой. Как всегда, ему показалось, что тишина внутренних покоев тонет в его собственном настроении, в ощущении покоя. Его провели в ничем не примечательную комнату, выкрашенную в разные оттенки бледно-розового. Здесь он должен был ожидать своего господина. Назим уселся и стер из своего сознания все мысли. Так могли пройти часы, он не пошевелился бы. В саду за окном пели яркие птицы, фонтаны мелодично шумели, играя брызгами на поверхности прозрачных бассейнов, но Назим ничего не слышал.
Наваб размышлял в свое время следующим образом: он станет их партнером, будет принимать караваны, прибывающие по ночам, закроет свои уши для советников (которые ничего не будут знать), пошлет запертые сундуки к месту назначения, которое находится где-то за сотни миль и которого он никогда не видел, чтобы их там погрузили на корабль и отправили дальше, через Средиземное море, которого он тоже никогда не видел. Неужели он поступил как дурак? Он превратил свой дворец в расчетную палату, он стал простым заимодавцем, не более того, легко представить, как насмехаются над ним его предки, вот из теней в коридорах и темных углов доносится их издевательский смех… Наваб, арендатор собственного титула, а впоследствии и должник британцев, чьи потеющие набобы, промокая платками брови, вежливо, но настойчиво требовали уплаты. Они точно придерживались всех предписаний церемониала и обычаев, но не знали пощады. А он не мог заплатить. Не мог.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?