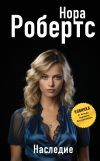Текст книги "Словарь Ламприера"
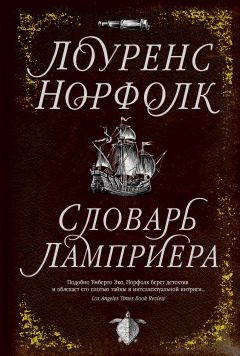
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Ей действительно завидовали, вся округа шепталась о невесть откуда взявшихся богатствах, точно легкая тень враждебности, заметная даже в том почтительном уважении, с каким жители острова относились к человеку, которого она называла отцом, не была той же тайной злобой, что вассал питал к своему сеньору, а сын вассала – к наследнику сеньора. Голос кастерлеевских богатств, чье происхождение было слишком туманно, чтобы говорить о нем с уверенностью, звучал ничуть не тише, чем жалобы любой пришедшей в упадок династии. Кто силен, тот и прав, разве не так?
Разве не так? Его холодная рука лежит на ее тонкой шее, пока он внушает ей эти мысли. О да, именно так. Другой рукой он показывает их земли на карте, разложенной на столе в зале. Его палец движется вдоль границ.
– Они стали нашими по праву завоевателя, моя Джульетта, моими – потому что я пустил в ход силу. Ты тоже сыграла в этом свою роль, и сыграла превосходно. Теперь тебе предстоит разучить новые роли. Сможешь ли ты сыграть их так, чтобы я гордился тобой?
– Конечно, papa.
Зачем спрашивать?
Большим пальцем он нежно поглаживает ямку на ее затылке, и расписанный фресками потолок мелькает перед ее глазами, когда голова ее запрокидывается. Купидончики резвятся на потолке.
Шея Ламприера подвергается не менее серьезным испытаниям, когда он вытягивает ее и всячески изворачивается, стараясь со своего ряда разглядеть то, что скрывает от его взора ее шляпка. Однако Афродита в совершенстве знает свою роль, ее голова ни разу не повернулась больше чем на несколько градусов вправо или влево. За всю свою жизнь ему ни разу не доводилось видеть ничего и никого, способного сравниться красотой с Джульеттой Кастерлей, и теперь, изнывая от болезненных в своей несбыточности видений, он уже чувствует в сердце грызущую тоску, которая, как он полагает, и есть любовь. В конце концов, разве богиня не может иметь безвестных поклонников? Правда, он был не единственным, кто поклонялся ей, даже если фантазии сыновей зажиточных фермеров, разыгравшиеся вокруг Джульетты, замешаны на мотивах не столь возвышенного свойства. Проповедь все тянулась, лысина преподобного Кальвестона блестела от пота, и он уснащал свою речь излюбленными метафорами и иносказаниями.
– Все мы – пехотинцы в армии Иисуса… И грех, который есть наш внутренний враг… Ибо разве не так же происходит и в жизни?
Продолжая следовать практике, которую он усвоил в течение последних шести недель, Кальвестон, кажется, в продолжение всей проповеди не отвел взгляда от семейства Мэттс. Ходили слухи, что Лиззи Мэттс заехала ему кулаком в глаз, хотя до сих пор никто не знал за что. Ни у кого не хватало мужества спросить об этом священника. А Лиззи все равно не проболтается. Томительное ожидание все длилось. Джульетта не отрываясь смотрела в лицо преподобному. Ламприер вяло сопротивлялся наплывающим грезам. Желудок его соседа заурчал в предвкушении завтрака. Служба закончилась.
– Давай, Джон, выходи.
Он хотел бы остаться, чтобы увидеть, как Джульетта выходит из церкви, но аппетит Пьера Дюмореска и его семейства не мог ждать. Он выбрался из ряда и тут же в проходе был подхвачен волной обновленных раскаянием грешников.
Когда он, отчаянно моргая, вышел из сумрака церкви на ослепительное солнце, его встретили насмешки бывших одноклассников.
– А вот настоящий тритон.
– Расскажи-ка нам об Овидии, профессор Ламприер.
– Жаба пучеглазая!
– Доброе утро, Уилфред, Джордж.
Он попытался скрыть робость за вежливостью, но мучители не собирались с ним церемониться. Проходя мимо них по краю дорожки, он зацепился за что-то, потерял равновесие и растянулся во весь рост. Уилфред Фидлер убрал с дорожки подставленную ему ногу. Но через секунду ему пришлось поспешно убрать и ухмылку, которая уже готова была смениться издевательским хохотом.
– Браво, мистер Фидлер! – Ламприер услышал девичий голос, звучавший сурово; насмешка на лице Фидлера сменилась растерянностью.
– Отлично, мистер Фидлер! Выиграть столь славное сражение, сам майор Пирсон позеленел бы от зависти. Позвольте мне пожелать вам успеха в предстоящей защите от кредиторов. И подите-ка прочь.
Получив столь решительную отповедь, Уилфред Фидлер удалился, размышляя, помимо прочего, над тем, как Фидлер-старший отнесется к тому, что его сын вызвал неудовольствие дочери его главного кредитора.
Пыль с церковной дорожки на вкус, если у пыли вообще есть вкус, была похуже пыли с лесной тропы. Ламприер водрузил на место свои очки как раз вовремя, чтобы увидеть, как его враги проворно покидают церковный двор. Он собрался встать, когда изящная ладонь легла на его руку повыше локтя и потянула вверх, помогая ему подняться. Еще секунду ее рука оставалась на его локте. Он почувствовал тонкий аромат, смешанный с еле уловимым запахом пота. Ее щеки еще горели гневным румянцем, черные глаза озабоченно смотрели ему прямо в лицо. Когда она спросила его, чувствует ли он себя достаточно хорошо, чтобы идти, он ощутил легкое дуновение ее дыхания на своей щеке.
– Ну-ка, пропустите меня. Теперь идите.
Толстая матушка Уэллес требовала прохода, отказать ей было невозможно. Вслед за ее величественной тушей по дорожке зашагала стройная фигурка его спасительницы. «Будьте осторожнее, Джон Ламприер», – небрежно бросила она через плечо, удаляясь. Откуда она знает его имя? Открыв рот и отряхиваясь, он смотрел, как она пригибается, входя в коляску. Краткое приказание кучеру, и коляска тронулась с места. Если бы Ламприер не подавил страстное желание броситься за экипажем и заглянуть в святилище своей богини, он увидел бы, что Джульетта Кастерлей сидит, наклонившись вперед, уперев локти в колени, с задумчивым выражением на лице.
Но он остался на месте. Он грезил о богине, и она явилась. Он упал у ее ног, и она подняла его. Он был окружен врагами, и она защитила его. Он был Парисом, который столкнулся лицом к лицу с яростью Менелая, чьи отделанные бронзовыми наконечниками рога обманутого мужа готовились пронзить его тело насквозь. Липкий страх перед болью, тупой стук в висках, набухших от крови, отнимающие силы судороги в желудке, предчувствие увечий; и затем Афродита с плащом из морской пены. Чтобы набросить на него свой плащ, спрятать его и тайно перенести в безопасное место; да, она владела им по праву завоевательницы. Он шел домой, лелея в воображении богиню, которая укрывает его облаком. От этих грез его пробирала дрожь, словно под одежду пробрались наэлектризованные пальцы и коснулись его спины. Если бы он заплакал, она утешила бы его, она прижала бы ладонь, которая была не чем иным, как туманом воображения, и все же это была ее собственная ладонь… к его губам. Он целовал бы эту ладонь, возносясь сквозь самые верхние эфирные сферы, в полной безопасности ее тесных объятий.
Весь отдавшись мечтам, он стал взбираться на холм, лежавший на пути к Розели. Облачка песчаной пыли вырывались из-под его подошв, радостно притоптывавших на ходу. Его длинные, тонкие ноги заплетались, как у марионетки, и издалека, подсвеченные отражавшимся от дороги светом, казались не толще булавок. Теперь они уже пританцовывали, подбрыкивали и подпрыгивали, потому что последние полмили до дома юный Ламприер в порыве чувств пробежал бегом.
У дверей его встретил отец:
– Доброе утро, Джон. В церкви заметили, что нас не было?
– Отец Кальвестон одним глазом все время следил за дочерьми Мэттса…
– Ха! А ты все время следил одним глазом за отцом Кальвестоном? Значит, у тебя оставался еще один глаз, чтобы следить за дорогой. – Усиленные попытки сына очистить от пыли свою одежду не были до конца успешными. – Так на что, я спрашиваю, смотрел твой второй глаз, а? Неужто тоже на семью Мэттс? Ха-ха! Ну, пошли, завтрак ждет, – воскликнул он с энтузиазмом.
Сын был совершенно ошеломлен этой вспышкой веселых подшучиваний. Обычно манеры Шарля Ламприера были более сдержанными. Когда он вошел в дом, непрестанное сопение матери в общих чертах объяснило ему причину притворного веселья отца. Так что же они тут обсуждали? За завтраком ничего не изменилось. Мать сидела молча, пока отец резал мясо, отпуская замечания по поводу овощей или погоды, игриво болтая о пустяках. Сын изо всех сил старался не отставать от отца и в течение часа наговорил вдвое больше слов, чем за весь прошлый год. Однако его недоумение росло с каждой минутой, потому что за загадочным весельем скрывалось напряжение.
Когда завтрак был закончен, Джон Ламприер поспешил в свою комнату. Бросившись на кровать, он опустил руку к стопке книг, лежавших рядом на полу, наугад взял одну из них и, не поднимая ее над краем кровати, держал в руке, как талисман. Твердая и прохладная ее весомость давала ему смутное чувство успокоения. Если он поднимет книгу и раскроет, то немедленно очутится – как бы это лучше сказать? – в каком-нибудь другом месте. Да, именно в другом, но при этом оно было здесь же, и оно было в нем самом. Там в любой момент у него есть причал для воспоминаний; вот точная мысль. Книга нагрелась в руке и, лениво выскользнув из влажных пальцев, с глухим стуком упала на пол. И почему он не сказал за столом, что обменялся приветствием с Джульеттой Кастерлей? В обычной обстановке он так бы и сделал. Тайны порождают тайны, которые также порождают тайны; тайные радости. Она спасла его – ощупью начал он пробираться к смыслу ее поступка, – возможно, с какой-то целью? Он оторвал себя от искусительных видений, к которым вела эта мысль, и стал шарить по полу в поисках книги. Согнув руку, он прочитал надпись на корешке: Sextus Propertius, Opera. Римский Каллимах. Так его называют.
Он вспомнил, как впервые встретился с поэтом. Даже не встретился, а как бы обменялся понимающими взглядами, как на ходу переглядываются соотечественники на чужой земле. Классная комната всплыла в его памяти и принесла с собой ощущение томительной скуки. Тупые звуки монотонного чтения застучали у него в голове, стоило ему вспомнить эту душную комнату и ее унылых обитателей. Взгляды Квинта на творения древних были весьма странными, но он навязывал их ученикам как догму. Бесконечные дни, наполненные зубрежкой правил грамматики и заучиванием отрывков из латинской прозы, – других средств в арсенале Квинта, школьного учителя Джона Ламприера, не было. Квинт возмущался не по возрасту развитыми способностями ученика и высмеивал его юношескую тягу к лирическим поэтам. В свою очередь ученик торжествующе указывал на малейшие ошибки Квинта и до бесконечности мог оспаривать достоинства прозаиков, в похвальбах которым Квинт поднаторел и на защиту которых вставал, можно было сказать, с подлинно лирическим воодушевлением. Когда он говорил о Туллии, чья напыщенная, высокопарная риторика заполняла страницу за страницей, не сдерживаемая никакой пунктуацией, его восторгам не было границ. Туллий был «совершенным мастером ораторского искусства», в чьих сочинениях заключен «компендиум фигур, которые могут пуститься перед нами в пляс, если мы правильно произведем их разбор», и чье «красноречие безгранично». Юный Ламприер задавался вопросом, когда мистеру Квинту хотелось слушать господина Туллия. От пристрастия мистера Квинта ни Ламприер, ни Проперций не выигрывали. Проперций хотя бы «представлял некоторый интерес своими архаизмами, стоя как поэт значительно ниже Тибулла», но бедняга Ламприер, в свои четырнадцать лет изучивший все тексты, которые Квинт мог бы предложить ученикам в обозримом будущем, быстро стал для учителя неприятной помехой. На следующий год Ламприер оставил школу, чтобы продолжать изучение Novi Poetae самостоятельно. Череда воспоминаний истощилась, и он долго лежал, не думая ни о чем. Снизу до него глухо долетали привычные звуки домашней жизни. В комнате все было неподвижно, лишь его рука, сжимавшая книгу, едва заметно покачивалась, свисая с края кровати. Как маятник, который ничего не отсчитывает и мимо которого текут пустые часы.
Солнце за окном садилось, и юноша снова обратился к книге. Он лениво читал, а огромный красный диск скрывался из виду. Пробегая глазами страницу за страницей, едва отмечая пробелы между концом одного стихотворения и началом следующего, он наслаждался поздним часом дня. Последний красный осколок исчез в сгущавшейся за окном сереющей синеве, и наступили сумерки. Он перевернул страницу.
Qui mirare meas tot in uno corpore formas,
accipe Vertumni signa paterna dei.
Как бы это перевести? Ламприер подбирал глаголы, подлежащие и дополнения, подгонял друг к другу и перестраивал, наслаждаясь тем, как строки, которые он переводил, медленно раскрывали свой смысл.
Кто восхищается, нет, кто бы ни восхищался, или добавить местоимение, для большего эффекта… Ты, кто восхищается таким обилием форм, нет, лучше обличий, в одном теле, в едином теле, прими отцовские знаки, нет, родовые знаки бога Вертумна. Прими в свою память, выучи. Да, выучи, так правильно. Обличья, тело – подходящие понятия для позднего Рима, первого города обманов.
Золото потускнело и превратилось в свинец, небо потемнело. Тучи насекомых роились под покровом сумерек и жадно сосали кровь из мягких шей коров, дремлющих под навесом. Поля лежали, забытые до весны; свинец превратился в железо, потом стал ржавчиной на лемехе плуга, когда свет померк и проступили признаки ночи. Одинокий огонек в окне далекой хижины, казалось, снялся с якоря и поплыл во мраке, деревья отступили и слились с низким небом. Поля взволновались, по ним пробежала рябь. Взгляд Ламприера был прикован к руслу, которое ручей пробил в склоне холма среди деревьев: казалось, да нет, совершенно явственно он видел, как русло стало засасывать один за другим пласты дерна в свою утробу. «Выучи, выучи», – бессмысленно вертелось у него в голове, а волосы вставали дыбом от картины, к которой был прикован его взор. Последний огонек сплавлялся вниз по ручью, чтобы попасть там в ужасное встречное течение, и оно поволокло его к длинному, тонкогубому рту, змеившемуся во мраке. Этот рот волнообразно подергивался и (пальцы, вцепившиеся в раму кровати, побелели) начинал раскрываться. Широко распахнутый, чудовищный, бесформенный рот, как разверзнувшееся жерло какого-то отвратительного погребения, разлагавшееся лицо, переплетенное корнями, которые корчились и прорывались сквозь него, осыпаясь комьями земли. Лицо распадалось в слабом мерцании тусклого света. Ламприер пытался шевельнуть языком, но пересохшее горло перехватил спазм. Он мог только молча смотреть. Вот черная прорезь рта скорчилась в трагической гримасе, ужасающее лицо стало разваливаться на бесформенные части, и из-под них показался бронзовый лик. Он плавился и вновь застывал. Он возникал, чтобы сразу исчезнуть, и являлся вновь. Его черты менялись каждую секунду, и каждая новая метаморфоза предвещала следующую. Но среди всех изменений неизменно жили бронзовые глаза, в упор уставившиеся на юношу, который, не в силах оторвать от них взгляда, хватал воздух открытым ртом, застыв в оцепенении.
Но вот и глаза стали таять. Сверкающие капли собрались в этих скорбных глазах и беззвучно упали на землю. Огромные печальные глаза говорили. Они говорили пустоте, лишенной света, ночной мгле ночи они говорили о юности и любви, о Помоне, убегавшей через цветущие фруктовые сады от берегов Лаврента вглубь острова, и о нем, молодом и сильном, настигавшем ее, и о том, как она обернулась и увидела его, украшенного венком из цветов, и как венок упал на цветущую землю, и как виноградные гроздья блестели под солнцем. Как красив и силен я был, как изобильна была и прекрасна земля, и люди слагали в честь мою песни, и они звучали повсюду, а потом песни стали слышны все реже и наконец совсем смолкли. Глаза бога плакали, жалуясь на забвение, на тягостное молчание. Черная земля призывала его вернуться, а он мог бы рассказать еще так много. Могильная тьма сковывала его память, слишком долго длилось молчание, слишком долго… И сквозь немую печаль падали слезы, и тьма набухала вокруг. Глаза обращались к печальным векам, прошедшим в забвении, они потухали и меркли, пока не исчезли безмолвно во тьме. Слезы забытого бога – тихий зов перед погружением в ночь.
Ламприер резко выпрямился: оцепенение разом отпустило его. Его била дрожь. Он подтянул колени к груди и обхватил их руками. Он порывисто дышал, шею ломило. «Я видел это своими глазами», – поразился он. Этого не могло быть, не могло… Он выглянул в окно: ручей, деревья и поля выглядели совсем обычно. Может быть, он сошел с ума? От того, свидетелем чего он только что был, не осталось и следа. Забытый языческий бог мог снова подняться из подземного мрака, и оплакивать свою судьбу, и вновь бесследно исчезнуть? И никто не узнал бы об этом? «Но я, я ведь видел, – подумал вдруг Ламприер. – Я только что думал о нем, я читал о нем… Неужели?» И уже настойчиво стучала ударами молота в голове его страшная мысль: «Это я его вызвал, я». Ему стало страшно. Он сжал голову руками. В висках стучало. Это было невозможно, но это было именно так. Он сорвался с кровати, подбежал к окну и, вдохнув воздух полной грудью, закричал в темноту:
– Я вызвал его!
Такой черной тьмы ему ни разу еще не доводилось видеть. Вслед за умолкнувшим голосом наступила абсолютная тишина. Но звуки молота внутри головы сохранялись, едва слышные, они были подобны каплям воды, он видел еще в детстве, как они падали со свода пещеры в Розельском заливе и образовывали через определенные промежутки времени приземистые сталагмиты на полу пещеры. Можно было перехватить сто, тысячу, миллион этих капель, они все равно образовывали сталагмит, на котором каждое крохотное отложение становилось новым слоем, пока верхушка не достигала свода пещеры. Он отошел от окна и вернулся к кровати. Лежа на ней, глядя в пустоту, он открыл все шлюзы своей памяти.
– Это я, – произнес он вслух, и ему захотелось усмехнуться над тем, какую простую и ужасную вещь он сказал. «Где-то во мне, – подумал он, – есть бог, который поднял свое лицо из земли, два тысячелетия он не ходил среди смертных, а сейчас прошел за моим окном». Затем он спросил себя: что еще бродит во мне?
Потом в тишине послышались непонятные звуки, которые, повторяясь все чаще, превратились в однотонный смешок. Лежа один в темноте, Ламприер смеялся сам с собой, не отдавая себе отчета, зачем и почему он смеется. Приступы смеха постепенно делались реже, пока не исчезли совсем. Он погрузился в глубокий сон. За окном луна выглянула из-за облаков и осветила своим бледным сиянием его лицо, изредка он вздрагивал всем телом, освобождаясь от внутреннего напряжения; в лунном свете лицо казалось белым и спокойным. Он спал.
* * *
Смазывая топленым жиром свое новое изобретение, отец Кальвестон чертыхался про себя. Он совсем не хотел стать священником, пастырем этих своенравных овец. Он фыркнул. Вечные помехи, полоумные старухи, которых беспокоит, не попадут ли они в ад за то, что сорок лет назад барахтались с кем-то в сене, мизерное жалованье. Каждую неделю проповедь, каждые две недели – еще какой-нибудь геморрой, вопящие щенки, которые писают в купель, пока их тупые родители топчут грязь в проходе и настаивают, чтобы малютку назвали Иезекиилем, когда в приходе их и так четверо, а лучше бы и вовсе не было. Эта работа не подходила ему, у него было другое призвание. Об этом ему говорили еще в Оксфорде. «Кальвестон, – говорили ему, – вы когда-нибудь осознавали полностью тот факт, что много званых, но мало избранных?» Осознавал! Черт возьми, да он вообще не думал ни о чем другом. Разве еще о том, что его не звали, а послали, и поскольку пославшим был его собственный отец, то ему ничего другого не оставалось, как стать слугой Господа, хотел этого Сам Господь или нет. Если хорошенько поразмыслить, думал он, то Господь, пожалуй, и не хотел, но разве у него был выбор? Дорогой братец Майкл унаследовал землю да и продал ее вместе с зарытым в нее телом отца, которое еще не успело остыть. А ему достался приход. Черт возьми! Он выругался вслух, не столько на братца Майкла, этого продувного коротышку-расточителя, сколько на собственную неловкость – он защемил большой палец в недрах сложного механизма, который чистил, и тот никак не удавалось вытащить обратно. О-ох! Палец освободился, и он встал, чтобы обозреть предмет своих трудов.
Тот возвышался фута на четыре, его бока из литого железа тускло блестели. Он был похож на водяной насос, только цилиндр, по которому вода поступала бы наверх, был наполовину срезан. Сложный шестеренчатый механизм виднелся на конце похожего на поршень предмета, который проходил через цилиндр и заканчивался рукояткой. Это было его собственное изобретение, успешно одолевшее все стадии своего создания, от зарождения первоначальной идеи до воплощения в материале. К сожалению, приспособление для ощипывания цыплят получилось чересчур эффективным. Оно скорее потрошило цыплят, но потрошенные цыплята в перьях оказались товаром, который не нашел рынка сбыта на Джерси. С машинкой для стрижки волос тоже вышла накладка. Парнишка старого Кру поднял такой шум. Правда, сейчас волосы уже отросли и закрыли проплешины. Но его последнее и самое великое изобретение было совсем другого рода. А-ах! Он вытащил палец из вторично зажавших его зубьев и с горестным видом принялся сосать ноготь. Он мог бы прославиться как великий Изобретатель, как настоящий Муж Науки. Если бы только служба не отнимала столько времени.
Мысли преподобного Кальвестона вернулись к пастве, что не улучшило его настроения. Черт побери, вот совсем недавно этот самоуверенный юный олух разразился тут потоками слов, чтобы уговорить его изгнать бесов с поля за домом своего отца. Подумать только, он примчался чуть ли не с зарей требовать экзорцизма! Да об экзорцизме забыли на Джерси две сотни лет назад, и если Джону Ламприеру так уж приспичило, то, черт бы его взял, пусть занимается этим сам. Глупый юнец болтал о древних богах, которые встают из земли и не то ухмыляются, не то плачут, что-то там одно из двух. Если этому идиоту нужен Папа, пусть поезжает в Рим. Это должно было заставить его заткнуться, но в конце концов Кальвестон всучил ему один из этих памфлетов, «О Правильном Выведении Духов, Исходящих из Заднего Прохода», или как там. Старый Эли все еще печатает эти дурацкие вещицы и рассылает целыми ящиками. Бог его знает почему, но отец Кальвестон не следовал этим указаниям. Он также сомневался в том, что Эли следует, этакий болван, старый… Но машина ждала, у него были более важные дела, чем дурости Эли, и ими следовало заняться. Давно пришла пора опробовать изобретение.
Он взял в руку одну из лежавших на верстаке пяти картофелин, ощущая в ладони ее гладкую, холодную кожицу. Отец Кальвестон собрался и крепко ухватился за рукоятку. На лице у него появилось выражение предвкушаемого удовольствия, отчего он даже стал выглядеть моложе. Когда маленькие капельки пота просочились сквозь кожу, его лысина засияла, придав ее поверхности маслянистый блеск.
* * *
Ламприер возвращался от отца Кальвестона, и только изредка его мысли забредали в запретные области, о которых он рассказал священнику. Преподобный отец, кажется, был очень занят, когда Ламприер явился к нему, и скептически отнесся к просьбе о духовном руководстве, насмешливо встретив его рассказ о ночном видении, когда Ламприер заставил себя описать, что произошло этой ночью. Впрочем, Ламприер и не возлагал на свой визит слишком больших ожиданий.
В небе сияло утреннее солнце. Повинуясь внезапному порыву, он подбежал к старому солидному дереву, около которого тропинка делала почтительный изгиб. Без размышлений он вскарабкался по стволу и с разгона попал в подобие гамака из древесных ветвей, где и уселся, наслаждаясь новизной вида, открывшегося ему с высоты. Откуда-то издалека доносился лай собак, солнце плясало на листьях живыми бликами, легкий бриз шевелил зеленый покров, под которым приютился юноша. Длинная процессия муравьев медленно продвигалась по соседнему суку. Он перебрался поближе и несколько минут следил за ними. Он никогда не подозревал, что муравьи живут на деревьях. Какая сила заставляет их маршировать такой строгой колонной? Снизу послышался шорох легких шагов. Ламприер немного повернулся на своих ветках и потянулся рукой к суку для поддержки, наклонившись вперед, чтобы рассмотреть того, кто шел по тропинке. Сигналы тревоги и призывы к битве, смешавшие ряды муравьев, остались незамеченными Ламприером. Толстые белые гусеницы, которые ползли рядом с муравьями под корой, в мгновение ока теряют свой покров, когда рука Ламприера хватается за трухлявый сук и сминает его, как бумагу.
Искры сыплются из глаз Ламприера, приземлившегося на пыльную тропку. Пока он пытался понять, что случилось, чья-то неведомая рука крепко взяла его за воротник и помогла подняться на ноги.
– Ваше пристрастие к земле больше подходит фермеру, чем ученому, – услышал он голос.
Этот голос заставил Ламприера, который пытался устоять на ногах и одновременно стряхнуть пыль с одежды, резко вскинуть голову. Ему улыбалась Джульетта своей самой приветливой улыбкой. Прядь ее черных как смоль волос выбилась из-под шляпки и лежала на щеке, где от улыбки появилась ямочка. Ламприер был потрясен и утратил дар речи. Каким смешным, должно быть, выглядит он в ее глазах, он, который по меньшей мере на пять лет старше ее, а ведет себя словно проказливый школьник. Неудивительно, что она смеется над ним. Но ее улыбка была дружеской, а не насмешливой. Он кашлянул, и ему удалось улыбнуться в ответ.
– Доброе утро, мисс Кастерлей.
Это прозвучало вполне приемлемо. Затем наступило молчание. Они смотрели друг на друга. Он должен что-то сказать, может быть, комплимент?
– Ваши волосы… – и остановился. Что бы он ни сказал о ее волосах, это могло показаться неприличным, ведь они такие черные и густые…
– Ой! – Она подхватила вылезшую прядь и затолкала ее обратно под шляпку. – Я бы и не заметила. – Ее пальцы пробежали над ушами, голова чуть откинулась назад.
– Нет-нет, я не имел в виду… Я хотел сказать, что они очень красивы, по крайней мере, я подумал, что они очень…
Вот это уже никуда не годилось. Возможно, ему следует притвориться сумасшедшим и убежать. Безумцы могут совершать самые дикие поступки, и их за это прощают. Но Афродита, за плечами которой стоял опыт двух и еще одного тысячелетий, казалось, понимала Джона Ламприера очень хорошо.
– Ваше падение сэкономило мне время и силы, – весело заявила она. – Papa имеет честь просить вас…
Ламприер прислушивался не столько к тому, что она говорит, сколько к звукам ее голоса, пока Джульетта объясняла, что в библиотеке Кастерлеев, которая была целиком приобретена на континенте в каком-то разорившемся имении, имеются досадные пробелы.
– Там несколько тысяч томов…
Она легко произнесла эту цифру, но по выражению его лица поняла, что он проглотил крючок. Несколько тысяч! Ламприер даже вообразить себе не мог такого количества книг.
– Там несколько тысяч томов, – повторила она небрежно, – и ни одного из тех, в изучении которых вы так отличились, доктор Ламприер.
– Пока я еще не доктор, – пролепетал Ламприер.
– Среди этих книг совершенно не представлены древние авторы. Papa полагает, что это серьезный повод для беспокойства, вы, должно быть, это понимаете, и что именно вы тот человек, который может восстановить этот пробел, – продолжала она. Ее papa будет благодарен Ламприеру, если тот укажет ему на несколько подходящих изданий; отец слышал о Ламприере как о молодом ученом, подающем большие надежды, и ценит его мнение. Ламприер сможет пользоваться библиотекой в любое время… Не мог бы он прийти в следующий четверг?
Назначь она даже столетием раньше и в Восточной Индии, Ламприер не смог бы отказаться. Он покраснел от удовольствия и смущенно затеребил свои очки, когда Джульетта сказала, что они будут ждать его после завтрака. Она протянула ему руку, попрощалась и пошла по тропинке. Через десять шагов она обернулась.
– Джон Ламприер! – окликнула она его. – Скажите мне, отец Кальвестон сегодня дома?
* * *
Пять картофелин в ряд. Захочет ли он есть сегодня вечером? Сколько картофелин ему потребуется, чтобы утолить голод, – две или три? Двух будет достаточно, подумал он. Очень хорошо, значит, три можно использовать для его изобретения. Напевая про себя какой-то мотив и двигаясь большими, целеустремленными шагами, преподобный отец Кальвестон нежно сдавил в руке первую картофелину и сунул ее в цилиндр.
– Пошла, – произнес он вслух, надавив на рукоять.
В недрах механизма сложная система поршней, зубьев и шестеренок пришла в движение, железные детали слились в едином мелькании. Они со стуком ударялись друг о друга, прежде чем вонзиться в волокнистую плоть картофелины. На блестящий железный поднос из нижней части цилиндра упала первая капля, а затем клейкий комок раздавленного пюре. Отец Кальвестон с гордостью смотрел на свое изобретение: это была картофелемялка. Но уже бежало по всей его чувствительной белой коже это щекочуще-покалывающее ощущение… Просто при виде холодного липкого пюре. Он сунул в цилиндр вторую картофелину и с силой надавил на рукоять.
* * *
Какой глупый вид был у Ламприера, когда он свалился посреди дороги, разбросав руки и ноги в разные стороны. Зачем он залез на дерево? Papa сказал, что он очень образованный. Очень ученый, хоть и краснеет, как свекла, каждый раз, когда смотрит на нее. Как свекла. Но ей это даже нравится. Papa рассердился бы, если б узнал. Но papa все равно догадается, она знала. Papa знает все. Он заранее знал, что Джон Ламприер влюбится в нее без памяти, и вот пожалуйста – он падает, гримасничает и заикается, стоит ей лишь поднять руку, чтобы поправить волосы.
– Эгей, там!
Она небрежно вскинула голову. Этот фермер снова приветствовал ее. Дурацкий мужик в дурацкой шляпе с загнутыми полями. «Как они могут целый день гнуть спину в поле? Но каждому порой приходится делать вещи, которые не по душе, – подумала она. – По своей воле разве я пошла бы разговаривать с этим лысым, словно яйцо, надутым, как индюк, священником?» Дом Кальвестона уже виднелся из-за деревьев. Джульетта неохотно направилась к нему.
* * *
Холодный, хлюпающий, мятый картофель. Белый и липкий, серый и клейкий. Пригоршни и комки чавкающего, скользкого, перепачканного, перемешанного с потом картофельного пюре. Какое наслаждение размазывать его по телу огромными щедрыми пригоршнями. Отец Кальвестон, голый. С картофелем. Он корчился, он трепетал, он растекался в картофельных пароксизмах блаженства. Леденящий комок на шее тонкой струйкой растекся вдоль позвоночника и исчез между дрожащими полушариями ягодиц. Скользкая оболочка на груди, набухшие соски, напряженный пупок. Студенистая, вязкая масса, размазанная и разбрызганная по его голому-преголому телу. Как он любит ее, такую волнующую и омерзительную, как все соки поднимаются в нем, чтобы слиться с картофельными соками, чтобы слиться, пока поворачивается дверная ручка, невидимая из дальнего угла комнаты, чтобы слиться, пока скрипят петли, слишком поздно насторожившие его, он поворачивается, чтобы слиться…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?