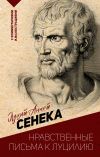Текст книги "Сенека. Собрание сочинений"

Автор книги: Луций Сенека
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Письмо LI
О Байских купаниях
Кто как может, о мой Луцилий. Ты живешь по соседству с Этной, прекраснейшей сицилийской горой (которую, никак не могу понять почему, Мессала или Вальгий, так как у них обоих я читал это, называют единственной, тогда как и во многих других местах из земли выходит огонь, и притом не только из высоких гор, но также из низких; первое, правда, случается чаще, конечно, потому что огонь стремится вверх). Я же, насколько могу, довольствуюсь Байями, откуда я, впрочем, уехал на другой день после того, как приехал, считая их за место, которого следует избегать, как ни богато одарено оно природой, за то, что его избрала местом своего пребывания роскошь. Это, впрочем, не значит, что следует ненавидеть какое-либо место; но как не всякая одежда прилична для мудреца и человека серьезного, хотя мудрец и не ненавидит никакого цвета, а только считает некоторые цвета непригодными для того, кто проповедует умеренность, так бывают и страны, которых избегает мудрец, или даже только стремящийся к мудрости, как чуждых добрым нравам. Так, заботясь об уединении, мудрец не изберет для этой цели Канона, хотя Канон сам по себе не мешает вести умеренную жизнь; не изберет мудрец и Байев, так как этот город стал пристанищем пороков. В нем роскошь позволяет себе проявляться наиболее резко; в нем нравы распущеннее, как будто в известном месте допускается большая распущенность, чем в других. Мы же должны выбирать для своего пребывания места здоровые не только для нашего тела, но и для наших нравов. Я бы не хотел жить ни в обществе палачей, ни в обществе кутил. Что за необходимость смотреть на пьяниц, шатающихся по берегу моря, на флотилии гуляющих, на озера, с которых раздается пение хоров, и на другие тому подобные вещи, которыми роскошь, хотя и дозволенная законами, не только грешит, но и выставляется напоказ? Следует, безусловно, избегать даже самых поводов к порокам. Надо закалять свой дух и удалять его от прельщения страстей. В одну зиму Ганнибала, неукротимого альпийскими снегами, расслабили горячие ключи Кампании. Он, побеждавший оружием, был побежден пороком. Мы тоже на войне, и притом на такой войне, на которой никогда нет ни отдыха, ни покоя. Мы должны воевать со страстями, а страсти, как видишь, овладевают иногда даже самыми строгими умами. Тот, кто предначертал себе совершить великое дело, должен знать, что при выполнении его нельзя быть ни слабым, ни мягким.
Какой мне прок в горячих источниках? На что мне бани, в которые нагоняют сухой пар, чтобы заставить потеть тело? От работы оно и без них покрывается потом. Если бы мы, подобно Ганнибалу, прекратив все дела и оставив войну, занялись согреванием наших тел, то всякий по справедливости мог бы упрекнуть нас в опасной лености, несвоевременной даже для победителя, а тем более для того, кто еще только что начал побеждать; нам менее, чем карфагенским войскам, позволительно предаваться отдыху, так как при отступлении мы подвергаемся большей опасности, и даже при продолжении военных действий нам остается больше дела. С нами воюет сама судьба за то, что мы не хотим покориться ее велениям. Мы не только не согласны подчиниться судьбе, но отвергаем ее, а для этого нужна большая храбрость. Раз поколебавшийся, дух уже не принадлежит себе; если он уступил страсти, придется уступить скорби, труду и, наконец, бедности. Равным образом захочет иметь над ним власть и честолюбие, и гнев, и он не выдержит напора стольких влияний и погибнет. Наша цель – свобода; ради нее подъемлются все труды. Но в чем состоит свобода? Не быть рабом никакой вещи, не зависеть ни от какой случайности, ни от какой необходимости – быть равным самой судьбе. В тот день, когда я пойму, что я сильнее ее, она потеряет надо мной всякую власть. А судьба станет покорна мне, если в моих руках будет смерть.
Чтобы предаваться таким размышлениям, следует избирать места серьезные и святые. Чрезмерная живописность изнеживает душу, и, без сомнения, местность может повлиять на упадок бодрости. Вьючные животные легко переносят всякую дорогу, если копыта их окрепли на жесткой почве. Напротив, животные, выросшие на мягком и болотистом пастбище, легко портят копыта. Солдаты, набранные в горных округах, бывают выносливее. Напротив, городские жители и рабы ленивы. Руки, призываемые к оружию от плуга, не боятся никакой работы. Руки, привыкшие к умащениям, отказываются от самой легкой. Строгая суровость местности делает дух бодрее и способнее на великие дела. Сципион предпочел, как место своей ссылки, Литерны Байям: в Литернах он не мог с таким комфортом переносить свое падение. Даже Кай Марий, Гней Помпей и Цезарь, на которых судьба впервые возложила счастье всего римского народа, хотя и построили себе виллы в Байских окрестностях, однако расположили их на вершине горы. Казалось, и здесь они хотели воевать и наблюдать с возвышенного поста на далекое расстояние все, расположенное внизу. Стоит обратить внимание на то, какое место выбрали они для своих вилл и какие строения в них возвели: подумаешь, что здесь не дачи, а крепости. Не думаешь ли ты, что в этом уголке согласился бы когда-нибудь жить Катон и считать, сколько проплыло мимо него блудниц в галерах, сколько различных сортов расписанных яркими красками лодок спущено на воду, сколько роз плавает по озеру, или слушать по ночам хоры певцов? Он предпочел бы прожить всю жизнь в палатке, раздвигая ее каждую ночь собственными руками. Да и какой мужчина предпочтет пробуждение от звуков мелодии пробуждению от звука военных сигналов.
Довольно, впрочем, вести тяжбу с Байями; только с пороками следует вечно воевать. Преследуй их, о Луцилий, без конца и без меры, ибо нет им конца и нет меры. Исторгни же пороки, которые льстят твоему сердцу, иначе придется потом самое сердце вырвать с ними. Особенно преследуй страсти и считай их злейшими врагами. Подобно разбойникам, они ласково обнимают нас, чтобы поразить ножом.
Письмо LIV
О приближении смерти
Давно я не подвергался никаким болезням, но на днях внезапно заболел. «Чем же?» – спрашиваешь ты. И вопрос твой не излишен, так как ни одна болезнь не осталась мне неизвестна. Но я как будто обречен на страдания преимущественно от этой болезни, которую мне не хочется, впрочем, называть ее греческим именем. Она достаточно точно определяется словом «удушье». Припадки ее коротки, но подобны бурям. Они длятся не более часа. И кто бы мог дольше задыхаться? Я испытал многие телесные недуги и боли; но ни одна не была для меня так тяжела, как эта. Ибо всякая другая боль – болезнь, а эта – агония. Недаром врачи называют ее подобием смерти. Душа, наверное, когда-нибудь отлетит во время этих припадков, как постоянно порывается сделать это.
Ты думаешь, что я рассуждаю теперь так спокойно, потому что болезнь прошла. Было бы так же неосновательно считать прекращение ее за выздоровление, как за выигрыш процесса – отсрочку судебного разбирательства. Но, даже задыхаясь, я старался успокоить себя веселыми и бодрыми размышлениями. «Что случилось? – говорил я себе. – Смерть испытывает меня. Пускай себе. И я долго испытывал ее». Ты спросишь, может быть, когда это я испытывал смерть? Еще до своего рождения. Ведь смерть – это небытие. Каково оно – я уже знаю. После меня будет то же, что было раньше меня. Если в смерти есть какая-либо мука, очевидно, она была уже раньше, чем мы явились на свет. Но тогда мы не чувствовали никаких страданий. Воспользуюсь следующим сравнением. Не нелепо ли думать, что светильнику хуже после того, как его погасят, чем до того, как его зажгут? Мы тоже загораемся и гаснем. В этот промежуток времени мы испытываем некоторое страдание. Вне его, по обе стороны, должен быть полный покой. Мне кажется, о Луцилий, что наша ошибка в том, что мы думаем, будто смерть только следует за жизнью, тогда как она и предшествовала ей, и последует за нею. Все, что было до нас, – смерть. Так не все ли равно, не начинать вовсе или перестать, если результат один и тот же – небытие?
Такого рода увещаниями, конечно мысленными, потому что говорить я был не в силах, я не переставал себя успокаивать. Между тем мало-помалу удушье успевало перейти в одышку, начинало повторяться через большие промежутки времени, затем одышка уменьшалась и, наконец, совсем проходила. Но и до сих пор, хотя болезнь прошла, дыхание не пришло еще в полный порядок; я чувствую в нем некоторое затруднение и задержку. Впрочем, и то хорошо, лишь бы мои вздохи не тревожили души. Итак, знай теперь, что я бестрепетно встречу последний час: я уже приготовлен к нему и не думаю о смерти. Ты же подражай тому, кому не жаль умереть, хотя отрадно было жить. Есть известная доля доблести и в том, чтобы уйти, когда гонят. Надо только делать вид, как будто уходишь добровольно. Мудреца же совсем нельзя прогнать, ибо быть выгнанным – значит быть насильно, против желания, удаленным откуда-нибудь. А мудрец ничего не делает против своей воли. Он избегает принуждения тем, что сам желает того, к чему принуждает его необходимость.
Письмо LVI.
О неприятных звуках
Я погиб бы, если бы для человека, углубленного в занятия, молчание было в самом деле так необходимо, как это кажется на первый взгляд. Я живу как раз возле бани и в настоящую минуту вокруг меня раздаются всевозможные звуки. Представь себе звуки всякого рода, способные, каждый, заставить ненавидеть самый орган слуха. Тут и шум, производимый занимающимися гимнастикой, и звуки швыряния тяжелого свинцового шара, и кряхтение работающих, или, вернее, изображающих из себя работников; мне слышно, как они тяжело дышат, задерживают дыхание и испускают затем хриплые, тяжелые вздохи. Мне слышно хлопанье жирной руки по плечу умащающихся маслом, причем по роду звука я могу различить, как ударяют – раскрытой или согнутой ладонью; до меня доносится треск мяча, ударяющего в поставленные, как цель, столбы. Порой раздаются визг и крики пойманного вора. Прибавь к этому тех, кому нравятся звуки собственного голоса, раздающегося в бане, наконец, тех, которые прыгают в бассейн, с великим шумом и плеском разбрызгивая воду. Кроме этих людей, у которых, по крайней мере, хоть человеческие голоса, представь себе еще визгливый и тонкий голос цирюльника, который, желая обратить на себя внимание, пронзительно кричит и не умолкает до тех пор, пока кто-нибудь не поручит ему выдергивать волосы, и тогда он заставляет кричать за себя другого. Затем различные крики продавцов фруктов, пряников, мяса и других разносчиков, предлагающих свои товары, выкрикивая их на различные голоса. «О, – воскликнешь ты, – ты или из железа, или глух, если рассудок твой не помутился среди столь разнообразных и неблагозвучных криков, тогда как стоика Хризиппа довели до смерти одни непрерывные приветствия». Клянусь, меня этот шум беспокоит не больше, чем журчание текущей воды, хотя, как известно, один народ перенес свой город на другое место только из-за того, что не мог переносить шума, производимого течением Нила. Звуки голоса, впрочем, раздражают больше, чем неопределенный шум. Первые развлекают мысль, второй же только тревожит слух. Когда я занимаюсь, мне нисколько не мешает грохот катящихся экипажей, стук поселившегося по соседству плотника или кузнеца, или даже фабриканта музыкальных инструментов, настраивающего свои трубы и флейты возле фонтана, если только он не играет, но лишь перебирает отдельные ноты. Звуки, прерывающиеся через известные промежутки времени, для меня неприятнее тех, которые длятся непрерывно. Но я настолько привык и к ним, что могу равнодушно переносить даже резкий голос управляющего лодкой, подающего такт гребцам. Я принуждаю свой ум оставаться сосредоточенным, не развлекаясь никакими внешними явлениями. Пусть снаружи раздаются всевозможные звуки, лишь бы в душе не было никакой тревоги, лишь бы в ней не бушевали страсти или страх, и не явились во взаимной вражде скупость и расточительность. Что пользы в молчании окружающего мира, если в душе бушуют страсти. Неправду сказал поэт, будто
Тихая ночь приносит с собою спокойствие миру.
Спокойствие достигается только рассудком. Ночь возбуждает тревоги, а не устраняет их, и только изменяет род беспокойства. Часы бессонницы так же бурны, как и дневные. Только такое спокойствие прочно, которое обусловлено совестью. Посмотри на человека, для сна которого необходима тишина целого большого дома. Чтобы ни единый звук не достигал его слуха, вся толпа рабов смолкает, пока он спит, и ходит вокруг него на цыпочках; и разве он все-таки не мечется во сне и туда и сюда, засыпая больным, слабым, чутким сном? Порой он жалуется, что слышал звуки, которых на самом деле не мог слышать. Что за причина этого, по-твоему? Дух его беспокоен. Надо его успокоить, надо укротить его мятежность. Нельзя назвать покоящимся человека только оттого, что тело его лежит. Самый покой может быть беспокоен.
Всякий раз, как овладеет нами тягостное чувство вялости, следует стараться приняться за дело или заняться искусствами. Опытные полководцы, замечая, что солдаты плохо повинуются им, задавали им какие-либо работы или предпринимали походы. Таким образом, у солдат не оставалось времени на пустые мысли, а известно, что пороки праздности всего лучше искореняются с помощью труда. Мы часто видим, что общественные деятели удаляются от дел, почувствовав отвращение к занятиям и досаду на свои неудачи; но в уединении, в которое забросит их уныние и усталость, снова разгорается их честолюбие. И это потому, что оно и раньше не исчезало, но было лишь притуплено и подавлено неблагоприятным положением дел. То же надо сказать и о невоздержности, которая иногда как будто и ослабевает, но потом снова волнует человека, ведущего уже умеренную жизнь, и среди полного благоразумия воскресают оставленные, но не осужденные страсти, и притом с тем большею силою, чем более их скрывали. Ибо все пороки ослабевают, когда обнаружатся; так и болезни, клонясь к выздоровлению, выступают наружу и проявляют всю свою силу. Так же точно и скупость, и честолюбие и другие душевные пороки тем опаснее, чем более душа, зараженная ими, похожа с виду на здоровую.
Иногда, по виду, мы отдыхаем, но этого нет на самом деле. Ибо если бы совесть наша была спокойна и если бы мы действительно ушли от жизни, презрев прельщения страстей, то, как я сказал уже раньше, ничто бы не развлекало нас, никакие голоса, ни птичьи, ни человеческие не могли бы помешать нашим серьезным и глубоким размышлениям. Нельзя назвать сосредоточенным того человека, который готов прислушиваться к посторонним голосам и случайным звукам. Значит, внутри его есть еще скрытое беспокойство и частица страха, делающая его любопытным. Вергилий говорит в одном месте:
Прежде мой дух смутить не могло никакое оружье,
Ни стоявшее против враждебное воинство Грайев.
Ныне же в трепет меня повергает ничтожнейший шорох, —
Столь я боюсь за того, с кем иду, и за то, что несу я.
В первых стихах мы видим мудреца, которого не устрашает ни звон оружия, ни сражающиеся друг против друга густые ряды войск, ни треск рушащихся стен осажденного города. В последних – перед нами слабый ум, который боится за свое имущество и пугается малейшего шороха: малейший звук он принимает за стон и дрожит, и легчайшее движение вызывает в нем трепет. Он стал боязливым из-за своего бремени. И всякий из числа тех считаемых счастливыми людей, которые много несут с собою и много тащат за собою, как ты легко можешь в том убедиться, боится за того, с кем идет, и за то, что несет он.
Считай за признак полного развития, если тебя не будет смущать никакой шум, не будут волновать никакие голоса, слышатся ли в них льстивые слова или угрозы, или просто пустые звуки. Но, сознаюсь, из этого еще не следует, чтобы не было удобнее избегать шума. Потому и я уеду из этого места. Я хотел только испытать себя. Нет никакой необходимости дольше терзать свой слух, когда еще Одиссей, оберегая своих спутников, придумал прекрасное и простое средство – даже против Сирен.
Письмо LXIII
Не следует слишком оплакивать утраты
Мне грустно, что умер твой друг Флакк, но я не хочу, чтобы ты слишком предавался горю. Я не смею требовать, чтобы ты совсем не горевал, хотя знаю, что последнее было бы всего лучше. В самом деле, такая твердость духа присуща человеку, возвысившемуся над самою судьбою. Утрата друга огорчила бы его, но и только. Нам же простительны слезы, если только они текут не слишком обильно и если мы сами стараемся их унять. Не следует встречать весть о смерти друга с сухими глазами, но не следует и разливаться в слезах. Можно поплакать, но не надо громко рыдать. Тебе кажется, что я требую от тебя чрезмерной суровости, а между тем величайший из греческих поэтов ограничил срок оплакивания всего одним днем, заставив Ниобею думать о еде в тот же день, в который она потеряла своих детей. Ты спросишь, зачем же тогда люди причитают и неуместно оплакивают покойников? В слезах мы ищем доказательства горя и не столько следуем влечению скорби, сколько показываем ее другим. Никто не плачет, оставшись один. Как это ни глупо, однако есть доля тщеславия в самой скорби. «Неужели же, – возражаешь ты, – я должен забыть своего друга?» Коротка же твоя память, если она не переживет скорби, ведь ты уже теперь способен смеяться сквозь слезы всякому пустяку. Не говорю уже о том, что будет позже, когда скорбь смягчится и тяжелые припадки тоски прекратятся. Едва ты перестаешь следить за собою, печальное выражение сходит с твоего лица. Ты сам стережешь свою печаль. Но, несмотря на твою бдительность, скорбь прекратится и притом тем скорее, чем была острее.
Будем поступать так, чтобы нам было приятно воспоминание об утраченных друзьях. Ведь никто не вспоминает охотно того, о чем не может думать без огорчения. Конечно, неизбежно испытывать горечь утраты при воспоминании о тех, кого мы любили; но в самой горечи этой есть известного рода наслаждение. Стоик Аттал говорил: «Память об усопших друзьях так же приятна, как бывает приятна некоторая доля кислоты в яблоках или терпкость очень старого вина. Когда же пройдет некоторое время, то все, что заставляло нас страдать, исчезнет и останется одно беспримесное наслаждение». Далее он продолжает: «Память о живых друзьях подобна меду или прянику; память об усопших приятна нам, хотя и содержит в себе некоторую горечь. Но кто станет отрицать, что порой и острое и даже терпкое способно возбуждать аппетит?» Я не согласен с Атталом. По-моему, размышления об усопших друзьях приятны и сладки. Когда они были живы, я знал, что потеряю их; когда же я их потерял, я вспоминаю, что все-таки имел их. Итак, о Луцилий, будь благоразумен и перестань ложно толковать благодеяния судьбы. Она отняла, но она же ведь и дала.
Мы оттого так жадно пользуемся обществом друзей, что не знаем, как долго можно будет им пользоваться. Припомним, как часто мы покидали их, отправляясь в какое-нибудь дальнее путешествие, как часто не видались с ними, живя в одном месте, – и мы поймем, что мы гораздо больше не пользовались их обществом при их жизни. Подумай также о тех людях, которые дурно обращаются с друзьями, а затем предаются глубочайшей скорби и начинают любить только тогда, когда потеряют. Конечно, они тем неудержнее предаются печали, что боятся, как бы не возникло сомнения в том, действительно ли они любили? В слезах они ищут запоздалого доказательства своих чувств.
Если у нас есть другие друзья, то мы слишком низко их ценим, если думаем, что они ничего не значат при утрате одного из них. Если у нас нет больше друзей, то, значит, мы сами причинили себе гораздо больше вреда, чем причинила его нам судьба. Судьба отняла у нас только одного друга, а мы не сделали себе ни одного. Наконец, человек, у которого любви хватило только на одного, не мог и этого одного любить достаточно сильно. Если бы кто-либо, лишившись своего единственного платья, стал бы плакаться вместо того, чтобы подумать, каким образом защититься от холода и найти какое-либо одеяние, – разве не показался бы тебе такой человек совершеннейшим глупцом? Ты потерял любимого человека. Старайся полюбить другого. Благоразумнее заместить усопшего друга новым, чем плакать.
Я знаю, что то, что я собираюсь тебе сказать, составляет уже избитую истину, однако я все-таки повторю ее еще раз: если ты сам не положишь конца своей скорби, его положит время. Но, по-моему, благоразумному человеку должно быть стыдно излечиваться от горя усталостью. Лучше самому оставить печаль, чем быть оставленным ею. Потому оставь то, чему ты не можешь предаваться долго, даже если бы и хотел. Наши предки назначили женщинам для траура годичный срок не для того, чтобы они носили его так долго, но чтобы не носили его дольше. Для мужчин в законах нет указаний относительно срока траура, потому что нет для них достаточно приличного срока. И, однако, назови мне хотя одну женщину из числа тех, которых с трудом могли оттащить от погребального костра, едва могли оторвать от дорогого им праха, слезы которой длились бы целый месяц. Ни одна вещь не надоедает так скоро, как печаль. К тому же, пока она свежа, она еще находит себе утешителей и даже привлекает к себе иных людей; когда же она слишком продолжительна, то становится смешною, и не без причины. Она или притворна, или нелепа.
Все это пишу тебе я, который в свое время так неумеренно оплакивал Аннея Серена, что попал – помимо своего желания – в число тех, которых побеждает скорбь. Теперь я осуждаю свое поведение; для меня ясно, что главная причина моей скорби заключалась в том, что я не думал, что Серен может умереть раньше меня. Я помнил только то, что он был моложе меня, даже значительно моложе; как будто смерть соблюдает старшинство! Поэтому всегда помни, что и ты сам, и все, кого ты любишь, смертны. Я бы должен бы в то время помнить это: «Серен моложе меня. Но что ж из этого? Он должен пережить меня, но может умереть и раньше меня». Я не хотел этого знать, и судьба сразила меня неожиданно. Теперь я твердо знаю, что все мы умрем, и притом неизвестно когда. То, что может случиться во всякое время, может случиться и сегодня. Итак, о Луцилий, будем думать, что и мы скоро отправимся туда, где теперь тот, кого мы оплакиваем. И, быть может, если не пустая басня мудрецов, что после смерти мы переселяемся в особую обитель, тот, кого мы считаем погибшим, только послан вперед нас.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.