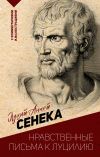Текст книги "Сенека. Собрание сочинений"

Автор книги: Луций Сенека
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Письмо LXXX
О преимуществах бедности
Сегодня я пользуюсь покоем и свободой не столько благодаря самому себе, сколько благодаря театру, на котором идет сферомахия, привлекшая к себе всех докучливых посетителей. Никто ко мне не врывается, никто не мешает моим размышлениям, которые, вследствие самой уверенности в ненарушимости их, развиваются смелее. У дверей моих не раздается постоянного стука; занавес в моем кабинете не раздвигается поминутно, и я могу идти один, что весьма необходимо для того, кто хочет идти сам по себе и следовать по своему пути, так как хотя я иду по дороге, проложенной раньше меня, однако я позволяю себе и самому находить нечто свое, изменяя и отбрасывая кое-что из того, что достигнуто моими предшественниками: я соглашаюсь с ними, но не покоряюсь им раболепно.
Однако я преждевременно выразил уверенность в тишине и уединении без помехи: с ристалища уже доносятся до меня громкие крики, которые хотя и не развлекают меня, однако переносят к самому месту состязания. И подумать только, сколь многие занимаются телесными упражнениями и как мало занимающихся духовными! Какое стечение народа бывает на представлениях и игрищах и какое уединение господствует вокруг храма науки! И как тупы и неразвиты бывают те, руки и плечи которых приводят толпу в восторг!
Поневоле приходит мысль, что если тело путем постоянных упражнений можно довести до того, что оно легко переносит и удары в боях, и ушибы от швыряемых противниками камней и может целые дни подвергаться раскаленным лучам солнца, среди удушливой пыли, нередко обливаясь своею кровью, то не гораздо ли легче закалить свой дух, достигнуть того, чтобы он бестрепетно переносил удары судьбы и, даже поверженный в прах и опрокинутый, снова бодро восставал? Ведь для того чтобы иметь здоровое тело, нужно очень многое; душа же растет сама по себе, сама себя питает и развивает. Телу нужна обильная пища, вкусные напитки, умащения елеем, наконец, продолжительная подготовка; добродетели же можно достигнуть без всяких трудов и издержек. Все, что необходимо для того, чтобы стать добродетельным, у тебя уже есть. Ибо для того чтобы быть добродетельным, достаточно только хотеть этого. А чего же еще хотеть, как не того, чтобы избегнуть рабства, гнетущего всех нас? Самые низкие рабы, рожденные в рабстве, и те всячески стараются выйти из него. За свою свободу они рады отдать последние сбережения свои, которые они сделали путем всевозможных лишений. Так неужели же ты, мнящий себя свободнорожденным, не захочешь купить свободы по какой бы то ни было цене? Что смотришь на свой сундук? За деньги ее не купишь. Ведь та свобода, которая приобретается путем внесения в цензорские списки, только звук пустой, и ее одинаково нет ни у того, кто купил ее, ни у того, кто продал. Истинное благо свободы ты только сам можешь дать себе – так и требуй ее лишь у самого себя.
Прежде всего освободись от страха смерти. Он налагает на нас первое ярмо. Затем от страха бедности. Если хочешь убедиться, что в бедности нет ничего ужасного, посмотри на выражение лица у богача и у бедного. Бедный улыбается чаще и искреннее. В глубине его сердца не гнездится никакое беспокойство, а если и являются какие-либо заботы, они проходят мимо, как легкое облако. Те же, кого считают счастливыми, веселы лишь по виду: их радость омрачена внутренней горечью и печалью, и им тем тяжелее, что они не могут откровенно признаться в своих несчастьях, но должны, нося в сердце мучительную тоску, играть роль счастливцев. Я не умею лучше выразить ту драму человеческой жизни, в которой мы все более или менее скверно играем наши роли, как сравнением нас с тем надутым и напыщенным театральным царем, который, гордо задрав голову, произносит:
Я царь Аргоса, Пелопса наследник,
И вся страна, меж морем Ионийским
И Геллеспонтом, мне подвластна.
А на самом деле этот царь Аргоса – раб, получающий жалованье: пять мер хлеба и пять динариев. И он, гордо и властно и кичась сознанием своих сил, произносит:
О Менелай, приди в себя, успокойся,
Иль от руки моей умрешь… —
Получит поденную плату и пойдет спать в жалкой конуре.
То же надо сказать о тех неженках, которых носят в носилках, поднимая выше голов толпящегося вокруг них народа. Их счастье только маска. Сорви ее – и они покажутся тебе жалкими. Покупая коня, ты прикажешь продавцу снять попону, чтобы под нею не был утаен какой-либо физический недостаток. Точно так же не купишь ты и раба, тело которого скрыто под одеждами: если торговец невольниками и скрывает под украшениями то, что в рабе может не нравиться, то сами украшения кажутся подозрительными, и если ты увидишь повязку на колене или на локте, ты прикажешь снять ее и показать голое тело. Потом, если ты захочешь оценить и узнать, что представляет собой какой-нибудь скифский или сарматский царь, ты обратишь внимание не на пышную корону его, а на то, что под нею, – и сколько дурного увидишь ты там! Но что говорить о других. Если хочешь оценить самого себя, ты не должен принимать в расчет ни денег, ни дома, ни звания. Загляни внутрь себя. До тех же пор ты знаешь, каков ты, лишь с чужих слов.
Письмо LXXXIV
О собирании книжной мудрости
Мои поездки, встряхивающие время от времени мою апатию, кажутся мне полезными как для моего здоровья, так и для занятий. Почему полезны они для здоровья – это очевидно: мое пристрастие к научным занятиям заставляет меня пренебрегать телесными упражнениями; во время же моих поездок я занимаюсь другими вещами. Но поездки эти полезны и для научных занятий. Я не перестаю читать в дороге. Ибо читать, по-моему, необходимо, во-первых, для того, чтобы не довольствоваться одним собою; во-вторых, чтобы, узнав, какими вопросами занимались другие писатели, я мог судить как о том, что уже исследовано, так и о том, что остается исследовать. Чтение питает ум, и восстановление сил утомленного занятиями ума достигается путем чтения. Не следует только писать или только читать. Занимаясь исключительно писанием, мы истощим свои силы; занимаясь одним чтением, мы можем рассеять свой ум. Надо попеременно заниматься то тем, то другим и уравновешивать одно другим так, чтобы из того, что мы заимствовали путем чтения, письмо создавало нечто целое. Мы должны подражать пчелам, которые летают с цветка на цветок, выбирая наиболее медоносные, и затем все, что они соберут во время полета, распределяют по сотам и, как говорит Вергилий:
Мед душистый собравши,
Нектаром сладким ячейки сот наполняют…
Недостаточно выяснено, просто ли собирают пчелы цветочный сок, который уже и есть сам по себе мед, или же они обращают в мед собранный ими материал, примешивая к нему особую, присущую пчелам жидкость. Ибо одни думают, что пчелы обладают искусством не приготовления меда, но только его собирания. Говорят, что в Индии находят мед прямо на листьях местной породы тростника и что мед этот состоит или из росы, присущей тамошним небесам, или из густого и сладкого сока самого тростника. Предполагают, что и наши растения обладают такими же свойствами, хотя и менее ясно выраженными. Их-то и разыскивает и открывает насекомое, обладающее прирожденными к тому способностями. Другие, напротив, думают, что мед образуется путем особого приготовления и перемешивания тех соков, которые почерпаются пчелою из самых нежных зеленых и цветочных частей растения, причем дело не обходится без особого рода фермента, с помощью которого различные элементы превращаются в однородную массу.
Но я уклонился в сторону. Словом, мы должны подражать пчелам и, подобно им, все заимствованное нами путем чтения различных авторов распределять по отделам. Ибо когда разнородные материалы разделены, они лучше запоминаются. Затем стараниями и способностью нашего разума мы должны слить в одно целое различные материалы, так, чтобы хотя и ясно было, откуда что взято, но вместе было очевидно, что это не то, что взято. Так в нашем теле поступает без нашего ведома сама природа. Пища, которую мы приняли, пока сохраняет присущую ей форму и в твердом виде лежит в желудке, обременяет его; когда же она изменится под влиянием желудочных соков, то обратится в кровь и мускулы. Так точно и духовная пища, которую мы приняли, не должна оставаться неусвоенной, чтобы не быть чуждой нам.
Переварим ее, иначе она будет только обременять память, не обогащая ума. Согласимся вполне убежденно с чужими мнениями и тем самым сделаем их своими, и из многих отрывков создадим нечто единое, подобно тому, как из различных слагаемых путем сложения в результате получается одно число. То же должен делать и наш разум: пусть он скроет все, что служит ему материалом, и выставляет напоказ лишь то, что он создаст из этого материала. Если же в тебе и отразится сходство с тем писателем, восхищение которым было особенно сильно, то лучше быть похожим на него, как сын похож на отца, чем, как бывает, похож портрет, ибо портрет все-таки вещь мертвая.
«Итак, что же? Надо ли стараться, чтобы нельзя было заметить, чьему слогу подражаешь, чьему изложению, чьим мнениям?» Я думаю, что часто этого нельзя узнать само по себе, так как талант, по какому бы образцу ни создавал свой труд, налагает печать своего ума, и все заимствованные им мысли сливаются в одно целое. Так, в хоре, хотя он и состоит из многих голосов, однако в целом получается один звук, а между тем там звучат и высокие, и низкие, и средние тона; мужчины перемешаны с женщинами и к человеческим голосам присоединяются звуки флейт. Но все отдельные голоса скрыты, и слышен только один общий. И это в хоре, известном еще древним. В наших же хорах певцов больше, чем в древности было зрителей в театре. И, однако, когда все проходы театра заполнены поющими, почетные места окружены медными инструментами, а на авансцене звучат флейты и другие всевозможные инструменты, из этих различных звуков образуется стройный концерт. Подобен ему должен быть и наш разум. Он должен хранить в себе многие способности, многие знания, опыт многих веков, но все это должно составлять одно целое.
«Но как этого достигнуть?» Внимательными занятиями и постоянным сообразованием наших поступков с требованиями разума. Если ты захочешь руководствоваться его советами, он скажет тебе: брось все, к чему стремится толпа. Брось богатства – они или причина опасностей, или бремя для владеющих ими. Откажись от страстей, как телесных, так и духовных: они изнеживают и истощают. Оставь честолюбие: это вещь пустая, суетная, неверная, не имеющая пределов, тревожащаяся тем, что кто-нибудь следует позади нас или идет впереди. Честолюбие страдает от зависти и притом двояко, а ведь равно несчастны и тот, кому завидуют, и тот, кто завидует.
Взгляни на дома богатых. Какая толпа спорит у их порога за честь первым приветствовать с добрым утром. Сколько унижений надо претерпеть только для того, чтобы войти в такой дом, а когда войдешь, их еще больше. Беги же от порогов этих богачей и их приемных с высокими колоннами. Там ты не только будешь стоять на крутизне, но притом на скользкой крутизне. Итак, беги отсюда к мудрости и вкушай от успокоительнейших и вместе совершеннейших даров ее. То, что люди считают значительным, в сущности ничтожно и выдается лишь по сравнению с еще более ничтожными вещами, а между тем достигнуть этого можно только с большими трудами и опасностями. Тернист путь, ведущий в обиталище славы. Достигнуть же той вершины, до которой бессильна подняться сама судьба и с которой все, что считается людьми высоким, будет под твоими ногами, можно по совершенно ровному пути.
Письмо LXXXVIII
О значении свободных искусств
Ты хочешь знать, что я думаю о свободных профессиях. Я нисколько не уважаю и отнюдь не считаю хорошим ничего, что делается для денег. Эти продажные профессии полезны только до тех пор, пока служат для упражнения ума, но не поглощают его целиком. Ими следует заниматься только тогда, когда ум еще не способен ни на что большее. На них следует пробовать свои силы, но не посвящать им себя вполне. Называют их свободными профессиями, очевидно, потому, что они достойны свободного человека. Однако истинно свободным может считаться только одно занятие, делающее нас свободными, а именно возвышенное, чистое, высокое занятие философией. Все остальное ничтожно и мелко. Да и можно ли считать хорошею ту профессию, которой занимаются гнуснейшие и ничтожнейшие люди? Не учиться нам следует такому делу, а разучиваться.
Иные ставят вопрос, могут ли свободные художества сделать человека хорошим? Они даже не обещают этого и не ставят себе таких целей. Грамматики занимаются наукою о правилах речи, или, если понимают свой предмет шире – о правилах прозы, или, наконец, в самом широком объеме своего предмета, также и стихов. Очевидно, ни один из этих трех предметов не ведет к добродетели. Конечно, ни наука о слогах и словообразовании, ни содержание исторических басен или законы стихосложения не могут устранить страх, укротить волнение и обуздать страсти. То же можно сказать о геометрии и музыке: в них нет ничего такого, что бы заставило перестать бояться и желать. А между тем тому, кто не умеет этого, ни к чему все остальное. Итак, всегда надо обращать внимание на то, учит ли учитель добродетели или нет; и если он не учит ей, его наука не дает ничего, если он учит добродетели, он – философ. Хочешь ли убедиться в том, до какой степени далеки учителя свободных художеств от обучения добродетели? Обрати внимание хотя бы на то, до какой степени не схожи между собою их уроки; а между тем должно бы существовать сходство между лицами, учащими одному и тому же. Если они, например, учат, что Гомер был философом, то при помощи своих доказательств они отрицают это. В самом деле, то уверяют они, что он был стоиком и учил, что выше всего добродетель, что следует умерщвлять страсти и не отказываться от праведной жизни даже ценою бессмертия, то выставляют они Гомера эпикурейцем, прославляющим мирное состояние общества, проводящего жизнь среди пиров и пения, то перипатетиком, учащим о различных родах блага, то академиком (скептиком), отрицающим достоверность всего. Очевидно, что ничего из этого нет в том, кому приписывается все это сразу. Ибо одно исключает другое. Но допустим даже, что Гомер был философом. Очевидно, он стал им ранее, чем писал стихи; итак, будем лучше учиться тому, что сделало мудрым Гомера.
Мне кажется совершенно неинтересным исследовать, кто был старше, Гомер или Гесиод, отчего так скоро состарилась Гекуба, хотя она была моложе Елены, или определять возраст Патрокла и Ахилла. Неужели полезнее изучать, где блуждал Одиссей, чем заботиться о том, чтобы не заблуждаться самому? Грамматики не ленятся исследовать вопрос, где скитался Одиссей, между Италией и Сицилией или за пределами известного нам мира, ибо, казалось бы, нельзя блуждать так долго в столь тесном пространстве. А между тем нас самих ежедневно носят душевные бури, а наша немощь повергает нас во все беды, испытанные Одиссеем. Тут нет недостатка ни в чудовищах, устрашающих взор, ни во врагах. В наших блужданиях тоже есть чудовища, упивающиеся человеческою кровью и поющие коварные льстивые речи; есть и кораблекрушения, и все разнообразие бедствий. Итак, научи меня лучше, как любить родину, жену, отца, как приплыть к далекому берегу спасения, хотя бы претерпев крушение. К чему разбирать вопрос, нарушила Пенелопа супружескую верность или сдержала свое слово, или, наконец, подозревала, что тот, кого она видела, и есть Одиссей, еще раньше, чем узнала это? Научи меня лучше, что такое целомудрие и как велико благо, заключающееся в нем, и должно ли оно ограничиваться телом, или также следует соблюдать его и в помыслах.
Перехожу к музыке. Ты учишь меня сочетанию высоких и низких тонов, тому, как получается гармония двух струн, издающих разные тона. Научи меня лучше, как добиться гармонии в моей душе, как уничтожить разногласие в моих мыслях. Ты перечисляешь мне минорные тона, научи лучше, как не жаловаться среди несчастий.
Геометрия научает мерить землю, но из нее нельзя узнать, как отмерить столько, сколько достаточно для человека. Арифметика учит считать, приучая сами пальцы к скупости, но из нее не узнаешь, как несущественны, как суетны всякие счеты, как мало счастлив тот, для оценки имущества которого нужен труд очень многих счетчиков, как много у него лишнего и как бы стал он несчастен, если б его самого заставили сосчитать его имущество. Какую пользу принесет мне умение делить поле на участки, если я не умею делиться с братом? Что пользы в искусстве отмерять югеры с точностью до десяти футов, если властолюбивый сосед, старающийся оттянуть у меня в свою пользу какой-нибудь клочок земли, является источником огорчений? Геометрия учит, как не терять ни фута своей земли, а я хотел бы научиться искусству оставаться веселым, лишившись даже всего имущества.
«Но ведь обидно, когда прогонят с земли, принадлежавшей отцу и деду». Но знаешь ли ты, кому принадлежала эта земля раньше, чем твоему деду? Можешь ли ты назвать мне, я не говорю уже человека, но даже народ, который жил на ней? Ты не владелец своей земли, а только арендатор. «Как арендатор? чей арендатор?» Да хотя бы, если все будет благополучно, твоего наследника. Юристы говорят, что нельзя считать собственностью то, что принадлежит всему обществу. Но то, что у тебя, то, что ты считаешь своим, – общественное имущество, и притом такого обширного общества, как весь человеческий род. О, восхитительное искусство! С твоей помощью можно мерить площадь круга, выражать в квадратных метрах площадь любой формы; ты знаешь расстояние между звездами: все ты измерил и исчислил. Но если ты поистине искусен в своем деле, измерь душу человека. Скажи, как велика она или как ничтожна? Ты знаешь, что такое прямая линия, но что толку в этом, если ты не знаешь, что такое прямая жизнь?
Перехожу к тому, кто хвалится астрономическими знаниями, кто знает,
…Где замыкает свой путь звезда ледяная Сатурна,
И пo каким путям блуждает огнистый Меркурий.
Что пользы знать все это? Чтобы тревожиться во время противостояний Марса и Сатурна или в те дни, когда вечерний закат Меркурия происходит в виду Сатурна? Не лучше ли научиться тому, чтобы верить, что где бы ни стояли эти звезды, они всегда благосклонны и неизменны. Они движутся по установленному от века порядку по постоянному пути. Через известные промежутки времени они возвращаются и либо производят перемены в земных явлениях, либо служат их предвестниками. Но если сами они производят все эти явления, то какую пользу принесет нам знание неотвратимой вещи; если же они только возвещают их, то опять-таки какую цену может иметь предвидение того, чего нельзя избежать? Будешь ты знать или не будешь – все равно: чему суждено свершиться – свершится…
Если ты будешь следить за солнцем, быстротекущим
В хоре звезд остальных, никогда в грядущем обмана
Ведать не будешь и козней темной ночи избегнешь.
Но я уже раньше совершенно достаточно озаботился, чтобы быть безопасным от козней. «И что ж! разве в грядущем тебе не предстоит обмана? Конечно, ты будешь обманываться уже потому, что не знаешь, что случится». Действительно, я не знаю, что будет, но я знаю, что может быть. И я не буду обольщать себя надеждой, что из возможных бедствий какое-либо минует меня: я буду ждать всего. Если же какого-либо из них не случится, я буду считать это за свой выигрыш. Итак, для меня в грядущем будет обман только в том случае, если я буду избавлен от какого-либо бедствия, но и это нельзя считать обманом. Ибо хотя я и знаю, что все может случиться, но знаю также и то, что не все это непременно случится. Насколько я жду благоприятного, настолько готов встретить и зло.
Ты должен извинить мне, что тут я отступлю от общепринятых определений. Я не нахожу оснований для причисления к разряду свободных художников живописцев, скульпторов, ваятелей и остальных служителей роскоши. Точно так же я не считаю свободной профессию кулачных бойцов и вообще всякие тому подобные масляные и грязные занятия. В противном случае пришлось бы еще, пожалуй, назвать свободными художниками парфюмеров, поваров и остальных людей, прилагающих свои таланты к услаждению наших прихотей. В самом деле, объясни мне, есть ли хоть тень свободы в этих жалких и противных людях, тела которых жирны и упитаны, души же болезненны и вялы? Точно так же я не признаю за свободные те искусства, которым наши предки обучали молодежь: метание дротиков, упражнения с копьем, верховая езда, умение владеть оружием. Они не учили своих детей ничему из того, что полезно в мирное время. Но военные искусства не питают и не развивают добродетели. Ибо нет пользы в искусстве управлять конем и умении пользоваться уздой, когда сам отдаешься на произвол разнузданных страстей. Что пользы остаться победителем в кулачных и других боях и постоянно быть побеждаемым гневом?
«Итак, свободные художества бесполезны?» Для добродетели да; для многого же другого они полезны. Ведь и ремесла, и ручной труд доставляют весьма многое для жизненных удобств, но не имеют никакого отношения к добродетели. «Тогда почему же учат детей свободным художествам?» Не потому, что они способны дать добродетель, но потому, что они подготовляют нашу душу к восприятию ее. Как первоначальное обучение не дает еще знания свободных художеств, но подготовляет к ним, так и свободные искусства не ведут к добродетели, но приготовляют к ней путь.
Посидоний различает четыре рода искусств: народный – или ремесла, декоративные, образовательные и свободные. Ремесла – это такие искусства, в которых имеет применение ручной труд, а их цель в доставлении тех жизненных удобств, в которых не имеется в виду красота или подражание высокому. Декоративные искусства имеют назначение доставлять наслаждение нашим глазам и ушам. К этому разряду искусств следует отнести искусство механиков, изобретающих сами собой поднимающиеся подмостки и декорации, бесшумно поднимающиеся вверх, и различные другие приспособления на театрах, с помощью которых неожиданно распадается то, что, казалось, было прочно соединено, или, напротив, соединяются предметы, находившиеся на расстояниях, или понемногу опускаются предметы, торчавшие вверх. Так как все это происходит неожиданно перед глазами невежественной толпы, то зрители, не зная скрытых причин всего этого, дивятся. Образовательные искусства имеют уже нечто общее со свободными искусствами: это те искусства, которые греки называют энциклопедическими. Наконец, свободные искусства – это те, которые греки зовут свободными. Однако единственные свободные художества, заслуживающие этого названия, – те, которые имеют целью добродетель.
«Но, – возразят мне, – так как философия занимается вопросами естествознания, нравственности и логики, то и свободные художества могут найти себе место в философии. При разборе вопросов естественно-исторических необходимо пользоваться геометрией. А раз она – необходимое вспомогательное средство в философии, она часть ее». Однако не всякое необходимое вспомогательное средство составляет часть самого предмета. И даже напротив, раз оно часть предмета, оно не может быть вспомогательным средством. Так, пища необходима для поддержания тела, но не составляет его части. Философия пользуется услугами геометрии, но геометрия лишь настолько необходима для философии, насколько для самой геометрии необходим ремесленник, работающий чертежными принадлежностями. Но как ремесленник этот не составляет части геометрии, так и она не составляет части философии. Кроме того, каждая из них имеет свои цели: философ ищет причину вещей, математик исследует их число и меру. Философ исследует причины небесных явлений и их свойства и природу. Математик вычисляет время восхода и заката светил и производит некоторые наблюдения, относящиеся до прямого и обратного движения планет и до моментов их кажущегося стояния (ибо на деле небесные тела не могут останавливаться). Философ знает, какая сила производит отражения в зеркалах; математик же вычисляет, как велико должно быть расстояние от предмета до его изображения и какую форму должно иметь зеркало для получения изображения известной величины. Философ учит, что солнце велико; математик же исследует с помощью особых приемов и вычислений, какой именно оно величины; но для того чтобы открыть эти приемы, ему необходимо усвоить некоторые теоретические данные. Такое же искусство, для которого нужны посторонние данные, не может считаться удовлетворяющим само себя. Философия же не нуждается в данных, почерпнутых из других наук; все свое знание она воздвигает на собственной почве; напротив, математика, так сказать, возводит только верхние этажи, строясь на чужом фундаменте. Она получает извне элементы, с помощью которых переходит к дальнейшему. Если бы она могла сама по себе прийти к познанию истины и постигнуть природу всего мира, она бы могла принести известную пользу развитию нашего ума, который, занимаясь вопросами о небесных телах, сам становится возвышеннее. Но вполне удовлетвориться наш разум может только точным познанием добра и зла, которому научиться можно только из философии; ибо никакая другая наука не занимается вопросами о добре и зле.
Рассмотрим каждую из добродетелей в отдельности. Мужество есть презрение страха. Оно пренебрегает опасностями, грозящими нам, вызывает их на бой и сокрушает. Могут ли развить его в нас свободные художества? Верность – святейший дар человеческого сердца. Никакими силами нельзя совратить ее к обману; ее нельзя купить ни за какие деньги. «Жги, – говорит она, – режь, убей: я не выдам ничего, и чем сильнее будет побуждать страдание к доносу, тем глубже укрою я свою тайну». Разве могут свободные художества сделать душу нашу способною к этому? Воздержанность повелевает страстями. Одни из них она ненавидит и избегает, другие умеряет и приводит в должные границы, и никогда не позволяет отдаваться на произвол страстей. Она знает, что лучше желать не столько, сколько хочешь, но сколько должен. Человеколюбие запрещает быть гордым и недоброжелательным к ближним. Оно ласково и приветливо со всеми в речах, поступках и обращении. Оно не считает, что все чужое – зло. Свое же благо оно любит настолько, насколько оно может послужить на благо другим. И разве можно почерпнуть из свободных художеств привычки к этим добродетелям? Точно так же не научат они ни простоте, ни скромности и умеренности, ни честности и щедрости, ни милости, которая столь же отзывается на чужое страдание, сколько чувствительна к своему собственному, и знает, что человек не имеет права мучить другого человека.
«Но, – возразите нам, – если вы говорите, что без помощи наук и искусств нельзя достигнуть добродетели, то как же вы можете утверждать, что науки не имеют ничего общего с добродетелью». Но и без пищи нельзя достигнуть добродетели, однако пища не имеет никакого отношения к добродетели. Дерево не приносит пользы кораблю, хотя без дерева нельзя построить корабль. Словом, нельзя сказать, что что-либо имеет нечто общее с тем, без чего не могло бы сделаться. Впрочем, можно даже сказать, что есть возможность достигнуть мудрости, не занимаясь науками и искусствами. Ибо хотя добродетели нужно учиться, однако ей учатся не с помощью наук. В самом деле, почему бы не мог стать мудрецом тот, кто не умеет читать, когда мудрость не состоит в грамотности. Мудрость учит делам, а не словам, и я не уверен даже, не будет ли та память тверже, которая не пользуется никакими внешними пособиями.
Предмет мудрости велик и пространен. Для нее надо много времени. Приходится учиться и человеческому и божескому, и прошедшему и будущему, и преходящему и вечному; об одном времени приходится разрешить множество вопросов: представляет ли время нечто само по себе, может ли быть что-либо до времени или вне времени, началось ли время одновременно с миром, или так как было нечто и раньше мира, то было и самое время? Бесчисленны также вопросы, возникающие о душе, – откуда она, какова, где ее начало, долго ли она живет, переходит ли она из одного места в другое и меняет ли место своего обитания, воплощаясь то в одни, то в другие формы, или она живет только один раз во плоти, а затем, покинув ее, блуждает в пространствах, есть ли у души тело или нет; что она будет делать, когда перестанет проявляться через нас; как воспользуется своей свободой, когда убежит из этого земного плена; забывает ли она о прошлом и начинает познавать себя лишь с того момента, когда, разлучившись с телом, вознесется в горные страны? Словом, какой бы области знания ты ни коснулся, всюду наткнешься на громадное число вопросов, которые необходимо исследовать и изучать. Для того чтобы усвоить все эти знания, надо стараться не обременять свою память ничем лишним. Добродетель не дается узкому уму; великое дело требует для себя простора. Все надо бросить для него. Надо предаться ему всем сердцем. «Но приятно знать многое». Нет, удержим в своей памяти столько, сколько окажется необходимым. Ведь ты осуждаешь того, кто запасает себе лишние вещи и наполняет свой дом ненужными предметами роскоши; тем более должен ты осудить того, кто собирает себе ненужную умственную утварь. Знать больше, чем нужно, – своего рода умственное обжорство. В самом деле, занятие науками делает нас скучными, болтливыми, несносными, развивает в нас такое самомнение, что мы не учимся уже необходимому, потому что выучили лишнее.
Грамматик Дидим написал четыре тысячи книг. Мне жаль его: сколько приходилось ему читать лишнего. В этих книгах разбираются вопросы о родине Гомера, о том, кто была в действительности мать Энея, какая страсть преобладала в Анакреоне, пьянство или сладострастие, была ли Сафо публичной женщиной и многие другие вещи, о которых лучше было бы забыть, если б и знал. И после этого еще говорят, что наша жизнь недостаточно длинна! Если обратимся к нашим писателям, то и у них можно найти много лишнего. Какою тратою времени, какою скукою для слушателей покупается почетное имя ученого! Не лучше ли удовольствоваться более скромным эпитетом – хорошего человека? В самом деле! Неужели я должен читать летописи всех народов, интересоваться вопросом, кто первый писал стихи, считать, сколько времени прошло от Орфея до Гомера, когда в те времена не было и календаря? Неужели я должен рыться в тех глупостях, которые Аристарх написал по поводу чужих стихов? Стариться за изучением словообразования? Пылиться, выводя на песке геометрические чертежи? Неужели я должен до такой степени забывать известное спасительное правило: дорожи временем? Неужели я должен все это знать? Но тогда чего же я могу не знать?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.