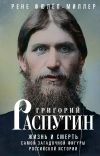Текст книги "Григорий Распутин. Могилы моей не ищите"
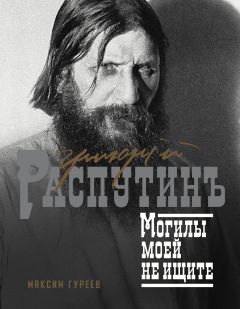
Автор книги: Максим Гуреев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Владимир Митрофанович вдруг задрожал, картинно пошатнулся и рухнул на колени, полностью войдя в образ героя одного известного романа Достоевского.
Зарыдал громко, по-бабьи.
Юсупов брезгливо отшатнулся.
Встретился взглядом с Дмитрием Павловичем, который наблюдал за происходящим с не меньшим отвращением.
Песня в исполнении Надежды Васильевны меж тем закончилась, и рупор граммофона начал издавать ухающие звуки.
Феликс сразу представил себе, что внутри деревянной, инкрустированной перламутром коробки прибора сидит золотой механический филин из родительской коллекции диковинных заводных симфонионов. Хищная птица умеет крутить головой, грозно двигает перьевыми ушами, щелкает клювом, раскачивается из стороны в сторону и сердито таращит сделанные из балтийского янтаря желтые глаза. Мысль о том, что это она, а не Плевицкая, только что исполнила романс «Чайка», веселит Юсупова.
Историю Дмитрия Павловича Феликс, разумеется, хорошо знал.

Великий князь Дмитрий Павлович и великая княгиня Мария Павловна.
1908
Дмитрий был вторым ребенком в семье великого князя Павла Александровича, шестого сына императора Александра II и греческой принцессы, великой княгини Александры Георгиевны, которая умерла через несколько дней после рождения сына.
Годовалая дочь Мария и новорожденный мальчик остались с отцом.

Великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна
Однако через 11 лет Павел Александрович женился во второй раз на разведенной Ольге Валериановне Пистолькорс, урожденной Карнович, а поскольку сей брак являлся морганатическим, молодожены были вынуждены покинуть Россию и перебрались в Италию.
На тот момент уже двенадцатилетняя Мария Павловна и одиннадцатилетний Дмитрий Павлович остались в Москве у своих приемных родителей – великого князя Сергея Александровича, их родного дяди, и его супруги Елизаветы Федоровны, у которых не было собственных детей. Однако нахождение в семье Сергея Александровича было непродолжительным, 4 февраля 1905 года он был убит в Московском Кремле Иваном Платоновичем Каляевым. Теракт должен был произойти на два дня раньше, но великого князя спасло то, что 2 февраля вместе с ним в карете была его супруга и малолетние племянники.

Иван Платонович Каляев.
1905
Об этом Дмитрий Павлович узнал много позже и ужаснулся. Значит, сам того не ведая, он – 14-летний мальчик – стоял на краю гибели и не почувствовал этого, настолько все было обыденно и даже рутинно. А его жизнь оказалась в руках некоего неизвестного ему молодого человека весьма приятной наружности и даже, по словам знавших его, хороших манер, студента Московского и Петербургского Императорских университетов, сына Платона Антоновича Каляева – старшего околоточного надзирателя варшавской полиции.
– Так вот она в чем ценность или цена жизни! – вполне бы мог воскликнуть Феликс Юсупов, услышав от Дмитрия Павловича рассказ о своем детстве, – не судьба, не случай и даже не Бог, а человек без имени, без свойств, без роду и племени решает, быть тебе или не быть – бросает бомбу, стреляет, отворачивается, когда ты находишься в смертельной опасности, становится твоим повелителем, твоим Навуходоносором или Чингисханом. То есть назначает твоей жизни цену!
Феликс смотрел на своего друга Дмитрия, старше которого он был на четыре года, и думал, что должен стать для него таким человеком без свойств, таким повелителем, который с беспощадной любовью будет спасать и опекать его.
Это произошло ночью в бильярдной комнате с видом на Невский проспект, который в ту пору заметала непроглядная метель.
Дмитрий Павлович решил свести счеты с жизнью, в которой разуверился, запутался окончательно, не понимая, кто он есть на самом деле, кому может верить, а кому нет, кого любит он, а кто действительно любит его, кто пользуется его именем в своих целях, а кто бескорыстно предан ему. Достал склянки с лекарствами и, не разбирая, стал поглощать их содержимое.
Тогда, когда ему было 14 лет, кто-то неведомый распорядился его судьбой. Теперь же, как думал Дмитрий Павлович, все в его руках.
Но он ошибся.
Феликс обнаружил своего молодого друга, когда тот уже был без сознания, но еще дышал. В истерике, в полусне, задыхаясь, не чувствуя себя, стал приводить его в чувство, как умел – бил по щекам, тормошил, кричал, просил не умирать, вновь бил по щекам, поливал из графина водой, пока Дмитрий не очнулся.
Очнулся.
Открыл глаза и увидел перед собой измученное, испуганное, обезображенное гримасой страдания лицо Феликса. Таким он его еще не видел никогда. На нем не было и следа от прежней гордой самонадеянности, знаменитой юсуповской надменности, весь лоск сошел с него, и под ним оказалась растерянность избалованного мальчика, младшего брата, старший брат которого оценил свою жизнь недорого, чем потряс всю свою семью, и теперь лежал перед всеми в гробу, что стоял на высоком крутом берегу Москва-реки, совершенно чужой, будто бы узнавший нечто такое, о чем никто из оставшихся жить Юсуповых не мог знать в принципе.
Золотой механический филин с желтыми янтарными глазами, сидевший внутри граммофона, запел «Потому я тебя так безумно люблю». Причем было совершенно непонятно, кто именно поставил эту пластинку. Будто бы это произошло по воле самого заводного симфониона.
Исполнение развеселило Феликса, и он улыбнулся. Вот уж действительно, стоило только заговорить о любви, как тут же его лицо становилось радостным, по-детски открытым и счастливым.
Он стал подпевать заводному устройству высоким тенором-альтино:
Потому я тебя так безумно люблю,
Что безумно хочу и желаю.
Не отдам никому, хоть себя загублю,
Я тебя, как мечту, обожаю!
Ах, меня не вини,
Пожалей и взгляни,
Отгони прочь тоску и сомненья,
Поцелуй, приласкай,
Счастье жгучее дай,
Я хочу в твоих ласках забвенья!
– Сергей Михайлович, прошу примерить, – Феликс протянул рослому, сухощавого сложения поручику в форме Лейб-Гвардии Преображенского полка шубу Григория Ефимовича Распутина, участливо поданную гардеробщиком. – Не стесняйтесь, она вам будет в самый раз.
Поручик Сухотин, державшийся до этого момента в стороне, выступил вперед, не говоря ни единого слова, принял шубу из рук Юсупова, взглядом остановил бросившегося к нему на помощь гардеробщика и стал выворачивать ее наизнанку.

Дмитрий Павлович и Мария Павловна с великим князем Павлом Александровичем.
1914

Великий князь Павел Александрович и его вторая жена Ольга Валериановна Палей (Пистолькорс – в первом браке, Карнович – при рождении).
1910-е

Ольга Валериановна Палей.
1912

Великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна.
1893
– Помилуйте, голубчик, что вы делаете?
Нет, не стал утруждать себя ответом. Просто хорошо знал Сергей Михайлович, что дух ее владельца находится в ней, в рукавах, например, обитает, таится в карманах, прячется под бобровым воротником, и подобным образом он обманет его и не будет им мучим.
Наконец напялил шубу на себя, чем вызвал всеобщий смех одобрения: «Ну просто вылитый Григорий Ефимович, особенно если поднимете воротник, а на глаза надвинете мерлушковый пирожок, не отличишь!»
Пуришкевич даже принялся аплодировать:
– Эк вы, Феликс Феликсович, остроумно придумали! Браво!
Конечно, все знали, что после полученной в бою под Либавой контузии Сергей Михайлович страдал головными болями и галлюцинациями, оттого и был склонен к разного рода мистификациям и видениям. Становился при этом сосредоточенным, в чем-то даже целеустремленным, панически боясь упустить что-то важное, забыть не дай бог перед надвигающимся припадком, ведь был уверен в том, что тогда попал под обстрел именно потому, что отложил попечение, не разглядел опасности, не услышал далекий, но при этом неизбежно нарастающий вой летящего неведомо откуда снаряда, пренебрег им, за что и поплатился.
Вот и сейчас, путаясь в рукавах распутинской шубы, ощутил себя запертым в блиндаже, все закоулки и углы, тайники и пустоты которого следовало изучить самым тщательным образом. Поручик Сухотин начинал задыхаться в них, в этих закутах, чувствовал, близость безумия, потому что дух Григория Ефимовича завывал при этом все сильнее и сильнее, все истошнее и истошнее, изображая полет смертоносной болванки, выпущенной из германской дальнобойной гаубицы. И вот пока она летела, Сергей Михайлович, потеряв рассудок окончательно, только и успевал, что забраться под нары и закрыть голову руками.
А что происходило потом?
А потом происходило прямое попадание снаряда в блиндаж:
– оглушительный треск превращенных в щепки бревенчатых перекрытий;
– скрежет обложенного камнем бруствера;
– судорожное гудение вывернутой наизнанку земли;
– грохот пульса внутри головы;
– лопнувшая подкладка шубы;
– укол морфия.
Сухотин испускал дух, то есть выдыхал глубоко и ровно, чувствуя внутри себя блаженную полуулыбку Льва Николаевича, что мирно спал в своем желтом дубовом гробу.
И это уже потом поручика под руки вели к автомобилю, за рулем которого сидел Дмитрий Павлович, чье бледное лицо казалось предельно сосредоточенным и совершенно непроницаемым.
Сергея Михайловича, слабого, придурковато улыбающегося, усаживали на заднее сиденье, захлопывали дверцу, и мотор начинал двигаться по двору от гаража к воротам, которые выходили в Максимилиановский переулок.
* * *
– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, – громко произнесла Елизавета Федоровна.
– Аминь, – донеслось в ответ из глубины полуподземной кельи.
Великая княгиня толкнула низкую, сколоченную из толстых, грубо струганых досок дверь и вошла в крохотную, словно бы приплюснутую массивным бревенчатым потолком комнату, обстановка которой была самой простой.
На узкой, сооруженной из составленных в ряд фанерных коробов кровати сидел схимник. Правой рукой старец подпирал склоненную голову, а левая его рука лежала на груди. Елизавете Федоровне он напомнил деревянную скульптуру «Христос в темнице», которую она однажды видела во время своей поездки в Дивеевский монастырь.
Схимник, как и положено деревянному изваянию, был совершенно неподвижен, а по его лицу струился тусклый матовый свет из крохотного окна, занавешенного белым полотенцем с вышитой на нем Голгофой.
В углу комнаты стояло подобие прикроватной тумбы, на которой были расставлены дешевые бумажные образки и оплывшие восковые свечи.
Потолок нависал над кубоватым пространством кельи.
Елизавета Федоровна инстинктивно склонила голову, сделала несколько шагов и тут же почувствовала острую боль в затылке и резь в глазах. Скорее всего, это произошло, потому что с яркого солнца она вошла в густые сумерки, где только переливающаяся в сполохах заоконного света Голгофа могла служить ориентиром, где тут верх а где низ, где земляной пол, а где страшное предгрозовое небо верха, лежащее на голове, между которыми и находился старец, похожий на Христа в темнице или на Спаса Полунощного.
Отняв правую руку от щеки, он указал великой княгине на стул, что стоял у входа и был едва различим на фоне серой оштукатуренной стены.

Великая княгиня Елизавета Федоровна.
1906
С напряженным недоверием Елизавета Федоровна опустилась на скрипучее, кривобокое сооружение, но почему-то сразу почувствовала облегчение. Может быть, потому что потолок резко ушел вверх, и теперь он не казался таким низким, таким давящим?
Может быть, и так.
С противоположной стороны на нее смотрел схимник.
Смотрит.
Что предстает перед его взором в данный момент?
Женщина с бледным и печальным лицом.
Прямой острый нос ее, измученный взгляд ассиметрично расположенных глаз, что выдает в ней натуру порывистую, истеричную, но привыкшую сдерживать свои чувства, утаивать их от окружающих.
Губы женщины плотно сжаты. Это усилие подчеркивает напряженный подбородок. Может даже показаться, что он дрожит от задушенных слез или от невысказанных слов.
Видно, что она ждет обещанного ей предсказания будущего, ждет истово.
Она почти уверила себя в том, что не страшится никакого пророчества.
Да, ожидание невыносимо томительно для нее, но она бессильна что-либо изменить в происходящем и потому изо всех сил пытается скрыть свое нетерпение.
Она, привыкшая не выглядеть слабой и страждущей, вынуждена признать, что сейчас выглядит именно так, что сидящий перед ней старец чувствует это, и от этого истерическое состояние все более и более охватывает ее. Она пытается бороться с ним, но абсолютно безуспешно. Ее начинает трясти.
Из последних сил она про себя молит Бога, чтобы схимник наконец начал говорить, чтобы уста его разверзлись, но он молчит.
Причем в его молчании нет ни мести, ни испытания, ни нравоучения.
Он просто молчит.
Он продолжает смотреть перед собой и видеть, как эту женщину подводят к жерлу заброшенной шахты «Межная» Нижне-Селимского рудника. Лиц окружающих ее людей он не видит, они размыты, а произносимые ими слова слишком медленно выплывают из подсознания, чтобы их разобрать, более того, они разрозненны и представляют собой какую-то абракадабру, на которой изъясняются нечистые духи, какое-то бормотание, даже лай. Разве что лицо этой женщины, глаза которой завязаны, явлено ярко, оно будто бы специально выхвачено то ли электрическим фонарем, висящим на столбе у самого жерла шахты, то ли керосиновой лампой в руках одного из тех, кто ее привел сюда. Свет мечется по лицу женщины, но сама она при этом остается неподвижной. Окаменевшей. Процессия останавливается у самого края вертикально уходящего в преисподнюю ствола, обложенного короткими, полусгнившими бревнами, и довольно долго стоит тут, пульсирует переливами черного и зеленого цветов, галдит, перекуривает, чертя красными огоньками загогулины и кривые линии, напоминающие штриховку.
Не имея возможности подойти ближе, старец видит издалека, что женщину, на голову которой надет апостольник песочного цвета, какие носили диаконисы во времена древней церкви, сначала крепко держат за руки, но потом разжимают ладони и толкают ее в жерло «Межной».
Апостольник вспархивает, на какое-то мгновение цепляется за доски крепи, торчащие в разные стороны как растопыренные, окоченевшие пальцы со сломанными ногтями, ведь шахта давно заброшена, и исчезает в непроглядной темноте ствола.
Затем все начинают расходиться, а забытая керосиновая лампа так и остается стоять на вытоптанной земляной площадке старого Нижне-Селимского рудника.
Нет, схимник ничего не может сказать этой женщине, которая сейчас сидит перед ним, у него нет слов, чтобы описать увиденное только что.
Она сидела перед ним, и ее трясло.
Еще какое-то время Елизавета Федоровна пыталась вытерпеть, чтобы не разрыдаться, кусала губы до крови, сжатые кулаки ее онемели, а побелевшие на сгибах костяшки превратились в соляные головы. Но после того, как она услышала глухое «ступай с Богом, раба Божья», она не сдержалась и в полном отчаянии выбежала из этой закопченной, пропахшей нечистотами конуры, которую ошибочно приняла за келью подвижника, который видит будущее. По крайней мере ей так рекомендовали этого старика, уже много лет жившего в землянке на Соловецком острове.
Прикрыв лицо платком, чтобы Феликс не видел ее слез, Елизавета Федоровна быстро прошла по петляющей между кривых низкорослых деревьев тропинке и вскоре оказалась у лодки, напоминавшей благоухающий цветник.
Замерла тут, потому что подумала, что за все только что перенесенные ею страдания она попала в рай. По крайне мере, именно таким она видела Эдем на полотнах Яна Брейгеля Старшего.

Великая княгиня Елизавета Федоровна.
Около 1909

Григорий Ефимович Распутин.
1913
Глава 4
На Пряжку, на зады амбаров бывшего Сального буяна, приходили в установленное время и терпеливо ждали, пока полусонный человек в брезентовом фартуке не вынесет два ведра с требухой и не опрокинет их в жестяной желоб, который пролегал вдоль кирпичной стены колбасной фабрики к реке.
Время тянулось мучительно медленно. Некоторые от нетерпения и голода начинали подвывать. Царапали когтями ледяную корку на бруствере, которым была обнесена деревянная рампа, куда как на сцену и выходил человек в фартуке.
Первыми, заслышав лязг стальной задвижки, вздрагивали собаки охотничьих пород, устремляли взгляд на двухстворчатую дверь, выкрашенную в синий цвет, напрягались, и их напряжение передавалось всем остальным. Нарастало, множилось, разбухало. Все, что свершалось после этого, происходило в каком-то диком полусне – ведра с грохотом бились о мятый желоб, выпуская из себя внутренности, и тут же все срывались со своих мест, бросались делить добычу, поднимая визг и лай, разумеется, завязывая драки и грызню.
Человек меж тем зевал, вытирал ладони о фартук, крестил рот и закуривал, лениво наблюдая за тем, как сбежавшиеся со всей округи бездомные собаки – матерые и молодые, породистые и дворняги, перемазавшись в крови, урвав куски потрохов или то, что от них осталось, как угорелые носились по двору, пытаясь спастись от преследования, сбивались в стаи, образовывали кучу-малу, которая с воем каталась по земле.
Довольно быстро, впрочем, находил это зрелище утомительным и однообразным, а посему, докурив, брал пустые ведра и, не оглядываясь, уходил. Знал, что через несколько дней, когда он опять выйдет сюда, чтобы выбросить требуху, эта сцена повторится снова.
После того как все заканчивалось, собаки разбредались по своим углам. Кто мчался на Обводный, кто пропадал во дворах на Лиговке, а кто убегал на Мойку.
Большая лохматая, добродушного вида псина, одно ухо которой было порвано, видимо, в драке, обитала в котельной при Максимилиановской лечебнице. Другое дело, что когда возвращалась поздно, то ворота тут уже были закрыты и приходилось ночевать на улице, где придется.
Так вышло и на этот раз, когда после Сального буяна долго бродила по городу, потому что еще знала места на Сенной и рядом с Николаевским вокзалом, где можно было столоваться без риска подвергнуться нападению со стороны сородичей или быть избитой пьяными прохожими или ямщиками.
Постояла какое-то время перед запертыми воротами на пронизывающем ветру, безуспешно пытаясь уловить знакомые, теплые запахи больничной столовой, и пошла в сторону полосатой караульной будки, которую приглядела еще в начале зимы и в которой уже ночевала несколько раз, пользуясь добротой ее хозяина – человека, как казалось собаке, похожего на эту самую полосатую будку, перечеркнутого, переполосованного портупеей, башлыком и ярким револьверным шнуром.
Войти внутрь сразу не решилась.
Села рядом на снег, зевнула и стала принюхиваться к местному духу, что хоть и был разорван на части и разогнан по околотку сквозняком, метавшимся как безумный между домами, все-таки оставался различим и потому покалывал ноздри то терпким дыханием табака, то запахами сыромятной кожи и ружейного масла, то вдруг накрывал тяжелым букетом отсыревшей шерстяной ткани. Дух слабо переливался под порывами ветра, но при этом оставался на месте, был неподвижен, из чего собака сделала вывод, что в будке никого нет.
Осмотрелась по сторонам, не поворачивая головы при этом, но лишь навострив уши, облизнулась, поднялась с земли, сделала несколько нерешительных осторожных шагов к деревянному сооружению и заглянула в него.
Нет, она не ошиблась, внутри было пусто. Не долго думая, тут же и заполнила собой пространство, свернулась на полу клубком, спрятав морду в лапы и хвост.
В наступившей темноте сразу стало тихо, и собака подумала, будто спит с открытыми глазами, потому как окружила ее ровно такая же темнота, какая наступала и в том случае, если она глаза закрывала, и ей снился при этом один и тот же сон про то, как она бежит по огромной пустой улице, в конце которой возвышается огромный шпиль, упирающийся в небо.
Собака бежит и видит, как по небу медленно плывут существа без лап, ушей и шерсти, но у них есть хвосты, которыми они виляют, чтобы двигаться вперед. Собака улыбается, ведь она не чувствует никакой опасности от этих существ, она уже видела их раньше лежащими на берегу большой воды, в которой они еще несколько мгновений назад плескались.
Над огромной пустой улицей звучат раскаты грома, и неспешно плывущие по небу существа превращаются в грозовые облака, из которых начинает идти дождь.
Собака высовывает язык и пьет воду, льющуюся на нее с неба. Делает это с удовольствием, ведь она и улыбается, и утоляет жажду одновременно.
Раскаты грома сотрясают воздух над самой ее головой, и собака прижимает уши. Но это не чувство страха, скорее изумления, что неизвестно откуда взявшийся звук подобрался к ней так близко, и она уже чувствует его своей спиной, будто бы кто-то сверху толкает ее ногой.
И снова раскат.
И снова толчок.
Собака выглянула из-под лап – сверху вниз на нее смотрел человек, напоминавший будку, в которой она сейчас лежала.
Человек начинал свирепо размахивать руками, открывал рот, издавая громкие звуки, пихал ее ногой, обутой в сапог. Он высился до неба, из которого на собаку продолжал лить дождь и по которому проплывали облака, похожие на существа без лап, ушей и шерсти. Человек-будка негодовал, но настоящей угрозы от него почему-то не исходило. Собаке даже казалось, что он боится ее больше, чем она его.
Нет, не показалось! Совсем не показалось! Она была в этом уверена, а потому только и вильнула хвостом в ответ, зевнула, в желудке у нее при этом заурчало, опустила морду на лапы и закрыла глаза.
С места она так и не сдвинулась.
* * *
На подъезде к Варшавскому вокзалу поручик Сухотин пришел в себя. Его обдало ледяным воздухом, и он инстинктивно завернулся в шубу. Поднятый воротник навис над ним подворотней, по которой он только что убегал от расхристанного, полураздетого бородатого мужика, что гнался за ним несколько кварталов с самой Мойки, видимо, учинил побег из Николаевской больницы для душевнобольных людей.
– Извольте ответить, ваше благородие, – кричал мужик, размахивая то ли кинжалом, то ли иерейским подсвечником, – какая вода святее, Крещенская или Богоявленская?!
Сергей Михайлович ускорял шаги, старался не оглядываться, переходил на бег, но преследователь не отставал, и казалось, что хриплый, скрипучий голос его все более и более приближался, вырастал за спиной.

Плакат к фильму «Святой черт».
Москва. 1917
– Не узнаете меня, ваше благородие? – не унимался мужик, чье горячее смрадное дыхание заполняло подворотню. – Григорий я, шубейку вы у меня подтибрили, и вот теперь, изволите видеть, мерзну вельми, а зимы-то нынче студеные.
– Ты меня, братец, с кем-то перепутал, – цедил сквозь губы Сухотин, – поди прочь.
– Никак не можно перепутать, ваше благородие, как же мне шубейку-то свою и не признать. Украли, ох украли, и Бог тому свидетель, а ведь сказано – не укради! – на этих словах мужик настигал свою жертву, хватал ее за воротник и валил на землю. Теперь Сергей Михайлович наверняка знал, что в правой руке безумца зажат кинжал, он видел его, и это был не подсвечник, не дикирий или трикирий никакой, а именно кинжал, который взмывал в воздух и, описав дугу, падал вниз, начиная кромсать шубу.
Первым в темноту проходного двора отлетал изуродованный воротник…
Сухотин опустил воротник шубы, и видение сразу исчезло.
Съехав с моста через Обводный, автомобиль устремился к железнодорожным путям, забитым санитарными эшелонами. Миновал привокзальные ворота, угольную биржу, подсвеченную газокалильными лампами вереницу пакгаузов в готическом стиле и остановился рядом с паровозным депо, внутри которого горел свет, отчего оно напоминало огромный затертый льдами дредноут, из недр которого доносился шум работающих механизмов.
Дмитрий Павлович предпочел остаться в машине, и к вагону головного отряда Красного креста, стоявшего на третьем пути, Сергей Михайлович и Станислав Лазоверт отправились пешком.
Шли в голубоватой полутьме узкого ущелья, образованного бесконечными железнодорожными составами.
Тут терпко пахло углем и креозотом.
Ветер меж тем стих совершенно, и пошел мелкий, искрящийся в свете далеких локомотивных огней снег.
Пришлось долго обходить только что пришедший с фронта эшелон, стоявший на втором пути, и когда наконец добрались до санитарного вагона, то гул станков, что работали в ремонтных мастерских депо, стих окончательно.
Перед приступкой тамбура в свете керосиновой лампы уныло топтался часовой.
При виде Сухотина и Лазоверта он настороженно вздрогнул и поправил висевшую на плече винтовку, однако, опознав Станислава Сергеевича, молодцевато вытянулся и отдал честь.
Поднялись в вагон.
Но это был совсем другой вагон, не тот, в котором Сережа Сухотин вместе с мачехой и ее отцом ехали в Москву зимой 1908 года.

Страница французской ежедневной газеты Excelsior со статьей об убийстве Распутина.
Париж. 1917

Страница французской ежедневной газеты Le Petit Parisien со статьей об убийстве Распутина.
Париж. 1917
Тогда был вагон третьего класса, переполненный крестьянами, батрачками в перелицованных кацавейках, замотанных платками поверх, да рабочими в замасленных бушлатах. Лев Николаевич сидел у окна и мрачно смотрел то ли на несущийся мимо него за стеклом пейзаж, то ли на отраженных в этом же стекле своих попутчиков, кто-то из которых спал, закрыв лицо шапкой или своими заскорузлыми, как корни деревьев, ладонями, кто-то, подперев голову руками, в отупении смотрел перед собой в одну точку, а кто-то негромко переговаривался с соседом.
Сергей Михайлович, кажется, на всю жизнь запомнил Толстого, сидевшего в этом вонючем, пропахшем махоркой, углем и потом вагоне, насквозь – от тамбура до тамбура – продуваемом жгучим сквозняком, с ужасом осознавал, что граф ничем не выделялся из этой разношерстной массы, был таким же бесприютным пассажиром, как эти мужики и бабы. Все они ехали по каким-то своим, только им ведомым делам в поисках пропитания или заработка, скрывались от кого-то или бежали от самих себя. А Лев Николаевич, напоминавший старую, смертельно уставшую, нахохлившуюся птицу, мимо которой эти люди проходили с полным безразличием, не обращая на нее никакого внимания, остро ощущал, что хоть он теперь и едет вместе с ними в одном вагоне, но они бесконечно далеки друг от друга, словно бы обитают на разных планетах. Находил всю полноту собственной жизни совершенно не способной вместить в себя того, говоря языком завсегдатаев салона Анны Павловны Шерер, mode de vie (образа жизни), который вел каждый из этих мужиков, никогда не задумываясь при этом над тем, как он живет и зачем. Это была своего рода отчаянная безбытность и одновременно совершенно искреннее, детское упование на то, что все совершается по воле Божией, а всякое своеволие греховно и дерзостно.
Сережа наблюдал за тем, как Татьяна Львовна пыталась послужить своему отцу, беспокоилась о его самочувствии и настроении, но всякий раз на вопросы дочери Лев Николаевич отвечал односложно и раздраженно, было видно, что ему претит чрезмерное внимание к собственной персоне. Казалось, что он стесняется своих случайных попутчиков, вернее, того, что они подумают о нем, поймут в конце концов, что он им не ровня, что просто ради забавы, или из жалости к ним, едет в этом убогом, прокуренном и грязном вагоне.
Когда же наконец приехали в Москву, и все стали выходить из поезда, то, проходя мимо скамейки, на которой сидел Толстой, начали кланяться ему и прощаться с ним, при толкались несуразно, ломали шапки, покашливали для солидности, пятились, наступая на пятки одних и носки других. Сереже в эту минуту стало до слез жалко отца мачехи, который во всем этом сумбуре сжался от стыда и одновременно от злобы на самого себя. Ведь не мог же он не понимать в конце концов, что этим все и должно было кончиться.
Когда же вагон опустел окончательно, Толстой тяжело встал со своего места и, заложив руки за спину, мрачно побрел к выходу, где его уже ожидали встречающие.
Он был как Иона во чреве кита, а еще его укачало и потому тошнило.
Санитарный вагон, входивший в состав головного железнодорожного отряда Красного Креста Владимира Митрофановича Пуришкевича, выглядел совсем по-другому.
Господа Сухотин и Лазоверт вошли в просторное купе, более напоминавшее кабинет, к которому примыкали спальня и туалетная комната.
Бронзовые электрические светильники выхватывали тут из полумрака диван, занимавший всю торцевую стену, декорированную полосатыми штофными обоями, письменный стол в междуоконном пространстве, ширму Шинуазри, что загораживала проход в спальню, и чугунную, в форме китайского самовара, печь, которая утробно гудела.
В купе было жарко натоплено.
Станислав Сергеевич помог поручику стащить с него шубу и при помощи складного ножа принялся отрывать от нее воротник. Это оказалось непростой задачей. Лазоверт громко сопел, ругался вполголоса, яростно вонзал лезвие в мастерски сработанные скорняком швы, и когда наконец дело было сделано, то распахнул топку и запихнул туда свою добычу. Белые хлопья густого вонючего дыма почти тотчас же полезли из печного поддува, и резкий запах паленой шерсти заполнил купе.
Сергей Михайлович подумал, что именно так бесформенно, беспросветно, прогоркло и выглядит дух шубы Распутина, которая теперь валялась у него под ногами, разметав рукава в разные стороны и вывернув полы, совершенно напоминая при этом обезглавленного человека.
Неловко орудуя кочергой, Лазоверт проталкивал воротник в самое горнило, торопился, зверел, видя, как печь захлебывается в дыму, выплевывая из себя наружу оранжевые сполохи-стрелы пламени, как бы метя ими в него, норовя обжечь или даже убить.
«Вот ведь как, не сдается дух Григория Ефимовича», – усмехнулся про себя Сухотин.
– Что же вы стоите, Сергей Михайлович! – голос Лазоверта показался раздраженным. – Режьте ей рукава! – и протянул Сухотину свой складной нож.
А тут шуба почему-то не сопротивлялась (выдохлась? изнемогла?), и потому швы расходились быстро, а те узлы, которые не брало лезвие, перегрызал зубами.
Печь-самовар вновь поперхнулась дымом, превратившись в огромное кадило, которое и не разглядеть в клубах ладана.
Лазоверт закашлялся, подошел к окну и открыл его. Холодный воздух вместе с отдаленными паровозными гудками и перекличкой путевых обходчиков сразу ворвался в купе, будто ждал снаружи. Шторы задвигались на сквозняке, затрепетали, и Сухотину показалось, что состав бесшумно тронулся с места, что медленно поплыл вдоль бесконечной шеренги только что прибывших с фронта санитарных эшелонов, из которых доносились то стоны, то истошные крики, то громкие голоса отдающих приказания офицеров. При этом стук колес, свистки локомотива были почему-то неразличимы, разве что пол покачивался под ногами, да позвякивали развешенные на стенах бронзовые светильники, и мигал свет…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.