Текст книги "Анти-Ницше"
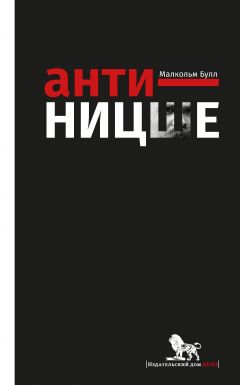
Автор книги: Малкольм Булл
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Следовательно, нигилизм не обязательно должен был стать завершением негативности как таковой. В 1851 году Доносо Кортес отметил: «Отвержение любой власти – далеко не последнее из всех возможных отрицаний; это лишь предварительное отрицание, которое будущие нигилисты внесут в свои пролегомены»[48]48
Цит. по: Goudsblom J. Nihilism and Culture. P. 5.
[Закрыть]. В результате переноса ценности от морального к эстетическому стала возможной новая форма отрицания – филистерство, отрицание эстетического, и именно в тот момент, когда в России появились нигилисты, начались нападки на филистерство. Немецкое слово Philister использовалось в XVIII веке для обозначения горожан в противоположность студентам, но впоследствии оно стало применяться ко всем, кто безразличен к искусствам – и впервые в этом смысле оно было использовано у Гете[49]49
W. Grimm, J. Grimm. Deutsches Wörterbuch. Leipzig: Weidmannsche Buchhandlung, 1889. Vol. 7. P. 1826–1827.
[Закрыть]. В 1830-е годы нападки на немецких филистеров стали привычным явлением – членов придуманного Шуманом «Давидова братства» поощряли «уничтожать филистеров, как музыкальных, так и других»[50]50
Eismann G. Robert Schumann. Leipzig: Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1956. Vol. 1. P. 87. См. также: Arendt D. Das Philistertum des 19. Jahrhunderts // Der Monat. 1969. № 21. P. 33–49.
[Закрыть], а в 1869 году вышла наиболее известная полемическая работа против филистерства – книга Мэтью Арнольда «Культура и анархия».
Эта краткая история отрицания указывает на то, что современная позиция филистерства как отрицания, которое повсеместно осуждается, но при этом нигде не отстаивается, одновременно более интересна и менее парадоксальна, чем кажется на первый взгляд. Эстетическое – это не некая константа человеческой истории, а просто остаток предшествующий истории отрицания, тогда как филистерство – соответствующий ему, но пока еще не реализованный негатив. Атеизм был выявлен и осужден уже в шестнадцатом веке, однако атеисты появились только в семнадцатом. Анархистов обличали начиная с XVII века, и к концу XVIII века они и в самом деле материализовались. Но когда появились анархисты, родился новый призрак – нигилист; а спустя одно поколение нигилисты заявили о своем собственном существовании. Именно в этот момент появляется филистер как позднее, но наверняка не последнее отрицание.
Закономерность, складывающаяся в этой последовательности отрицаний, является не круговой, а диалектической. Хотя отрицание со временем переходит от призрачного состояния к реальности, оно не было воплощено в форме его противоположности. (Атеисты не основали отдельной религии, анархисты не образовали правительства, а нигилисты не установили морали.) Но при этом отрицание одной ценности допустило дифференциацию и утверждение другой ценности, которая ранее включалась в первую. На каждой новой стадии идеологические позиции, некогда казавшиеся противоречивыми, внезапно становились доступными. Критики атеизма предполагали, что не может быть политической власти без Бога; критики анархии доказывали, что не может быть нравственности без государства; критики нигилизма предполагали, что не может быть красоты без нравственности; и все же с каждым сдвигом появлялись невероятные новые типы: поддерживающий власть атеист, этический анархист, эстетический нигилист.
Если поставить невидимость филистеров в этот исторический контекст, она покажется вполне предсказуемой. В цепочке отрицаний отсутствующий негатив определяется как недочеловеческое обращение главной ценности превалирующей системы, и одна из причин, по которым негативные позиции так медленно заполняются, состоит в том, что занимать их – порой опасно, часто незаконно и всегда совершенно неприемлемо в социальном отношении. Сегодня, разумеется, атеизм, анархизм и даже нигилизм стали признанными интеллектуальными позициями, так что сами эти термины в целом уже не используются в качестве ругательств. Однако тот факт, что люди продолжают обзывать друг друга филистерами, но при этом отказываются примерить к себе этот ярлык, является ясным признаком того, что эстетическое продолжает считаться общей социальной ценностью, так что оказаться в числе филистеров, скорее всего, по-прежнему неприятно[51]51
Так, к примеру, Эдвард Фезер критикует «новый атеизм» как форму филистерства. См.: Feser E. The New Philistinism // The American. 26 March 2010.
[Закрыть]. Однако эта историческая закономерность указывает и на то, что филистерская позиция, первоначально определенная ее противниками, со временем будет занята ее приверженцами. Чтобы понять, чем бы мог быть филистер, мы должны обратиться к его критикам.
Рождение филистерства
«Культура и анархия» остается классической формулировкой противопоставления культуры и филистерства. Но хотя Арнольд не желал навешивать какой-то ярлык на сторонников культуры, называя их попросту людьми, руководствующимися «общечеловеческим духом, любовью к человеческому совершенству»[52]52
Arnold M. Culture and Anarchy. New Haven: Yale University Press, 1994. P. 73.
[Закрыть], он выделил три группы, в которых блага культуры получают несовершенную реализацию, отсутствуют или же отвергаются: варваров, простонародье и филистеров. Варвары – это аристократы, которые, вместо того чтобы впитать в себя то, что Арнольд назвал «сладостью и светом» культуры, обладают «неким образом или тенью сладости», образом, сформированным благодаря поверхностному знакомству с культурой, от которого у них лишь «внешняя грация и ловкость, а также наиболее поверхностные из внутренних добродетелей»[53]53
Arnold M. Culture. P. 70.
[Закрыть]. Простонародьем Арнольд называл «значительную долю <…> рабочего класса, который, будучи грубым и развитым лишь наполовину, давно прозябает в бедности, так что его почти не видно»[54]54
Ibid. P. 71.
[Закрыть], тогда как филистеры – это те, кто «особенно упрям и извращен в своем сопротивлении свету»[55]55
Ibid. P. 68.
[Закрыть]. Только у них нет оправдания. Простонародье нечувствительно к сладости и свету, поскольку оно лишено его; варваров соблазняют «внешние блага», но это все-таки блага, и соблазняться ими – естественно. Но филистеры, пестующие «некое угрюмое и несвободное существование, предпочитая его свету», являются, с точки зрения Арнольда, попросту извращенцами.
Арнольд отождествил филистеров с новым классом промышленников: «люди, больше всего верящие в то, что наше величие и благополучие доказываются тем, что они очень богаты, которые всю свою жизнь и мысли посвящают обогащению, – это те самые люди, которых мы называем филистерами»[56]56
Ibid. P. 35.
[Закрыть]. Поэтому он предполагал, что сопротивление филистеров сладости искусства является результатом их «кабальной зависимости от машин»[57]57
Ibid. P. 50.
[Закрыть]. Извращенное сопротивление эстетическому объясняется как заточение в технологии капитализма; филистер, возможно, желает красоты, но сам лишил себя способности откликнуться на нее. Филистерская позиция сопротивления эстетическому продумывается Арнольдом достаточно точно, но она изображается лишь как своего рода смирительная рубашка, в которую заключены те, чьим интересам могла бы повредить увлеченность эстетическим. Если, однако, сопоставить то, как Арнольд описывает филистера, с другим текстом, определяющим роль культуры в середине XIX века, возникает еще одна возможная концепция филистерства. В Ecce Homo Ницше ошибочно приписывает себе заслугу введения в немецкий язык выражения «образованный филистер» (Bildungsphilister)[58]58
EH. С. 238.
[Закрыть]. Он часто использовал его в своем первом из «Несвоевременных размышлений», посвященных критике теолога Давида Штрауса. Филистер, писал Ницше, это «противоположность сыну муз, художнику, настоящему культурному человеку»[59]59
НР. С. 14.
[Закрыть], тогда как образованный филистер – это филистер, который отрицает то, что он филистер, выступая в девятнадцатом веке своего рода аналогом атеистов века семнадцатого. Ницше пишет: «Что за злосчастная путаница творится, должно быть, в мозгу у образованца! Он считает культурой именно то, что отрицает культуру, и поскольку заблуждается он последовательно, у него в итоге выходит целая взаимосвязанная группа таких отрицаний, некая система анти-культуры, <…> образованец лишь уклоняется, отрицает, замыкается, затыкает себе уши, отводит взгляд; он – существо негативное, в том числе в своей ненависти и в своей враждебности». Филистер, пишет он дальше, – это «препона на пути всех творящих и могучих, лабиринт для всех сомневающихся и заблудших, трясина для всех изнемогших, кандалы на ногах всех стремящихся к высокой цели, ядовитый туман для всех свежих побегов»[60]60
Там же. С. 15–16.
[Закрыть].
В своих резких нападках на филистерство Ницше воспроизводит многие из элементов своей критики Сократа в «Рождении трагедии», опубликованной годом ранее, в 1872 году. Филистеру свойственно «некое довольство – довольство собственными рамками», которое созвучно «спокойной жизнерадостности научного сократизма»[61]61
НР. C. 17. РТ. С. 117.
[Закрыть]. Сократ – это еще и прообраз «бесстыдного филистерского оптимизма» Штрауса[62]62
НР. C. 38.
[Закрыть] и так же, как Сократ, отличается «убийственной для искусства тенденцией», филистер «хозяйничает в произведениях наших великих поэтов и композиторов, как червь, который живет путем разрушения»[63]63
РТ. С. 102. НР. C. 35.
[Закрыть]. В «Рождении трагедии» проверка любого человека на то, «насколько он близок типу истинно эстетического слушателя – или принадлежит к сообществу сократически-критических людей», состоит в чувстве «с каким [он] встречает изображаемое на сцене чудо»; в эссе о Штраусе филистеру «ненавистен гений; ведь именно он по праву слывет чудотворцем»[64]64
РТ. С. 133; НР. C. 45.
[Закрыть].
«Рождение трагедии», если прочитать его в свете последующей атаки Ницше на Штрауса, представляется нераспознанной параллелью к «Культуре и анархии», опубликованной всего лишь тремя годами ранее. Ведь, хотя тональность двух этих книг совершенно разная, их главный вопрос – один и тот же. И в «Рождении трагедии», и в «Культуре и анархии» дихотомия обычного опыта и высшего сопровождается указанием на то, что высшее оправдывает обычное и наделяет его значением. Без возвышенного, гармоничного, совершенного взгляда на мир, доступного благодаря искусству и культуре, повседневная реальность, переживаемая обычным эго, является, по словам Арнольда, «разорванной на множество частей, мятущейся и слепой»; а по Ницше – тошнотворным миром боли и противоречия. По Арнольду, единственная совершенная свобода – это «возвышение нашего лучшего “я”, гармонизация в подчинении ему и совершенному человечеству всех <…> импульсов нашей обычной самости»[65]65
Arnold M. Culture. P. 121.
[Закрыть]. По Ницше, «существование и мир навеки оправданы только как эстетический феномен», и только «совершенство этих состояний в противоположность лишь частично понятной дневной реальности <…> [делают] жизнь возможной и приемлемой»[66]66
РТ. С. 43, 25.
[Закрыть].
В «Рождении трагедии» противоположность обычного опыта и высшего выписана за счет двух противопоставлений: с одной стороны Аполлона и Силена, а с другой – Диониса и Сократа. По Ницше, первая дихотомия выражена в «Преображении» Рафаэля. В верхней половине картины мы видим «аполлоновский мир красоты», «сияющее парение в чистейшем блаженстве и безболезненном созерцании широко открытых лучащихся глаз»; а в нижней – ужасный мир Силена, «отражение вечного изначального страдания, единой основы мира»[67]67
Там же. С. 36.
[Закрыть]. Чтобы показать, чем бы был мир без искупительной силы аполлоновского начала, Ницше пересказывает историю Софокла, изложенную в «Эдипе в Колоне». За Силеном охотился Мидас, спрашивающий его: «Что для человека лучше и предпочтительней всего?». Силен ответил: «Наилучшее для тебя совершенно недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А самое лучшее после этого – как можно скорее умереть». Эта ужасная мудрость, по словам Ницше, «Преодолевалась греками с помощью того художественного промежуточного мира олимпийцев»[68]68
РТ. С. 32–33.
[Закрыть]. Только искусство «способно обратить эти вызывающие отвращение мысли об ужасе и абсурдности существования в представления, с которыми еще можно жить»[69]69
Там же. С. 52.
[Закрыть].
Как и аполлоновское, дионисийское – это искупительное искусство, однако оно дает искупление за счет причастия, а не созерцания. По Ницше, «наше высшее достоинство заключено в ценности художественных произведений», тогда как в дионисийском «пении и пляске человек проявляет себя членом более высокого сообщества <…> он сам стал художественным произведением»[70]70
Там же. С. 43, 27.
[Закрыть]. Но в Сократе, в чьем циклопическом оке «никогда не пылало прекрасное безумие художнического вдохновения»[71]71
Там же. С. 84.
[Закрыть], Ницше признал «противника Диониса». Вооружившись максимами «добродетель есть знание», «грешат только по незнанию», «добродетельный есть и счастливый», Сократ отвергает инстинкт, а вместе с ним и дионисийскую составляющую в искусстве.
Если соединить два противопоставления – Аполлона Силену и Диониса Сократу – они образуют семиотический квадрат[72]72
См.: Greimas A. J. The Interaction of Semiotic Constraints // Greimas A. J. On Meaning. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. P. 48–62 (cм. рис.).
[Закрыть]. Ведь, если противопоставление Аполлона и Силена, как и противопоставление Диониса и Сократа, представляет собой отношение противоречащих друг другу терминов, знаменитое ницшевское различие Аполлона и Диониса вместе с подразумеваемым им различием Силена и Сократа – это два отношения противоположных терминов. Хотя Ницше не привлекает к этому особого внимания в «Рождении трагедии», физическое сходство Сократа и Силена было общепризнанным[73]73
Платон. Пир // Платон. Собр. соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 125.
[Закрыть]. Вместе они – два глашатая мира, который невозможно искупить искусством. Различие между ними лучше всего выражается их отношением к смерти. Согласно Силену, смерть предпочтительней жизни, поскольку жизнь – это только страдание; Сократ, отвергнув жизнеутверждающее искупление, доступное в искусстве, также предпочитает смерть, но только потому, что является человеком, «знанием и доводами освободившимся от страха смерти»[74]74
РТ. С. 91.
[Закрыть]. Следовательно, если Силен выражает доэстетический нигилизм, Сократ – выразитель филистерского морализма. И если Силен – это анэстетическое выражение дионисийского, то Сократ, в «логический схематизм [которого] переродилась аполлоновская тенденция»[75]75
Там же. С. 87.
[Закрыть], – это анэстетический аналог искупительного искусства Аполлона.

Понимание того, что в «Рождении трагедии» представлена четырехсторонняя карта искусства и его альтернатив, позволяет нам четче понять ее родственность категориям «Культуры и анархии» Арнольда. Хотя их оценки каждой из альтернатив не совпадают, Арнольд и Ницше выписывают диапазон позиций в близких категориях. В обоих случаях проводятся различия между двумя формами культуры (дионисийская и аполлоновская, варварская и гуманистическая) и двумя формами бескультурья (Силен и Сократ; простонародье и филистерство), а также, если брать другую ось, между двумя формами этической жизни (аполлоновской и сократической; гуманистической и филистерской) и двумя формами неэтического (дионисийского и силеновского; варварского и простонародного). В соответствии с этой классификацией Силен и простонародье остаются вне любой признанной культуры; варвары вкушают лишь примитивную сладость Диониса; гуманисты купаются в сиянии аполлоновского света; а Сократ с филистерами в силу своей извращенности сопротивляются сладости и свету, даруемым культурой. Следовательно, мы видим удивительное согласие в прорисовке призрака филистерства. Филистер – это не просто выразитель одной культуры, противопоставленной другой, и не тот, для кого культура остается по существу чуждой, а тот, кто активно отрицает культуру как таковую, блага которой он мог бы однако разделить и оценить. Но, приписывая филистерской позиции определенный мотив, Ницше способен вообразить более тревожную возможность, чем представляется Арнольду. Чтобы прояснить различие, полезно изучить текст, который интерпретирует «Рождение трагедии» в категориях Арнольда, а именно «Диалектику Просвещения» Адорно и Хоркхаймера.
Одиссей или Сократ?
Несмотря на предложенный Хабермасом анализ ницшевской линии в «Диалектике Просвещения»[76]76
Habermas J. The Entwinement of Myth and Enlightenment: Rereading Dialectic of Enlightenment // New German Critique. 1982. Vol. 26. P. 13–30.
[Закрыть], влияние «Рождения трагедии» на обсуждение Диониса и сирен у Адорно и Хоркхаймера остается непроясненным. В первом разделе «Рождения трагедии» Ницше приводит образ из Шопенгауэра: «Как среди бушующего моря, с ревом вздымающего и опускающего в безбрежном своем просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяясь слабой ладье, – так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на principium individuationis»[77]77
РТ. С. 27.
[Закрыть]. С точки зрения Адорно и Хоркхаймера, пловца или морехода воплощает в себе Одиссей, приключения которого подтвердили ему самому «единство его собственной жизни, идентичность его личности», тогда как сирены представляют одну из «сил распада», которые заманивают индивида обратно в «лоно» «архаического мира»[78]78
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. М., СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 49–50.
[Закрыть]. Поскольку, по Ницше, «лишь исходя из духа музыки, мы понимаем радость уничтожения индивидуальности вообще»[79]79
РТ. С. 99.
[Закрыть], в пении сирен легко распознать песнь Диониса, которая «не обращает внимания на отдельного человека, а, напротив, стремится уничтожить индивида и спасти его в мистическом ощущении единства»[80]80
Там же. С. 28.
[Закрыть]. Приглашая субъекта подчинить свое «я» природе, сирены воспроизводят то, что Ницше называет дионисийским кличем природы: «Будьте подобны мне! В непрестанной смене явлений я – вечно творческая, вечно побуждающая к существованию, вечно находящая свое удовлетворение в этой смене явлений Праматерь!»[81]81
Там же. С. 99. См. также: Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. С. 49.
[Закрыть].
Одиссей, в «страхе утратить самость»[82]82
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. С. 50.
[Закрыть], затыкает уши своих моряков воском и заставляет их привязать его канатами к мачте своего корабля. И хотя его завораживает отравляющая сладость пения сирен, он не способен на нее ответить. Следовательно, по мысли Адорно и Хоркхаймера, пение сирен, их чары «нейтрализуются, превращаясь в предмет созерцания, в искусство»[83]83
Там же. С. 51.
[Закрыть]. Когда удалось совладать с искушением реакции, состоящей в самоуничтожении и причастии, дионисийская музыка сирен превращается в аполлоновский предмет индивидуальной оценки, в безобидный концерт. Таким образом, по словам Адорно и Хоркхаймера, «Аполлонистический Гомер» создает связь между искусством и индивидуацией[84]84
Там же. С. 64 (Адорно цитирует Ницше).
[Закрыть].
Если прочитать интерпретацию сирен у Адорно и Хоркхаймера как переделку «Рождения трагедии», станет ясно, что сопротивление Одиссея сиренам – это аналог отвержения Сократом дионисийского начала. Ницше сам проводит эту параллель в «Веселой науке», где говорится, что наличие «воска в ушах» стало условием философствования, поскольку после Платона «настоящий философ уже не слышал жизни, поскольку жизнь есть музыка», опасаясь того, что «всякая музыка есть музыка сиен»[85]85
ВН. С. 570.
[Закрыть]. Философ ставится в положение гребцов, которые глухи не к красоте музыки сирен, а к музыке вообще. Тогда как Одиссей остается восприимчивым к красоте пения сирен, однако он может действовать лишь так, словно бы он ее не воспринимал. Он заставляет себя сопротивляться самому эстетическому; он буквально привязан к филистерской позиции[86]86
См.: Jameson F. Late Marxism: Adorno, or, the Persistence of the Dialectic. L.: Verso, 1990. P. 151–154.
[Закрыть].
По Адорно и Хоркхаймеру, Одиссей – это прообраз капиталиста, который отнимает у своих работников надежду на счастье, неизменно обещаемое эстетическим, но в то же время принуждает самого себя к безразличию, дабы поддержать эффективность своего предприятия. Однако канаты, которыми Одиссей привязан к мачте и благодаря которым он может господствовать над природой, также замыкают его в чисто механическом мировоззрении: согласно Адорно и Хоркхаймеру, «сегодня машинерия изувечивает людей, даже когда вскармливает их»[87]87
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. С. 55.
[Закрыть]. Это всецело арнольдовская концепция филистерства. Так же, как Одиссей был привязан к мачте своего корабля, викторианские филистеры у Арнольда находились «в кабальной зависимости от машин»[88]88
Arnold M. Culture. P. 50.
[Закрыть], будучи привязанными к убеждению, что порождение богатства – это самоцель; гуманисты могут «отвязать себя от машин», однако филистеры не способны уклониться от своей озабоченности «промышленной машинерией, властью и превосходством»[89]89
Ibid. P. 71.
[Закрыть].
Используя арнольдовский образ филистера, внешне ограниченного путами его собственного приготовления, Адорно и Хоркхаймер способны переписать ницшевский нарратив из «Рождения трагедии», выстроив его вокруг истории Одиссея. Но в результате они теряют одну из важных идей Ницше. По Ницше, внешнее ограничение – это следствие филистерства, а не его причина. В противоположность Одиссею, Сократ – это филистер, чья сила сопротивления приходит изнутри: «Если у всех продуктивных людей именно инстинкт и представляет творчески-утверждающую силу <…>, то у Сократа инстинкт становится критиком». Когда его даймоний говорит, он всегда разубеждает: «Инстинктивная мудрость проявляется в этой совершенно ненормальной натуре только для того, чтобы по временам оказывать противодействие сознательному познанию»[90]90
РТ. С. 83.
[Закрыть]. Даже если его последователей со временем «пленяет сократическая радость познания»[91]91
Там же. С. 105.
[Закрыть], сам Сократ не привязан к машинерии господства, он, напротив, тот, через кого дух отрицания говорит свободно и самопроизвольно, как через Силена. Ему ничто не мешает ответить на музыку Диониса, он просто освобожден от самого влечения к такому ответу.
Конечно, Ницше, не успев создать это чудовище, филистера, тут же стремится его приручить. Возможно, Сократ отвергает искусство, однако ненасытная страсть сократизма к знанию, «гонимая вперед своим могучим бредом, спешит неудержимо к собственным границам – здесь-то и терпит крушение ее скрытый в природе логики оптимизм»[92]92
Там же. С. 93.
[Закрыть]. Мудрость Сократа неизменно ведет обратно к его двойнику, Силену. В таком случае искупление проглядывает в утопической фигуре Сократа, занимающегося музыкой, Одиссея, который может безбоязненно петь вместе с сиренами. Однако, несмотря на все свои заявления, будто филистерство вновь создаст потребность в искусстве, Ницше, в отличие от Адорно и Хоркхаймера, никогда не смешивает неудовлетворенное желание искусства с отсутствием такового желания. По Ницше, нехватка желания искусства – это разрушительная сила, которая со временем воспроизведет те самые условия, в которых первоначально искусство как раз и стало необходимым, и хотя он надеется на иное эстетическое искупление, это не значит, что разрушение искусства само по себе составляет такое искупление или даже взывает к нему. В Сократе филистерство принимает форму прямого и самопроизвольного отрицания; в отличие от Одиссея, он оказывается образцом того, кого Ницше однажды саркастически, но при этом, быть может, пророчески окрестил «филистером как основателем религии будущего»[93]93
НР. С. 25.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































