Текст книги "Достоевский и динамика религиозного опыта"
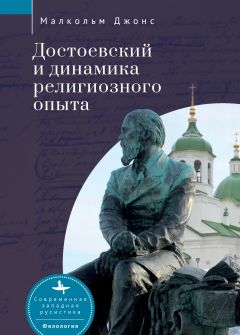
Автор книги: Малкольм Джонс
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Каковы бы ни были сознательные причины, по которым Достоевский экспериментировал с повествовательным голосом на протяжении всей своей карьеры и часто соскальзывал от одной условности к другой в рамках одного и того же художественного произведения, в результате целостность повествовательного голоса всячески подрывалась и наделялась двусмысленностью, и в результате то, что Роджер Пул называет неразрешимостью текстов Достоевского, усиливалось. Под «неразрешимостью» [Poole 2002: 398 и далее] Пул понимает сопротивление тому, что он называет «грубыми прочтениями» [Poole 2002: 413], то есть прочтениями, стремящимися свести текст к единственному значению. Хотя Достоевский спровоцировал множество таких прочтений, некоторые из них были выражены с большой долей страсти, и их авторы неизбежно считали конкурирующие прямолинейные прочтения ошибочными, само существование стольких конкурирующих и на первый взгляд весьма правдоподобных прямолинейных прочтений дает нам основания сделать паузу и подумать. Такое размышление приводит к заключению, что, хотя многие из них вполне оправданны и даже очень привлекательны, они все же оставляют неучтенными некоторые важные аспекты текста. Тексты Достоевского в этом смысле не просто полифоничны по Бахтину, т. е. не просто являются проводниками множества спорящих голосов – что гораздо важнее, они позволяют нам читать текст глазами этих разных говорящих так, что большая часть повествования сводится к их точкам зрения, но никогда не полностью, и это «никогда не полностью» приводит нас к исследованию жизнеспособности других прочтений, вытекающих из тех элементов, которые отказываются быть ассимилированными. Не в меньшей степени это относится и к последнему роману Достоевского, «Братья Карамазовы», который одинаково убедительно можно читать и с точки зрения Ивана, и с точки зрения Зосимы, но ни в том, ни в другом случае не без оговорок. Эта неассимилируемая часть текста и есть то, что Деррида назвал восполнением (supplement), и мы можем видеть, что лучше, чем где-либо, оно работает во втором рассказе Достоевского «Двойник», который позднее он признавал неудачным и незрелым, но основную идею которого он всегда считал одним из самых важных своих открытий [Достоевский 1972–1990, 26: 65].
На поверхности мы сталкиваемся с героем (Голядкиным), который встречает своего двойника в правительственном ведомстве, где он работает, и который чувствует себя все более и более преследуемым им, пока в конце концов не сходит с ума. Но, кроме этого, в ходе повествования и рассказчик, и герой подвержены растворению – и автор-рассказчик, и реальная жизнь вынесены за скобки, и из развития текста не возникает единой «истины». Какие бы стратегии мы, как читатели, ни использовали для нахождения единого общего значения, мы никогда не сможем найти удовлетворительных ответов на такие вопросы, как: действительно ли существует двойник или он частично или полностью является плодом воображения героя; если действительно кто-то там есть, так ли уж он похож на героя, как тот думает, и действительно ли преследует его; если у нас есть основания сомневаться в реальности восприятия двойника героем, можно ли полагаться на рассказчика, который как бы попадает в поле зрения героя? Что происходит на самом деле; где мы, как читатели, находимся? Где здесь автор? Хотя мы можем выдвигать различные гипотезы, как делает череда критиков на протяжении многих лет, в повествовании всегда остается что-то, что, кажется, ускользает и фальсифицирует любую из них – в логике, которая, в соответствии с требованиями традиционной критики, лежит в основе вымысла, есть какое-то несовершенство. Каждая гипотеза, кажется, в конце концов рассыпается, оставляя бессмысленную пустоту, как если бы, используя собственную метафору Достоевского, это был чей-то чужой сон. И в том, что повествование вследствие этого наполнено тревогой, не усомнится ни один чувствительный читатель[59]59
Я дал подробный анализ «Двойника» и проблем, которые он поднимает перед читателем, в [Jones 1990: 35–58].
[Закрыть]. Такова природа подполья, и это явление, к которому Достоевский снова и снова возвращается в своих произведениях на протяжении всей своей творческой деятельности.
В краткой, но блестящей статье, написанной как дань уважения французскому специалисту по Достоевскому Жаку Катто, Уильям Миллз Тодд III [Todd 2002] делает несколько острых замечаний по поводу «Записок из подполья», из которых мы можем извлечь уроки для интерпретации всего творчества Достоевского. Он напоминает нам о коммуникативной модели Якобсона, согласно которой любое речевое событие содержит в себе адресата, адресанта, сообщение, контекст, код и контакт. Якобсон предполагает, что художественная литература делает сообщение, адресата, адресанта и референцию неопределенными, раздвоенными или двусмысленными [Jakobson 1987: 87], к чему Скоулз добавил, что мы ощущаем литературность, когда любой из этих шести факторов теряет свою простоту и становится множественным или двусмысленным. Оригинальность Миллса Тодда заключается в его утверждении, что «Записки из подполья», самое запутанное произведение Достоевского, усложняет каждый из этих коммуникативных элементов: все они двойственны. Адресант, утверждает он, по меньшей мере трижды вымышлен: сотворен Федором Достоевским; сотворен самим собой как мечтателем, создающим свою жизнь; и сотворен романтическими произведениями, которые он читает. Двусмыслен и адресат: «джентльмены», которым адресован вымысел, настоящие или вымышленные? Настоящий адресат – эти «джентльмены» или же сам рассказчик? Если да, то что это говорит о настоящем читателе? Контекст (или референт) текста также неоднозначен. Он претендует на познавательную ценность, но при этом наслаждается литературной выдумкой, а рассказчик постоянно предупреждает читателя о том, что он лжет. Так же и с пространственными и временными координатами: Санкт-Петербург представлен как абстрактный и продуманный, а «подполье» – это одновременно и психологическая, и политическая, и физическая метафора. К этому можно было бы добавить, что это также философская и религиозная метафора. Наконец, коды, в которых представлено повествование, варьируются в зависимости от «перформативных целей» рассказчика, от кода социального романтизма до кода реалистического разоблачения, к которому можно добавить код «исповеди». Единственный момент, в котором я хотел бы возразить Миллсу Тодду, заключается в формулировке его вступительного предложения, которое гласит: «Пусть читатели и считают Достоевского пророком, философом, журналистом и политическим мыслителем, призванием его была литература, искусство письма» [Todd 2002: 161]. Здесь, безусловно, содержится ложная оппозиция. Именно на таких литературных приемах и основан деконструктивный аспект философии Достоевского.
Если мы перейдем непосредственно к крупным романам, то обнаружим, что рассказчик «Идиота», как утверждает Робин Фойер Миллер [Miller 1981], не только переходит от позиции всезнающего (а с течением времени знающего все меньше) летописца к позиции романиста, изо всех сил пытающегося осмыслить свой материал, до тех пор, пока в конце концов он, кажется, не потеряет терпение по отношению к своему герою и не поспешит к развязке, почти не контролируя себя, но который также, рассказывая историю, перенимает в одном месте стиль сочувствующего рассказчика, в другом – стиль комического автора романа (дурных) нравов, в третьем – готического романиста, в четвертом – юмориста вроде Диккенса. Хотя изменение тона можно объяснить изменением характера материала (то есть утверждением рассказчика, который использует наиболее подходящий голос), переход от всеведения к точке зрения летописца с ограниченным восприятием, а затем к точке зрения борющегося романиста (каким бы ни было биографическое объяснение) вызывает у внимательного читателя смятение и смущение. Вновь наше внимание привлекает условность посредника, и наша неуверенность в том, «что на самом деле должно происходить», усугубляется. «Идиот» – чрезвычайный случай путаницы в повествовании, но и «Бесы» отстают не сильно. Хотя в другом месте [Jones 1999] я утверждал, что несоответствия повествовательной точки зрения в этом романе в конечном счете примири-мы на психологических основаниях, мы по-прежнему остаемся с изменяющейся повествовательной точкой зрения. Рассказчик, конечно, представляя нам свои свидетельства, апеллирует при этом к объективным критериям, и тем не менее его точка зрения является точкой зрения вовлеченного участника. Этот участник-рассказчик, хотя он и находится на самой периферии действия, наблюдает или воображает большую его часть; это характерно для рассказчиков трех последних великих романов Достоевского – они якобы держатся на расстоянии, но на самом деле глубоко погружены в происходящее.
Несмотря на оговорки, которые мы отметили выше, часто отмечалось, что в последнем романе Достоевского есть вымышленный рассказчик, который предлагает устойчивую точку зрения, нетипичную для основных произведений Достоевского. Мы вернемся к этому и связанным с ним вопросам в следующей главе. Рассказчик может быть относительно устойчивым, но здесь Достоевский использует другой ограничивающий прием: доминирующая точка зрения его рассказчика – точка зрения здравого смысла. Один из наиболее смущающих аспектов «Двойника» – отсутствие здравого смысла, по которому читатель мог бы измерить правдивость или правдоподобие различных возможных версий того, что на самом деле происходило. Достигнув зрелости, Достоевский, очевидно, осознал это, и с тех пор, как бы ни была неустойчива повествовательная точка зрения, рассказчику, а через него и читателю, обычно удавалось определить позицию здравого смысла. В «Записках из подполья» рассказчик неоднократно проецирует ее на читателя. В больших романах эту роль часто играет второстепенный персонаж: Разумихин в «Преступлении и наказании», Радомский в «Идиоте», рассказчик, хотя он и сбивчивый, в «Бесах». В «Игроке», что интересно, эта роль была отведена англичанину мистеру Астлею. Но фантастический реализм не укладывается в рамки позиции здравого смысла. Поэтому, когда рассказчик «Бесов» переходит к самым драматическим и «фантастическим» эпизодам истории, он отказывается от здравого смысла и принимает тон готического романиста, как и его предшественник в «Идиоте». Однако рассказчик «Братьев Карамазовых» редко выходит за рамки здравого смысла. Хотя он обладает привилегированным подробным знанием содержания конфиденциальных сцен, таких как долгие разговоры Ивана с Алешей или чертом, об источнике которого он умалчивает, его голос остается голосом рассудка.
При этом здравый смысл не следует путать с авторитетом, знающим истину в последней инстанции. Если Достоевский хотел произвести такое впечатление в своем последнем романе, то был очевидный способ этого добиться – способ, который его великий современник Толстой использовал в обоих своих великих романах, второй из которых, «Анна Каренина», должен был появиться в том же десятилетии, когда Достоевский задумал и издал «Братьев Карамазовых». Это, конечно, путь всезнающего рассказчика. Достоевский сознательно отказался от этого способа повествования и, хотя нарративная точка зрения в этом романе относительно устойчива, он использовал другие способы, чтобы подчеркнуть многослойность дискурса и недостижимость высшей истины, находящиеся по ту сторону дискурса. Один из способов, как это обычно бывает у рассказчиков Достоевского, заключался в том, чтобы по ходу повествования тонко намекнуть на несовершенство собственных знаний. Но другой, возможно, более важный, – это дистанцирование рассказчика от непосредственного источника своего повествования, который мог бы быть использован для передачи основного смысла всего текста. Так обстоит дело с легендой Ивана о Великом инквизиторе или завещанием Зосимы. Нигде не записанная легенда пересказывается одним персонажем другому, а рассказчик, в свою очередь, пересказывает весь эпизод, не раскрывая источник, откуда он знает его подробности. Более того, аллюзии на историю и на древние тексты и традиции, включая Новый Завет, в совокупности наводят на мысль о том, что сама легенда далека от первоначального текста, но в принципе может быть прослежена слой за слоем в тумане прошлого. Кажется, это то, что предполагают критики, пытающиеся интерпретировать роман в свете, скажем, средневековых традиций. В случае с завещанием Зосимы нам говорят, что в действительности он никогда не диктовал его непрерывно, но что Алеша делал записи, и то, что мы читаем, является заметками Алеши, отредактированными рассказчиком. Но, опять же, аллюзии на предшествующие тексты настолько богаты и многочисленны, что культурный читатель или критик не может ни быть уверенным в свойствах оригинального текста, ни указать на его происхождение. Проще говоря, споры о том, является ли Зосима православным или еретиком, проистекают из этой неопределенности.
V
Растворение субъекта
Комментарий персонажа Хаксли к «Братьям Карамазовым» созвучен разговору, начатому Сологдиным в «В круге первом» Солженицына:
– Ну, например, как нам понять Ставрогина?
– Но на эту тему есть уже десятки научных статей!
– Они ничего не стоят. Поверь мне, я их читал. Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! Как кто-то может понять их? Они такие же сложные, такие же непонятные, как и люди в реальной жизни. Мы редко понимаем человека сразу и никогда насквозь. Что-то всегда появляется, чтобы удивить нас. Вот почему Достоевский такой гений! А литературные критики воображают, что могут вывести его персонажей на свет и увидеть их насквозь. Это же смешно! [Солженицын 1968: 426]
Следует признать, что западные литературоведы были несколько скрупулезнее в своем анализе персонажей Достоевского, чем некоторые из их советских коллег, о которых, несомненно, говорил Сологдин. Тем не менее едва ли можно отрицать, что персонажи Достоевского, в том числе второстепенные, запечатлеваются в памяти как вполне определенные личности со своими отличительными чертами характера. Если добавить к этому успех, которого добились некоторые критики в применении психоаналитических техник к его персонажам, что, по-видимому, было одобрено самим Фрейдом, то заявление Сологдина может показаться неуместным. С другой стороны, если принять во внимание разногласия по поводу отдельных характеров – иногда незначительные, а иногда и вполне серьезные, – то можно понять, почему персонаж Солженицына пришел к такому выводу. В конце концов, психологический подход к героям Достоевского оказывается вполне совместимым с таким взглядом. Как много лет назад писал Фрэнк Сили, проблема личности в произведениях Достоевского двойственна и связана с вопросами самоуважения и идентичности. «Маленькие люди» Достоевского ведут отчаянную и бесконечную борьбу за то, чтобы выпутать свой собственный образ из представления мира о себе, делая первый шаг к самоотношению, независимому от мира. Однако для главных героев и героинь вопрос несколько иной. Он скорее в центре личности, а не на границе с другими людьми, и может звучать так: «Кто я?» [Seeley 1999: 86–87][60]60
Эссе, в котором развивается эта точка зрения, было впервые опубликовано в 1961 году.
[Закрыть]. В обоих случаях мы имеем дело с образами и восприятиями, связь которых с лежащей в их основе реальностью гарантируется только силой наполняющих их эмоций и страстей. Любой студент последнего курса, серьезно задавшийся вопросом о мотивах Раскольникова, совершившего двойное убийство, или о неуловимой и тонко изменяющейся личности Мышкина, тотчас поймет, что и здесь мы имеем дело с законами, которые в конечном счете слишком сложны для нашего понимания. Нам дается слишком много информации, слишком много подсказок, подводящих к слишком большому количеству возможных объяснений, чтобы мы могли удовлетвориться хотя бы одним из них. Как еще раньше писал Филип Рахв, «Достоевский – первый романист, полностью принявший и обыгравший принцип неуверенности или неопределенности в изображении персонажа» [Rahv 1962: 21][61]61
Статья была впервые опубликована в 1960 году.
[Закрыть].
На первый взгляд может показаться, что Сили и Рахв расходятся во мнениях: один говорит, что герои Достоевского имеют определимое ядро и определимые проблемы, другой подчеркивает обратное. Но что их объединяет, так это осознание того, что Бахтин называл «незавершенностью». Чтобы мы, читатели или сами персонажи Достоевского, не слишком легко приспособились к определенному образу отдельной личности, Достоевский использует ряд приемов, децентрирующих их личности и постоянно держащих нас в неопределенности. Я исследовал некоторые из этих приемов в предыдущей книге. Здесь я не буду подробно повторять то, о чем там рассуждал, но краткое изложение позволит мне подвести эту главу к заключению.
О внутреннем конфликте героев Достоевского написано много, в том числе с точки зрения проблематичной концепции «двойника».
Р. Д. Лэйнг начинает свою книгу «Я и другие» [Лэйнг 2002] с анализа замешательства Раскольникова, в которое того приводят его переживания, сновидения, фантазии, воображения и бодрствующее восприятие, но затем Лэйнг переходит к тому, чтобы показать, как глубоко Раскольников был встревожен и сбит с толку письмом матери – оно поставило Раскольникова в положение, которое можно было бы назвать «ложным», «невыполнимым», «несостоятельным» или «невозможным». В письме мать определяет Раскольникова двумя несовместимыми способами: как христианина, который никогда не примет добровольное самопожертвование ради собственного блага, и как брата, который должен быть благодарен своей сестре за ее жертву, позволившую ему выжить в мире, не признающем христианских ценностей.
Я утверждал, что это лишь одна из многих стратегий, которые используют персонажи Достоевского, чтобы «свести друг друга с ума», подорвать уверенность друг друга в собственных представлениях о себе. Обычно этот процесс происходит бессознательно; иногда сознательно, но с непредвиденными и непреднамеренными последствиями; иногда совершенно сознательно, и последствия его преднамеренны, как в случае бесед Порфирия Петровича с подозреваемым в убийстве. Сознательный или нет, этот процесс часто указывает на отчаянную попытку со стороны субъекта придать объекту форму, соответствующую определенному взгляду на себя и на мир, взгляду, который сам находится под угрозой и срочно требует подкрепления. Так, Раскольников пытается разрушить веру Сони в Бога – веру, которая начинает оказывать на него нежелательное воздействие и в конце концов приведет к его признанию, а Соня, в свою очередь, так же тонко ниспровергает представление Раскольникова о себе как о фигуре уровня Наполеона и его очевидную уверенность в том, что он выше морали обычных существ. Таким образом, в то время как герои Достоевского постоянно пытаются разрушить чужой образ себя, они сами уязвимы для подобных попыток. Субъект постоянно подвергается процессам растворения и преобразования. В равной степени я утверждал, что сходные процессы взаимной деконструкции и реконструкции действуют в отношениях между читателем и текстом и что в этом процессе могут быть выявлены сходные стратегии [Jones 1990: 75–145]. Для настоящих целей достаточно будет подчеркнуть, что эти децентрирующие процессы, охватывающие персонажей, рассказчиков и сам текст Достоевского, проистекают из взгляда на мир без трансцендентной истины, в котором паттерны и фиксации любого рода являются не более чем поверхностными наборами знаков, как правило, жанровых условностей. Похоже, это мир, в котором живут персонажи и рассказчики Достоевского, мир, чья хрупкость и возможная иллюзорность постоянно преследовали его автора. Это, в конце концов, и есть мир фантастического реализма.
Эссе V
Религиозная полемика в нарративной форме: «Братья Карамазовы»
I
Если тезисы, выдвинутые в предыдущих главах, верны, то подтверждение следует искать в последнем романе Достоевского. Мы должны искать здесь не только то, что Эпштейн называет минимальной религией, но и признаки того, что такие явления имеют тенденцию к распространению в ситуации, когда крайности религиозной веры и атеистических убеждений, кажется, заходят в тупик. Мы также должны искать доказательства того, что эти крайности имеют общее происхождение в небытии, где в равной степени можно обнаружить вселенское отчаяние или переживание трансцендентной реальности.
Когда Эпштейн говорит о минимальной религии, он, конечно, имеет в виду конкретно российский контекст и, кажется, использует это выражение для обозначения любого проявления религиозности, которое не вполне соответствует русскому православию. Можно было бы возразить, что в эту категорию попадают все проявления религии в «Братьях Карамазовых», включая веру Зосимы и представление о Боге, против которого восстает Иван. Понятие это чрезвычайно широкое и, как мы увидим, охватывает множество разнообразных выражений религиозного чувства. Более того, выражения «минимальная религия» и «минимальный религиозный опыт» часто используются вне российского контекста просто для обозначения переживания трансцендентной реальности, не обремененные никакими интерпретационными традициями, кроме самых элементарных. На следующих страницах нам, возможно, придется отличать тот смысл, который в это понятие вкладывал Эпштейн, от более привычного значения. Однако мы найдем примеры и таких интерпретационных традиций, которые не обременены каким-либо опытом трансцендентного (Григорий и, возможно, Ферапонт), а также примеры отказа от таких традиций людьми, не имеющими такого опыта (старый Карамазов, Смердяков, Ракитин, Миусов, Коля, может быть, даже Иван, хотя его случай сложнее). Основания для отказа у этих персонажей значительно различаются, начиная от утонченных просветительских взглядов Миусова и заканчивая более современными взглядами Ракитина, их карикатурностью в молодом Коле Красоткине и грубым самоучительским буквализмом старого Карамазова или Смердякова. Наиболее важными, пожалуй, являются примеры переживаний трансцендентного, облегченных интерпретационной традицией, но впоследствии лишь слегка затронутые ей (например, в разной степени у Зосимы и Алеши). Все это довольно сложно классифицировать, тем более что между персонажами достаточно много диалогов и взаимодействий. Возможно, это и не нужно делать.
Любой современный читатель, впервые познакомившийся с «Братьями Карамазовыми», скорее всего, будет поражен не только количеством и разнообразием религиозного дискурса в первой части романа, но и тем, как он изложен в диалоге. Следует отметить два важных момента, касающихся характера диалога. Один из них, которым мы обязаны Бахтину, состоит в том, что голос рассказчика имеет лишь относительный вес и сам по себе является не вполне надежным, на чем сам рассказчик постоянно настаивает. Мы уже отмечали, что защитник обвиняет прокурора в том, что тот пишет свой собственный роман [Достоевский 1972–1990, 15: 156], что прокурор отвечает тем же [Достоевский 1972–1990, 15: 174], и это может заставить читателя задаться вопросом, не намекает ли нам рассказчик и на себя: ведь он тоже пишет роман. Он неоднократно предупреждает нас, что он избирательно подходит к презентуемому материалу. Интересно обратить внимание на то, какие принципы определяют его избирательность, и любое реалистическое прочтение его повествования должно допустить, что, как и его предшественник в «Бесах», он очень легко меняет позицию летописца на позицию творческого романиста, например, в своем подробном описании частных сцен, таких как встреча Ивана с чертом. По меньшей мере мы сталкиваемся с иронией, угрожающей достоверности повествования.
Защитник исходит из того, что, хотя общая картина убедительно указывает на вину Дмитрия, ни одна улика сама по себе не выдерживает критики [Достоевский 1972–1990, 15: 153]. Возможно, именно так мы должны видеть и отношение самого романа к «реальности». Размышляя над этим, вспомним на первый взгляд противоречивое наставление отца Паисия Алеше, что, хотя наука разобрала по частям все религиозные утверждения одно за другим, она упустила из виду более широкую картину [Достоевский 1972–1990, 14: 155]. Чему нам следует доверять больше: общей картине или скоплению отдельных деталей? В первом случае более широкая картина, хотя и фактически ошибочная, как бы приближает нас к реальности моральной вины Дмитрия. В случае религиозной истины нам также говорят, что мы должны сосредоточить свой взор на более широкой картине, хотя мы остаемся неуверенными в ее онтологическом статусе. В «Подростке» Достоевский процитировал две строчки из Пушкина: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман» [Достоевский 1972–1990, 13: 152]. Вопрос о том, должен ли (и где) читатель искать более широкую картину или ориентироваться на важные детали, не дает покоя и литературной критике. Мы можем только иметь в виду, что проблемы могут возникнуть при любом прочтении религиозного измерения «Братьев Карамазовых».
Еще одна вещь, которую следует отметить в отношении характера диалога, как я уже говорил в предыдущей главе, заключается в том, что персонажи, которые действуют на одном уровне рассказываемого текста, часто пытаются спровоцировать друг друга (зачастую успешно) говорить или действовать нехарактерным для них образом или признавать то, чего они предпочли бы не признавать. Разногласия по поводу того, «действительно» ли Иван является атеистом или агностиком, зависят от нашего восприятия того, когда он говорит правду; когда он провоцирует сам или когда позволяет себя спровоцировать; меняет ли он свою точку зрения и как часто; каков его «предел» и есть ли он у него на самом деле. Оглядываясь назад, мы можем признать, что именно эта неопределенность и изменчивость закладывают основу для ожесточенных споров между религиозной верой и метафизическим бунтом, которые всплывают во второй части. Но при этом она представляет собой не поединок двух застывших, непроницаемых позиций (Зосимы и Ивана), а широкий спектр неустойчивых и взаимодействующих между собой религиозных и антирелигиозных явлений. При чтении первой части романа читателю может быть еще неясно, следует ли рассматривать этот дискурс преимущественно с точки зрения описания персонажей или же он будет играть самостоятельную роль со своей внутренней динамикой; относится ли он исключительно к поверхностной структуре или предполагает ее возможную глубину.
Тем не менее, есть основания утверждать, что разновидности религиозного опыта, практики и дискурса, встречающиеся в «Братьях Карамазовых», находятся друг с другом в динамической связи и что эта связь берет свое начало на пороге, где личность, стоящая над пропастью, вынуждена совершать выбор между религиозной верой и атеистическим отчаянием. Так что, возможно, отдельные детали и более широкая общая картина вовсе не являются несовместимыми. Возможно, дело в том, как мы их читаем. Именно поэтому при анализе религиозных явлений в романе особое внимание я буду уделять их диалогической презентации и развитию.
Наиболее распространенный способ прочтения религиозного измерения «Братьев Карамазовых» – это, конечно же, рассмотрение его с точки зрения противопоставления философий и качества жизни старца Зосимы и Ивана Карамазова. Для этого есть веские причины, одна из которых состоит в том, что это более или менее то, что, по словам Достоевского, он имел в виду. В этом свете роман противопоставляет духовные глубины православного благочестия интеллектуальной критике бунтующего молодого атеиста (или радикального агностика), что, как показалось многим читателям, заключает в себе суть и драматизм противостояния между религией и научным просвещением современности.
С точки зрения развития сюжета, философия Ивана, основанная на предпосылке, что если Бог и бессмертие – иллюзии, то «все дозволено», кажется решающей, поскольку она рационализирует акт отцеубийства и, следовательно, позволяет сюжету разворачиваться. Такие иллюзии для Ивана не возвышенны, но являются воротами к нравственному нигилизму. Многие читатели связывают философию Ивана не только с самим актом отцеубийства, но и с «убийством Бога» (Отца Небесного) в сознании человека. Влияние Ницше и Фрейда на современных читателей, как правило, усиливает такое прочтение. Сам Иван считает, что если принять эту посылку, то эгоизм, поощряющий злодеяния, должен быть признан самым необходимым, самым разумным и чуть ли не самым благородным поведением [Достоевский 1972–1990, 14: 65].
С другой стороны, точка зрения Зосимы имеет более фундаментальное значение для нашего прочтения романа (на уровне идеального автора, а не рассказчика), поскольку она артикулирует порядок, против которого восстает Иван, и кажется, способна к обновлению. Как размышлял про себя Достоевский в одной из своих тетрадей:
Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием. Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое прошел я [Достоевский 1972–1990, 27: 48].
Есть и другой, более широкий способ прочтения слов Ивана. Если действительно «все дозволено», то дозволены не только убийства и другие злодеяния, но и целый спектр верований и поступков, не исключая жизни, посвященной деятельной любви, какую проповедует Зосима. Взгляды Федора Павловича Карамазова, Смердякова, Ракитина, Зосимы, отца Паисия, Миусова, Ивана, Дмитрия, Хохлаковой и многих других, даже рассказчика, равноправны и практически равноразумны в мире Ивана. Все дозволено. Дозволена ложь, но также и честность, и создание философской позиции, в которую на самом деле не верит сам создатель, как, по-видимому, в статье Ивана о церкви и государстве, может быть, даже в его поэме о «Великом инквизиторе», и, конечно, в случае со Ставрогиным в «Бесах». Другими словами, последствия размышлений Ивана очень близко подводят нас к постмодернистской позиции и позиции Ницше, из которой та, можно сказать, проистекает, к миру, в котором нет абсолютной истины и в котором мы должны составлять наши собственные системы взглядов. Многие споры о «Братьях Карамазовых» сводятся к вопросу: чей это роман, Зосимы или Ивана?
Есть веские основания сказать, что Ивана: по причине характерного для романа Достоевского внутреннего равновесия, в котором тон задает мятежная команда. Добавьте к этому особенности его повествовательной структуры, которые, по-видимому, предназначены для того, чтобы ниспровергнуть любую устойчивую идею, и мощное эмоциональное воздействие образа Ивана, о котором сам Достоевский слишком хорошо знал, и прочтения, вроде предложенного Камю, станут более чем понятны. Но у Ивана нет единой устойчивой философии. Сили выделил четыре стадии мышления Ивана, представленные в романе вне хронологического порядка. Два из них, хронологически первый и последний, представлены чертом Ивана, но поскольку черт Ивана – это его проекция, есть основания воспринимать их всерьез. Первая – это легенда о философе, отказавшемся верить в будущую жизнь; он отказывался в течение тысячи лет принять наказание, наложенное на него за его неверие, и, наконец, пройдя квадриллион километров во тьме, убедился, что две секунды в Раю стоят квадриллиона квадриллионов пути в квадриллионной степени. Эта «легенда» относится к отрочеству Ивана и представляет собой ранний этап его мышления, когда Иван считает, что у науки есть ответы на все вопросы, и ценит ее выше своего непосредственного опыта. На данном этапе жизни Ивана вера едва побеждает надменность науки и разума, но все же побеждает. Второй этап, начавшийся около пяти лет спустя, представлен легендой о Великом инквизиторе. Эта легенда сочинена примерно за год до того, как Иван рассказывает ее Алеше. По этой причине – что мысль Ивана уже двинулась дальше, когда он рассказывает легенду Алеше, – между ней и предыдущей главой («Бунт»), где Иван восстает против невинных страданий детей, есть тонкие расхождения. Великий инквизитор, говорит Сили, восстает против учения Христа из любви и сострадания к человечеству: его целью является счастье человечества. Позднее в «Бунте» Иван восстает против порядка самой Вселенной из любви и сострадания к маленьким детям: справедливость, без которой не стоит жить, – его цель. Между двумя этими излияниями, по-видимому, была написана статья о церковных судах. Возможно, ее следует рассматривать как приложение к поэме о Великом инквизиторе, поскольку она защищает порядок, при котором государство подчиняется церкви. Однако следует отметить, что речь идет о православной церкви, считающейся благодетельным учреждением, а не демоническая Римско-католическая церковь из поэмы Ивана. Наконец, есть философия «Геологического переворота», которая часто сравнивается с ницшеанской доктриной вечного возвращения. Это представляет собой заключительный этап мысли Ивана, в котором наука и человек займут место веры в Бога и бессмертие и будут двигаться к реализации рукотворного рая на Земле. Стоит отметить этот заключительный этап, потому что он выходит за рамки нигилистической философии, с которой обычно ассоциируется Иван, и отменяет ее.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































