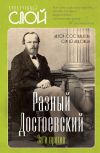Читать книгу "Достоевский и динамика религиозного опыта"
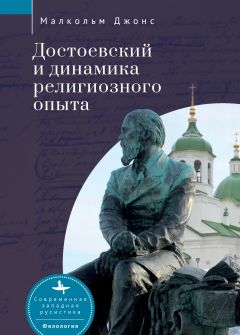
Автор книги: Малкольм Джонс
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Эссе II
Введение в текущую дискуссию
I
Некоторые читатели сочтут заявление о том, что Достоевский был христианским писателем-романистом, простым утверждением очевидной истины, в то время как другие могут увидеть в нем отрицание той части его творчества, что остается современной и обладает непреходящей важностью. Легко понять почему. Однако оба лагеря согласны в одном: Достоевский и в жизни, и в своих романах относится к религии серьезно. Религия в его произведениях, в отличие от английских романов того времени, не отодвигается на периферию, она не изображается только извне как социальный феномен и, за некоторыми незначительными исключениями, не является предметом карикатуры. И в жизни, и в творчестве Достоевского христианство было вовлечено в ожесточенную борьбу с самым отчаянным атеизмом, и ни то, ни другое не относится к тому безмятежному и оптимистичному разнообразию, которое часто считается характерным для Викторианской эпохи. Когда в 1849 году, ожидая своей казни на Семеновской площади, он пробормотал слова «Nous serons avec le Christ», его товарищ, атеист Спешнев, сухо возразил: «Un peu de poussière»[20]20
См. [Львов 1956: 188]: «Будем со Христом»; «Горстью пепла».
[Закрыть]. Какие бы мысли о жизни и смерти ни приходили в голову Достоевскому до этого момента, груз слов Спешнева в той или иной форме, впоследствии висел над ним. В письме А. Н. Майкову от 25 марта / 6 апреля 1870 года о своем плане «Жизни великого грешника» он писал: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование божие» [Достоевский 1972–1990, 29, 1: 117]. План как таковой остался нереализованным, но он отражался во всех его последующих крупных произведениях. Только в конце своей жизни, во время написания «Братьев Карамазовых», он смог с некоторой видимостью спокойствия отметить, что достиг веры («моя осанна») через горнило сомнений [Достоевский 1972–1990, 27: 86]. Но это было в то время, когда горнило сомнений само получило свое самое запоминающееся художественное воплощение в образе Ивана Карамазова. Даже заметка об «осанне» следует за комментариями (также написанными в 1880–1881 гг.) о том, что «Все Христовы идеи оспоримы человеческим умом и кажутся невозможными к исполнению», «Христос ошибался – доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами» [Достоевский 1972–1990, 27: 56, 57]. Похоже, что предсказание Достоевского Фонвизиной о том, что он – дитя века, дитя сомнения и останется таковым, сбылось. Итак, мы видим, сколь запутанными были размышления Достоевского о религии, – и это должно послужить нам предупреждением, что любое прочтение его религиозной мысли, сосредоточенное в первую очередь на его «осанне», отделит ее от духовных и интеллектуальных мук, ее породивших, и, следовательно, от ее наиболее характерных и самых современных черт.
Большинство разногласий по поводу того, какой религия предстает в произведениях Достоевского, касаются соотношения веры и неверия. Некоторые читатели действительно видят в его жизни и творчестве торжественное утверждение христианского духа (подвиг), в котором в высшей степени непоколебимая вера в образ Христа поддерживала его от колыбели до могилы и не давала ему стать жертвой множества серьезнейших испытаний, с которыми он столкнулся в своей непростой жизни и в интеллектуальной атмосфере своего времени, наглядно и страстно отраженных в его произведениях. Согласно такой точке зрения, возобладавшее в нем в годы зрелости, после возвращения из Сибири, стремление использовать свои романы как аргументы в размышлении о религии, в котором в конечном итоге верх возьмет христианское мировоззрение, отражается в структуре и содержании его основных литературных произведений, которые, в свою очередь, не могут быть полностью оценены вне этого контекста. Такова вкратце точка зрения, изложенная в недавней книге Дональда Николла [Nicholl 1997: 119–176], которая в этом отношении отражает традиционное православное прочтение. Это мнение лежит в основе интерпретации его зрелых работ как выражений пасхального мотива смерти и воскресения.
Другие читатели, признавая, что во времена отчаяния он находил личное утешение в традиционном религиозном благочестии, особенно на эшафоте, в своих мучениях в Сибири, а также в конце своей жизни, все же видели его величие в способности преодолевать такие утешительные иллюзии и представлять через своих персонажей и рассказчиков те неразрешенные и неразрешимые конфликты человеческого духа, которые он назвал «проклятыми вопросами». Такие читатели могут сомневаться в том, что беспокойный ум Достоевского когда-либо приходил к какому-то окончательному решению, или, если да, то имеет ли это хоть какое-то отношение к нашему чтению его романов, которые, в сущности, повествуют о неразрешимости конфликта. Действительно, как было замечено, Достоевский так убедительно и разнообразно представляет аргументы в пользу атеизма, что многие читатели, в том числе такие выдающиеся литературные деятели, как А. Камю, Д. Х. Лоуренс и В. Розанов, были вынуждены заключить, что это именно то, что он действительно исповедовал в глубине души. Такие читатели подчеркивают силу и живучесть его религиозных сомнений, близких к атеистическим убеждениям, и его неизменную способность или даже порыв к выражению их в самой яркой и убедительной форме, и это сопровождало его до самого конца жизни. В то же время его аргументы и изображение праведных персонажей многие современные читатели находят далеко не убедительными. Достоевский был, как он говорит в письме Фонвизиной, дитя своего века [Достоевский 1972–1990, 28, 1: 176], и это был век, когда радикальная интеллигенция, окончательно отвергнувшая религию, энергично проповедовала различные формы научного атеизма – век, подобный нашему, в котором христианство, по крайней мере среди образованных классов, могло отвергаться, рассматриваться как любопытный пережиток донаучных народных преданий или как свидетельство слабоумия, отрицания реальности или психического расстройства.
Не столь фундаментальные, но не менее жаркие дебаты разгораются вокруг характера христианства Достоевского. Следует ли рассматривать его в соответствии с духом славянофильства, которое он исповедовал все более настойчиво к концу своей жизни, то есть православия, лишенного догматических аспектов и проникнутого русским национализмом? Эта точка зрения завоевала одобрение среди некоторых православных читателей и в настоящее время заново открывается исследователями Достоевского в постсоветской России и за ее пределами[21]21
См. прекрасную новую книгу [Hudspith 2004].
[Закрыть]. Или христианство его романов по сути своей нерелигиозного и даже еретического толка – все еще несущая следы христианского социализма его юности религия, в которой так мало Бога, богословия, догм, православия, литургии или даже посещений церкви, что даже наводит на сравнение с буддизмом?[22]22
См. [Futrell 1981]. В связи с этим следует отметить, что одной из книг в личной библиотеке Достоевского была: А. Гусев. Нравственный идеал буддизма в его отношении к христианству. СПб., 1874 [Гроссман 1922: 43].
[Закрыть] Является ли это прообразом, как некоторые утверждали, радикального развития христианской духовности и богословия во второй половине XX века?
Наконец, подход, который могут поддержать культурологи, состоит в том, чтобы просто отметить и принять во внимание православную окраску литературных текстов Достоевского, не делая никаких выводов о его собственных убеждениях или намерениях и не задаваясь иссушающими душу (и, некоторые сказали бы, устаревшими) религиозными и философскими вопросами, затронутыми в его романах. Можно многое сказать о подобной непритязательной точке зрения, о людях, которые читают романы и биографии ради пассивного удовольствия или тех, для кого эти вопросы не актуальны. Но романы Достоевского больше, чем многие другие, привлекают и провоцируют.
Появление в 2001 году сборника статей «Достоевский и христианская традиция» под редакцией Джорджа Паттисона и Дайаны Томпсон [Pattison, Toh mpson 2001] побудило меня еще раз вернуться к этим вопросам. Книга, хотя она полна примеров невероятной учености и отлично составлена, тем не менее оставила у меня ощущение, что фундаментальные вопросы остались нерешенными и что (говоря словами самого Достоевского в отношении атеистического дискурса о Боге) многие из авторов упустили главное. Прежде чем продолжить свой собственный анализ, я хотел бы сделать паузу, чтобы рассмотреть некоторые недавние работы других ученых.
С моей точки зрения, главное не в том, целесообразно ли трактовать произведения Достоевского с религиозной точки или точек зрения – включая буддийскую или мусульманскую, – и не в том, видел ли зрелый Достоевский себя православным христианином, который должен сообщить истину православия своим читателям, и не в том, вписаны ли в его тексты традиции православия или христианства в целом. Все эти утверждения, хотя и могут вызывать разного рода споры, очевидны. Главное – это то, в какой степени его романы могут быть правильно, без искажений истолкованы как выразители или проводники православного христианства или христианства в целом. И примечательно, насколько часто весомость свидетельств в пользу первого способа толкования толкает к неявным или явным утверждениям или предположениям, относящимся ко второму способу толкования. В конечном счете это может быть вопрос того, что, по нашему мнению, говорит «идеальный автор» своего текста. Далее я постараюсь показать, что существует другой способ религиозного прочтения Достоевского (используя выражение, придуманное Паттисоном и Томпсон), который больше соответствует сложности и выразительности текстов Достоевского и развивающемуся религиозному опыту XIX и XX веков, который полностью соответствует его собственному мировоззрению, который не пренебрегает православным аспектом его творчества и не делает маловероятных утверждений в его пользу.
Книга Паттисона и Томпсон представляет собой микрокосм недавней критической литературы по этому вопросу. В нем предлагается широкий спектр точек зрения, с которых Достоевский может быть «религиозно прочитан», и, кроме того, сделаны попытки обобщить этот спектр. Конечно, книга не ставит своей целью подвести итог всей обширной работы о Достоевском и религии, предшествовавшей ей на протяжении многих лет. Однако она содержит такое множество вопросов, представляющих интерес для исследователя Достоевского, что я без колебаний буду использовать ее, чтобы проиллюстрировать мою собственную аргументацию. Я надеюсь, что читатели воспримут это как комплимент в адрес ее способности провоцировать дискуссию, а не желание подвергнуть ее особой критике.
Три основных раздела «Введения», написанные совместно двумя редакторами книги, дают полезную справочную информацию по теме. В первом исследуется исторический контекст, иллюстрирующий то, как в течение XVIII и XIX веков российская интеллигенция постепенно разделилась на тех, кто искал решение проблем России в принятии западных идей и атеизме, и тех, кто, хотя и находился под влиянием европейского романтизма, отождествлял себя с вероисповеданием своего народа и местными традициями – этот раскол, отраженный в текстах Достоевского, очевиден и сегодня [Pattison, Toh mpson 2001: 4]. На самом деле Достоевский не только изобразил этот раскол; что гораздо важнее, он испытал всю его силу в своей интеллектуальной и эмоциональной жизни, и к этому мы будем часто возвращаться.
Во втором разделе рассматриваются критика Достоевского со времен его жизни до наших дней, с особым упором на религиозные вопросы. В то время как антирелигиозные (марксистско-ленинские) отзывы сейчас представляют в первую очередь исторический интерес, критики, благосклонно относящиеся к религиозному аспекту его произведений, варьируются от тех, кто видел в нем великого проповедника и пророка нашего времени, до тех, кто видит в нем еретика; от тех, кто подчеркивает его приверженность русскому православию, до тех, кто видит в нем значительное влияние протестантизма. Одни ищут в его творчестве духовного озарения или используют его в своих собственных религиозных (а иногда и русских националистических) целях, а другие «скрупулезно раскрывают, анализируют и интерпретируют христианские основы искусства Достоевского» [Pattison, Toh mpson 2001: 11].
В третьем разделе обсуждается позиция Достоевского в дискуссиях о религиозном кризисе Запада. Судя по всему, здесь его влияние было еще более разнообразным и варьировалось, как напоминают нам редакторы, от тех, кто видит в его текстах слабо завуалированный атеизм, до тех, кто считает его одним из великих пророков христианской веры для постницшеанского мира – это последнее мнение часто связывают с его тягой к экзистенциализму. Что касается православных, Бердяев основывал свою философию религии с упором на свободу человеческого духа на оригинальном прочтении поэмы Ивана Карамазова о Великом инквизиторе. Существуют и важные католические и протестантские исследования работ Достоевского. Наиболее популярным католическим толкованием (хотя и не упомянутым редакторами) является толкование Романо Гуардини [Guardini 1933, 1963]. Среди протестантских богословов, признавших религиозное значение Достоевского, можно назвать масштабную фигуру Карла Барта [Barth 1933] и его друга и коллеги Эдварда Турнисена [Tuh rneysen 1921], чья книга является образцовым взглядом на Достоевского как на пророка религиозного ужаса перед жизнью без Бога. Среди недавних интерпретаций, перечисленных редакторами, – оценка Достоевского как пророка христианской веры, имевшего представление о современном атеизме «и жившего, чтобы рассказывать истории» Анри де Любака [Pattison, Toh mpson 2001: 16], а также как причины возникновения теологии смерти Бога Уильяма Гамильтона; Рене Жирар в долгу перед Достоевским, давшим основу его теории о роли насилия в происхождении религии и культуры. Также интересен «полифонический» подход А. Б. Гибсона [Gibson 1973] и освежающе бесстрастный труд Стюарта Сазерленда [Sutherland 1977], шотландского философа религии, пропитанный традициями англосаксонской философии.
Вероятно, цель этого раздела – продемонстрировать разнообразие откликов, которые религиозный аспект жизни и творчества Достоевского вызывает у современных ученых, включая литературных критиков, богословов и междисциплинарных исследователей. Поэтому его программа выражена в католических терминах: Достоевский обладал даром, практически уникальным среди писателей эпохи модерна, делать христианство динамичным, искусно вовлекать идеологические вызовы современности в диалог с собственным христианским видением и воплощать это видение в психологически убедительных персонажах. Таким образом, «религиозно прочитывать Достоевского» значило бы участвовать в этом диалоге, который пронизывает все его пост-сибирское творчество. Это стесняет тех, кто предпочитает обходить религиозные вопросы; им удобнее обсуждать психологию его персонажей и идеи, затрагиваемые в его произведениях. Но с учетом того, что в творчестве Достоевского преобладают библейские мотивы и ссылки на доктринальные, богослужебные и религиозные элементы христианской традиции, отказаться от религиозных прочтений практически невозможно [Pattison, Toh mpson 2001: 1–2].
Это привлекательно и правдоподобно в качестве схематичного изложения. Конечно, последнее утверждение является гиперболой: практически вся объемная критическая и научная литература, издаваемая в Советском Союзе, умудрялась обходить религиозные толкования Достоевского, и то же самое верно в отношении многих западных писателей. Тем не менее, хотя можно легко согласиться с общей направленностью этого утверждения, оно вызывает некоторые вопросы. Во-первых, ссылка на христианское мировоззрение Достоевского сама по себе является весьма спорной. Составляют ли христианские элементы мысли Достоевского единое целое? Сколько в ней православия и эклектики, сколько традиции и ереси? Основана ли эта мысль, как считают некоторые, на дораскольническом христианстве? Обязана ли она европейскому христианскому социализму? Является ли это по преимуществу определенным представлением о Христе (и если да, то каким?) или речь идет о полноценной теологии? Постоянно ли это представление на протяжении всей работы писателя или оно развивается? Омывает ли оно своим сиянием его произведения или только судорожно мерцает? Наблюдаем ли мы в его романах то же видение, что и в его публицистике, и если нет, то как они связаны? Есть ли в его персонажах единое религиозное видение, и насколько это видение является первоочередно или исключительно христианским? Есть ли вообще христианское видение в романах вне видений героев, или есть противоположные видения одинакового момента в мире, способном вместить их все?
Утверждение, что религиозные ценности и убеждения воплощены Достоевским в психологически убедительных персонажах, может вызвать меньше вопросов, хотя некоторые критики будут настаивать на том, что психологическая правдоподобность обратно пропорциональна религиозности, то есть что Соня Мармеладова, Мышкин и Алеша Карамазов менее убедительны, чем их нерелигиозные противники. Альбер Камю считал, что сердце Достоевского было отдано его атеистическим, а не религиозным героям [Camus 1951: 52]. Из этого также не следует – и здесь возникают дополнительные вопросы, – что обсуждение психологии его персонажей или идей, поднятых в его произведениях, это неуместное или отвлеченное занятие, или что сосредоточение внимания на них обязательно означает «пренебрежение религией». Возможно, здесь есть путаница между религией и теологией. В конце концов, мало кто станет утверждать, что психолог Уильям Джеймс «пренебрегает религией», хотя он определенно обходит стороной теологию в своей знаменитой книге «Многообразие религиозного опыта» [James 1960]. А что насчет работ Карла Юнга? Возможно, это путаница между религией и индивидуальным религиозным опытом. Любое всестороннее изучение религиозных представлений Достоевского потребует ответа на вопрос о том, каким образом и насколько религиозный опыт в его работах адекватно обоснован – или даже объясним – с точки зрения психологии. Как мы увидим, самого рассказчика в «Братьях Карамазовых» привлекают психологические объяснения религиозных явлений. Прочтение, которое берет это за основу для обсуждения религиозного аспекта творчества Достоевского, явно имеет все права на существование. Одна книга не может охватить все – в том числе и эта, – и полезно знать ее самоопределяемые границы, однако предположение о том, что подобные интересы выходят за пределы естественных границ предмета, неизбежно вызывает беспокойство. Все это вопросы, которые часто подробно обсуждались в критической литературе и остаются открытыми.
Наконец, утверждение, что «религиозно прочитывать Достоевского» – значит участвовать в диалоге между религиозным видением и идеологическими вызовами современности, воплощенными в его романах, является одновременно заявлением о намерениях и вопросом терминологии. Парадоксально, но в следующих статьях очень редко рассматриваются вопросы, которые могут показаться наиболее актуальными для читателей второй половины XX и начала XXI века, а именно вопросы, поднятые в трудах современных богословов и философов религии, которые сами боролись с вызовами «постхристианской» культуры, проблемами, истоки которых появились до Достоевского и на обсуждение которых он, в свою очередь, повлиял. Почти все авторы религиозно трактуют Достоевского, выискивая в его работах традиционные христианские и особенно православные мотивы; они очень редко обсуждают идеологические вызовы эпохи модерна, о которых почти не упоминается за пределами введения, если вообще решаются на это[23]23
Я не забыл, что собственный вклад Джорджа Паттисона, последнее эссе в книге, посвящен Достоевскому и Кьеркегору (Freedom’s dangerous dialogue: reading Dostoevsky and Kierkegaard together), но хотя влияние Кьеркегора в XX веке было значительным, его едва ли можно считать самостоятельным философом XX века, и Паттисон не относится к нему как к таковому.
[Закрыть]. Рассмотрение текстов Достоевского с религиозной точки зрения, без связи со светскими проблемами, может обоснованно обеспокоить некоторых читателей, и позже я предположу, почему это так.
Введение в книгу такого рода, в которой соавторам предоставляется большая свобода выбора материала и подхода, может носить только общий характер, поэтому в дальнейшем мы вправе обратиться к отдельным материалам.
Наиболее убедительно о роли православия в основных работах Достоевского говорится в эссе самой Дайаны Томпсон. Она утверждает, что
христианское мировоззрение пронизывает и формирует все постсибирские произведения Достоевского, от обширных повествовательных структур его сюжетов со спасением, неудачных, реализованных или приостановленных, до отдельных слов, имеющих христианское значение (Курсив мой. – М. Дж.) [Toh mpson 2001: 69].
Отсюда следует, что «христианское мировоззрение» в этом отношении однозначно доминирует в творчестве Достоевского.
Но отсюда вытекают уже упомянутые нами вопросы. Аврил Пайман в своей статье, которая следует далее, напоминает нам, что каждый художник работает в культурном контексте (то, что она, вслед за Лотманом, называет семиосферой [Pyman 2001: 103 и далее], а другой автор, Дэвид С. Каннингем, вслед за Кэлвином Шрагом, называет «пространством субъективности» [Cunningham 2001: 135]). Художественное видение возникает внутри и в ответ на этот сложный контекстуальный материал, которым, в свою очередь, оно пронизано и сформировано. В случае Достоевского христианские традиции, несомненно, составляют важную часть этого контекстуального материала. Но Пайман продолжает напоминать нам, что существовало множество других культурных факторов, формирующих и пронизывающих семиосферу Достоевского, включая пространство, занятое его собственным неугасимым горнилом сомнений. Среди этих факторов было его знание русских классиков (Карамзин, Жуковский, Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь – все они были образцовыми деятелями вестернизированной, постпетровской, постпросвещенческой культуры). Ни один из западников, таких как Белинский и Герцен, и европейских писателей, таких как Фурье, Шиллер, Шекспир, Мольер, Сервантес, Бальзак, Диккенс, Шиллер, Сю и Санд, не был православным христианином. Все они были частью культурной среды Достоевского с детства и юности и оставались таковыми на протяжении всей его жизни, оставив свой след в его художественной литературе, в особенности в его последнем романе «Братья Карамазовы». Итак, хотя во многих эссе, вошедших в книгу, было рассмотрено то, каким образом православие наложило отпечаток на художественную литературу Достоевского, мы остались без четких ответов на вопросы о том, как и в какой степени можно назвать «христианское видение» Достоевского пронизывающим и формирующим его мир и что именно это христианское видение собой представляет.
Однако подход Томпсон заслуживает дальнейшего рассмотрения, поскольку она пытается обосновать свое толкование теоретически. Она говорит нам, что, хотя Достоевский был мастером иронии, его работы вряд ли можно считать «полностью светскими». Они пронизаны и сформированы «библейским словом», которое, по ее словам, означает «любое высказывание, образ, символ или мысль, источник которых можно проследить до Библии». Для Томпсон это, очевидно, не то же самое, что сказать, что «пушкинское слово» – это любое высказывание, образ, символ или мысль, источник которых можно проследить до Пушкина, поскольку библейское слово, продолжает она, является прямым воззванием Слова Божьего. Воззвание – это речевая модель, характерная для библейского стиля, она используется для передачи сакральных посланий и божественных заповедей либо напрямую (когда говорит Бог), либо через свидетелей божественных действий и слов. Требуемый стиль больше не был доступен Достоевскому как писателю XIX века: его дискурс двуголосен, а это означает, что библейские слова, интегрированные в его текст, подвергаются преломлению и проверке повсеместной средой двуголосого слова. Однако двуголосые слова Достоевского по-прежнему проявляют отпечаток библейского слова, и «именно на этой бурной границе, где библейское слово взаимодействует с двуголосыми словами, живет динамическое искусство Достоевского» [Toh mpson 2001: 70]. Поэтому для нее вопрос заключается не только в одном из библейских мотивов, тем или персонажей, мотивированных религиозными взглядами, или даже не только в том, что религиозный аспект творчества Достоевского является одним из многих факторов, принадлежащих семиосфере, породившей, пронизывающей и сформировавшей его романы. Библейское слово как божественное воззвание, хотя и преломлено двуголосым словом, остается фундаментальным структурирующим принципом в его зрелом творчестве и придает его романам уникальную энергию. Это смелая и привлекательная гипотеза, которая опирается на Бахтина и развивает его работу способами, которые ему вполне могли бы понравиться. Тем не менее, она не говорит нам, как мы можем на практике отличить тот вид интертекстуальности, что относится к Пушкину, от интертекстуальности, относящейся к библейскому слову как прямому божьему воззванию. Она говорит нам, что дело не в стилистических маркерах. Хотя этого не сказано прямо, похоже, она проводит различие между «живым словом», которое вызывает религиозный трепет у персонажей и способно изменить их жизнь, и другими нейтральными примерами библейских цитат и аллюзий. На основании этого она приходит к следующему выводу:
Чувство динамизма Логоса у Достоевского было исключительно сильным, как и его дар делать этот Логос живым ответом в великом диалоге своих произведений. Он никогда не отделяет библейское слово от других слов, от жизни, изображенной в своих произведениях, но он заставляет всех, от отрицающих до утверждающих, откликнуться на это слово, тем самым максимизируя сферу его контактов и открывая ее для дальнейшего развития и дальнейших откровений. Достоевский распространяет глубоко субъективное восприятие христианства своими персонажами через каждое написанное им слово [Toh mpson 2001: 94].
С учетом этого примеры «живого слова», радикально влияющего на жизнь персонажей, оказываются удручающе малочисленными и второстепенными. Вызывает удивление то, что приведенные Томпсон реплики из «Преступления и наказания» относятся в основном к второстепенному персонажу (Мармеладову) и что «Идиот» назван ею «самым мрачным произведением Достоевского» [Toh mpson 2001: 76], в котором
нет никаких прочтений или праведных толкователей библейского слова, никаких молитв, никаких небесных видений, никаких библейских эпиграфов, никаких упоминаний Царства, и никто не движется к искуплению или обновлению через Слово [Toh mpson 2001: 75].
Как и в случае с «Преступлением и наказанием», библейское слово в «Бесах» выражено второстепенным персонажем (Степан Трофимович Верховенский), который испытывает его влияние только в самом конце действия (и своей жизни), когда уже слишком поздно влиять на кого-либо. «Подросток» вообще не рассматривается в таком ключе, в то время как менее крупные работы («Бобок», «Кроткая» и «Сон смешного человека») призваны нести бремя аргументации до «Братьев Карамазовых», которые, как нам говорят, насыщены библейским словом [Toh mpson 2001: 87]. Предположительно, Томпсон должна понимать это иначе, чем в том смысле, в каком можно было бы описать «Идиота», и имеет в виду действие того, что в другом месте она называет «живым словом». Или, возможно, она хотела бы утверждать, что там, где есть свидетельства «живого слова» в действии (как в «Братьях Карамазовых»), оно освещает и оживляет все другие библейские мотивы так, как это не происходит, когда его (как в «Идиоте») нет. Здесь снова есть проблемы, и, возможно, характерным является тот факт, что из всех персонажей лишь Смердяков призван решить исход дела. На мой взгляд, вопрос не в том, есть ли в романе цитаты из Библии, на которые реагируют персонажи, и даже не в том, реагируют ли они на такие цитаты иначе, чем на цитаты из светской литературы (которых, как показала Нина Перлина [Perlina 1985], очень и очень много), или даже не в том, меняют ли в некоторых случаях религиозные эмоции жизнь персонажа, как это происходит с Алешей Карамазовым, хотя его последние и самые сильные эмоции на самом деле совсем не связаны с библейским словом. Все это бесспорно имеет место. Вопрос в том, оправданы ли таким образом утверждения Томпсон и можно ли примирить между собой ее неоднозначные аргументы (например, что «Слово никогда не входит в сознание Раскольникова» и «В “Идиоте” живое Слово отсутствует») [Toh mpson 2001: 95] с ее собственным радикальным выводом о том, что Достоевский заставляет каждого, от отрицателя до утверждающего, откликнуться на это Слово. Таким образом, несмотря на все интригующие и провокационные идеи статьи, очевидно, что некоторые из них еще только предстоит доказать.
II
Хотя редакторы сборника сами не предлагают основы для решения этих проблем, это делает один из соавторов. Аврил Пайман отмечает ряд важных моментов, о которых, с некоторыми возможными незначительными поправками, следует помнить любому исследователю в данной области.
Во-первых, хотя видение Достоевского и его «метафизический опыт» могут быть христианскими и во многих смыслах специфически православными, Достоевский – писатель XIX века, на мечты которого оказывает влияние не христианское богословие, а светский европейский утопизм и романтизм. Возможно, даже Пайман, в целом очень скрупулезная, использует здесь выборочные свидетельства, утверждая, что «метафизический опыт» Достоевского всегда является христианским (относится ли это к историческому или к идеальному автору романов). Должны оставаться серьезные сомнения в отношении двух самых ярких и наиболее часто цитируемых примеров в его главных романах: сильного эпилептического опыта князя Мышкина в «Идиоте» и мистического опыта Алеши Карамазова, изменившего его жизнь после смерти его наставника. Более того, западные модели, несомненно, повлияли на образ Христа у Достоевского. Как отмечает сама Пайман в другом месте: молодой человек, сравнивающий Иисуса Христа с Гомером, как это сделал Достоевский в письме к своему брату Михаилу от 1 января 1840 года, вряд ли тогда мог думать о русском народе и русском Христе [Достоевский 1972–1990, 28, 1: 69; Pyman 2001: 107]. Как и тот же молодой человек, ссылавшийся на Гюго и Шиллера как на «христианских поэтов» [Достоевский 1972–1990, 28, 1: 70]. Но давайте примем, что христианство, и особенно православное христианство, является культурным фоном, на котором Достоевский формировал свое религиозное видение, и что христианский след часто просматривается в его художественных произведениях: вторая часть предложения Пайман, несомненно, верна и, что еще более важно, взаимосвязь «светской мечты» и «религиозного видения» влияет как на первую, так и на второе и, возможно, искажает их. Пайман мудро советует: «Можно только принять эти противоречия и работать изнутри этого парадокса»; «Необязательно расставлять все по своим местам, чтобы все можно было согласовать» [Pyman 2001: 103].