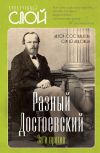Читать книгу "Достоевский и динамика религиозного опыта"
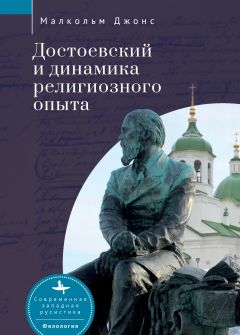
Автор книги: Малкольм Джонс
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Она напоминает нам, что именно в контексте неразрешимости Достоевский говорит о своей «осанне», прошедшей через горнило сомнений [Достоевский 1972–1990, 27: 86], а затем Пайман добавляет: «Я думаю […], что нужно принимать то, что на протяжении его литературной жизни это горнило хорошо топилось». Мы должны принять во внимание тот факт, который многие из пишущих на эту тему критиков рассматривать не хотят: горнило сомнений Достоевского пронизывало и формировало его творчество по крайней мере так же сильно, как и его «христианское видение». За некоторыми примечательными исключениями, такими как Стюарт Сазерленд, большинство критиков Достоевского, похоже, неспособно принять такую точку зрения – возможно, потому что они сами склонны либо безразлично относиться к религиозным вопросам, либо так твердо придерживаться определенной позиции (за или против христианства), что они не могут избежать ее рабства. Другим возможным объяснением может быть русоцентризм значительной части критики Достоевского. Когда Эрих Хеллер пишет: «Таким образом, он знает сразу две вещи, причем обе с равной уверенностью: что Бога нет и что должен быть Бог», – он говорит не о Достоевском и не о каком-либо из его персонажей, а о Кафке [Heller 1961: 181]. К любым максималистским традициям русской мысли XIX века мы можем найти аналогии и в современном европейском сознании в широком смысле, частью которого был и Достоевский. Эта особая слепота тем более примечательна, что критики, которые, кажется, не хотят признавать эту двойственность в самом Достоевском или, по крайней мере, применять ее к своему анализу его творчества в целом, часто подчеркивают ее присутствие у его персонажей. Сама Пайман заключает, что, анализируя Достоевского, необходимо принимать и осанну, и горнило, или же стремиться к осанне за пределами литературы [Pyman 2001: 104]. Стюарт Сазерленд выражает это еще резче: Достоевский – это прежде всего человек разделенный, населяющий одновременно миры веры и неверия. Бесполезно искать у Достоевского «последнего слова» по вопросу религиозной веры – диалектика, присущая Ивану и Зосиме, осталась с Достоевским до гроба [Sutherland 1984: 1, 26].
Пайман отмечает растущую среди критиков тенденцию к применению «богословского», семиотического подхода к Достоевскому, подчеркивающего такие особенности восточно-православного богослужения, как почитание икон, особое значение, которое православные склонны придавать Вочеловечению, Преображению и Воскресению (то есть созерцанию космического величия и кенозиса Христа, а не толкованию его нравственного учения), а также тенденцию делать акцент на «образе», а не на «подобии». Она противопоставляет этой тенденции ряд уместных вопросов: «Насколько православным был писатель Достоевский?», «Естественно ли для молодого автора считать мужчин и женщин иконами или, если уж на то пошло, рассматривать иконы как произведения искусства, которые могут вдохновить даже светского художника на то, чтобы уловить в них некое преломление божественного?» Она приходит к выводу, что следует ответить на эти важные вопросы отрицательно или по крайней мере в значительной степени отрицательно. Большую часть своей жизни, несмотря на православное воспитание, «великий романист, кажется, был человеком Книги, а не Церкви» [Pyman 2001: 106]. Это наблюдение поднимает и другие важные вопросы. Хотя в романах Достоевского можно найти множество значительных примеров икон, притч о божественной благодати и многих других отголосков и преломлений православия, в его творчестве заметно отсутствуют как православные ритуалы, так и догмы. Это тем более важно, потому что ритуалам и догмам православная традиция, как это прекрасно знали Достоевский и его читатели из числа современников, придает большое значение. Это также означает, что, будучи заядлым и добросовестным читателем Библии, особенно Нового Завета на русском языке, Достоевский был свободен развивать свое собственное прочтение Священного Писания. Разумеется, именно поэтому Русская православная церковь, как и средневековая католическая церковь, так долго сопротивлялась его распространению на современных языках.
III
Эти размышления побуждают меня предложить эксперимент и изучить художественные произведения Достоевского в свете семи различных аспектов или измерений религии, выделенных выдающимся специалистом в области сравнительного религиоведения Ниниан Смарт[24]24
См., например, [Smart 1989: 10–21].
[Закрыть]. Во-первых, это практическое и ритуальное измерение, которое, как указывает Смарт, особенно важно для религий строго сакраментального характера, таких как восточное православие. Орландо Файджес даже заметил недавно, что учение Русской православной церкви целиком содержится в ее литургии и что нет смысла читать книги, чтобы понять ее: нужно пойти и увидеть Церковь во время молитвы. Русское православное богослужение – это эмоциональное переживание. Вся русская жизнь XIX века была пронизана религиозными обрядами: крещением, именинами, свадьбами и похоронами, священническим благословением, необходимым и ожидаемым для каждого важного события в жизни человека, религиозными праздниками, постами, особенно Масленицей, Великим постом и Пасхой [Figes 2002: 297–301]. Поэтому определенное значение имеет то, что в основных романах Достоевского (хотя, например, Пасха играет повторяющуюся символическую роль в воспоминаниях персонажей) посещение церкви и, следовательно, активное участие в православной литургии и таинствах любого из персонажей, включая тех, кто чаще всего воплощает собой образец христианских добродетелей, встречается крайне редко. Единственное серьезное исключение – участие Алеши Карамазова в ритуале после смерти Зосимы. Действительно, русская православная литургия и духовенство в творчестве Лескова и даже, возможно, Чехова рассматриваются более последовательно и участливо, чем у самопровозглашенного пророка православия Достоевского; и это было постоянным источником беспокойства среди тех, кто утверждает, что его романы выражают сущность православной веры.
Вторая категория Смарта – это эмпирическое и эмоциональное измерение, и он указывает на важность чувств, которые порождает религия, например, священного трепета, спокойного умиротворения, пробуждающего внутреннего динамизма, восприятия сияющей пустоты внутри, прилив любви, чувство надежды, благодарность за оказанную милость. Мы отметили религиозные переживания князя Мышкина и Алеши Карамазова. Подобные переживания являются скорее исключением, чем правилом, и они не характеризуют ни православную, ни другие христианские традиции. Однако к этому же измерению относятся те особенности православной духовности, которые опираются на кенотическую традицию или народные традиции юродивых, которые привлекли так много внимания ученых, изучавших Достоевского. Некоторые из них обсуждаются Маргарет Циолковски в главе «Достоевский и кенотическая традиция» [Ziolkowski 2001: 31–40], где она с особым вниманием относится к его акценту на смирении и самоуничижении. Г. Рассел в своей главе даже утверждает, что идея, будто унижение является непременным условием христианской жизни, является «самым тревожным посланием “Преступления и наказания”» [Russel 2001: 226–236]. Здесь мы на более твердой почве, поскольку некоторые персонажи Достоевского, как, очевидно, и он сам, действительно испытывали сильные религиозные переживания, часто связанные со специфическими православными и русскими мотивами.
Третье измерение – это повествовательное или мифическое. По Смарту, через него мы можем описать, как религиозный опыт передается и выражается не только в ритуалах, но и в священных повествованиях или мифах. Как библейские отсылки и цитаты в романах Достоевского, так и отметки в его собственном экземпляре Нового Завета были тщательно изучены, и нет сомнений в том, что библейский текст составляет важный (хотя отнюдь не единственный) элемент семиосферы, внутри которой они приобретают значение. Также можно утверждать, что романы Достоевского сами по себе в какой-то мере являются попытками выразить религиозные переживания в повествовательной форме, которая сильно отличается от Священного Писания и, как утверждает Томпсон, не наилучшим образом подходит для прямого провозглашения слова Божьего традиционным языком. В произведениях Достоевского есть много значительных ссылок на библейские тексты, некоторые из которых в христианской традиции функционируют как мифы, и это отчасти то, что имеет в виду Пайман, когда пишет о Достоевском как о человеке Книги. По ее словам, религиозные подтексты, из которых Достоевский всю свою жизнь бессознательно черпал идеи, были в значительной степени дораскольническим, общим греко-иудейским наследием, Книгой Иова, Евангелиями, житиями святых, литургическими текстами. У Достоевского такие мощные мифические топосы иногда распространяются на окружающий текст и окрашивают наше прочтение. Например, легенда о воскрешении Лазаря, прочитанная Соней Раскольникову в критический момент «Преступления и наказания» [Достоевский 1972–1990, 6: 250], побуждает и позволяет проанализировать всю структуру романа с точки зрения мифа о смерти и воскресении – мифа, который В. Захаров недавно назвал одной из доминирующих структурных черт зрелого творчества Достоевского. Образ безмятежного Христа с младенцем, описанный Настасьей Филипповной в «Идиоте» [Достоевский 1972–1990, 8: 379–380], кажется, сопровождает все эти сцены, в которых Достоевский запланировал появление своих праведных героев с детьми: от предыстории Мышкина в Швейцарии до Алеши в финальных сценах «Братьев Карамазовых». Однако в обоих случаях мифическому образу противостоят образы, в которых воскресение рассматривается как иллюзия, а дети воплощают порок или являются его жертвами. Хотя образ распятого Христа появляется в «Идиоте» как символический образа Христа (в портрете Настасьи Филипповны в «Идиоте» и во сне Версилова в «Подростке») и образ живого Христа (в «Братьях Карамазовых»), Достоевский нигде не пытался изобразить события, окружающие центральный образ воскресения самого Христа, в отличие от воскрешения им Лазаря и дочери Иаира, или представить своему читателю потустороннего Христа, ровесника Богу, из Иоаннового богословия. Образ Христа у Достоевского, несомненно, в разное время приобретал разные оттенки, но, как мы видели, есть веские доказательства, подтверждающие, что утверждение, содержащееся в его письме Фонвизиной от февраля 1854 года, оставалось в силе на протяжении большей части его жизни. В нем он, как известно, заявил, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не может быть; и что если бы было доказано, что истина вне Христа, то его выбор был бы за Христом, а не за истиной [Достоевский 1972–1990, 28, 1: 176]. Именно этот навязчивый образ является одновременно образцом и поводом для обвинения Мышкина в «Идиоте» и Алеши в «Братьях Карамазовых» и даже, возможно, Иисуса, который лично появляется в «Великом инквизиторе». Наконец, библейский миф иногда воплощается в эпиграфе. Эпиграфы к «Бесам» (Лк. 8:32–35) и «Братьям Карамазовым» (Ин. 12:24) могут побудить нас к прочтению всего романа в их свете. Неудивительно, что именно на этом уровне наиболее легко и эффективно устанавливаются связи между религиозной традицией и реалистическим романом Достоевского.
Четвертое измерение – это доктринальное и философское измерение. Диалоги в романах Достоевского дают очень легкое изложение христианской доктрины, хотя зачастую утверждается, что они иллюстрируют ее очень тонкими способами. Такой аргумент выдвигается в статье Д. Каннингема «“Братья Карамазовы” как теология Троицы» [Cunningham 2001: 134–155] или в статье Г. Расселла «Унижение как христианская необходимость в “Преступлении и наказании”» [Russel 2001: 226–236]. Последняя из этих статей, как и статья Маргарет Циолковски «Достоевский и кенотическая традиция» [Ziolkowski 2001: 31–40], подчеркивает важность апофатического богословия в религиозном видении Достоевского. Это важный акцент в новейших исследованиях Достоевского, и ниже об апофатической традиции будет сказано больше. Однако, как я только что упомянул, хотя его произведения изобилуют метафорами смерти и воскресения (их можно найти даже в эпиграфах к «Бесам» и «Братьям Карамазовым»), упоминание воскресения Христа как исторического события, подтверждающего его единство с Богом-Отцом, которое было центром православного христианского учения с самого его становления, отсутствует даже в «Братьях Карамазовых»[25]25
Сара Хадспит заметила, что единственный персонаж, упоминающий о воскресении Христа в «Братьях Карамазовых», – это черт Ивана. Но, строго говоря, речь идет о вознесении Христа, а не о его воскресении [Hudspith 2004: 122; Достоевский 1972–1990, 15: 82].
[Закрыть]. Поскольку образ воскресшего Христа, в отличие от образа распятого Христа, обычно считается характерным для православия, но не для католицизма, это упущение следует рассматривать как существенное. Что касается философской или интеллектуальной основы христианства, то Достоевский сознательно преуменьшает ее значение ради противопоставления своих атеистических идеологов и персонажей, воплощающих христианские черты, и в этом он находится в согласии с православной традицией, которая всегда избегала рационального обсуждения религиозной веры. Если аргументы в пользу религиозной веры и появляются, то обычно в негативном контексте, как, например, когда Иван Карамазов заявляет, что если нет Бога и бессмертия, то нет и морали.
Пятая категория Смарта – это этическое и правовое измерение. Несмотря на вышеупомянутый критически важный акцент, поставленный Достоевским на космическом величии и кенозисе Христа, в его зрелых произведениях, от «Записок из мертвого дома» до «Братьев Карамазовых», выдающееся значение имеет и этический аспект религии. Более того, среди повторяющихся вопросов в его главных романах, особенно в романах «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы», выделяется вопрос об отношении правовых структур общества к внутреннему чувству ответственности и вины человека, а в его последнем романе – также об относительном приоритете самих светских и церковных структур. Более того, именно в этом аспекте мы наблюдаем совпадение между его отметками Достоевского в его экземпляре Нового Завета и содержанием его романов, как показывает сравнение статьи Ирины Кирилловой «Отметки Достоевского на тексте Евангелия от Иоанна» [Kirillova 2001: 41–50] и статьи Ивана Есаулова «Идеи права и благодати в поэтике Достоевского» [Esaulov 2001: 116–133]. Этика деятельной любви (сострадания), которая играет такую важную роль в жизни праведных персонажей его романов и тех, кто вступает с ними в контакт, находит свое окончательное выражение в провозглашении Зосимой деятельной любви и в представлении о том, что каждый виноват во всем и за всех в «Братьях Карамазовых»; эта этика в случае Достоевского несомненно проистекает из его представления о Христе и православного учения о соборности. Она основана, в соответствии с православной традицией, на духовности, а не на формальных нормах.
Социальное и институциональное измерение является шестой категорией Смарта и относится к внешнему воплощению религии – ее институтам, ее социальным механизмам и роли выдающихся личностей в ее деятельности. И снова в творчестве Достоевского мы найдем очень мало упоминаний об институциональном измерении, пока не перейдем к его последнему роману. Даже здесь мы знакомимся с несколько эксцентричным примером православных учреждений в виде монастыря, не отличающегося всепроникающей духовностью, и персонажа (Зосимы), который играет подозрительную роль старца. Были проведены примечательные исследования прототипов Зосимы в русской православной традиции[26]26
В частности, см. [Linnér 1975; Hackel 1983; Stanton 1995].
[Закрыть]. Ценное дополнение к этой литературе представляет исследование Маргарет Циолковски, которая убедительно доказывает, что ряд центральных характеристик духовности Зосимы и его брата Маркела и в меньшей степени епископа Тихона в «Бесах» происходит от этой традиции и ее исторических представителей.
Наконец, есть материальное измерение – то, как религия воплощается в зданиях, произведениях искусства, музыке и других творениях. Смарт спрашивает: «Как мы можем понять восточное православное христианство, не видя, что такое иконы, и не зная, что они считаются окнами в небо?» [Smart 1989: 20]. Если принять во внимание богатство материального аспекта восточного православия, особенно его церковных построек и литургии, снова поражаешься его относительной невидимости в творчестве Достоевского. Как пишет Энтони Джохэ в своей статье «К иконографии “Преступления и наказания”» [Johae 2001: 173–188], здания иногда сказываются на психологическом состоянии персонажей Достоевского, но по большому счету ни они, ни православная музыка не играют значительной роли в произведениях Достоевского. Иногда, конечно, там можно встретить иконы, но отрывочное и несущественное использование «живого библейского слова» в его работах находит параллель в статье Софи Оливье об иконах в произведениях Достоевского – выясняется, что, не считая ранней и незрелой повести «Хозяйка», написанной в период, когда его личная преданность православию была, вероятно, наиболее слабой, иконы обычно фигурируют в его художественной литературе как объекты осквернения. Трудно найти в сочинениях Достоевского примеры традиционного православного взгляда на иконы как на врата в Царство Небесное, связывающие верующего со святыми и Святой Троицей, хотя такая роль слегка обрисована в истории умирающего брата Зосимы Маркела [Достоевский 1972–1990, 14: 260–263]. Леонард Стэнтон поднимает еще один интересный вопрос. Он указывает на то, как в иконописи изменяются привычные правила перспективы – линии перспективы соединяются не в максимально удаленной точке, а, напротив, на зрителе. Таким образом зритель оказывается как бы в фокусе познания Бога, который, несмотря на непознаваемость своей сущности, активно проникает в созданное пространство и время, посредством этого позволяя людям получить частичное представление о себе. Книга Стэнтона имеет подзаголовок «Концепция икон в произведениях Достоевского, Гоголя, Толстого и других» [Stanton 1995], и это может свидетельствовать о том, что структура их работ имитирует структуру иконы и действует как средство, с помощью которого читатель может приблизиться к Богу. Однако за исключением возвышающего действия Зосимы на последующие поколения верующих, Достоевский, вполне возможно, не пытался воспользовался этим средством; и хотя критик мог довольно легко указать на те аспекты структуры его произведений, которые можно было бы назвать метафорой обратной перспективы – мы рассмотрим некоторые из них в следующей главе, – едва ли можно утверждать, что они призваны играть ту же роль, что и православная икона. Любой подобный тезис будет столь же труднодоказуем, как и попытки продемонстрировать, что романы Достоевского являются привилегированными зонами православной веры. Все не так просто. Более того, духовность православных икон проистекает не только из их формальных характеристик, но и из традиционного способа их написания, сопровождаемого горячей молитвой.
Думаю, что сейчас можно сделать ряд предварительных выводов. Во-первых, многие из наиболее заметных и отличительных черт институциональной и доктринальной жизни восточного православия – сакраментальное, материальное, ритуальное, институциональное – в зрелом искусстве Достоевского либо второстепенны, либо случайны. Мы можем быть убеждены по историческим и культурным причинам или по причинам личной религиозной веры, что они присутствуют где-то в подтексте романов, но тем не менее важно, что они не привлекают внимание читателя, тем самым предполагая и даже поощряя прочтения, в рамках которых эти аспекты православия не используются. Второй вывод заключается в том, что при условии, что мы широко интерпретируем понятия «эмпирический» и «эмоциональный», включая опыт, который может не быть чисто христианским, и персонажей, которые воплощают христианские черты и передают их другим в своих межличностных отношениях, можно сказать, что в романах Достоевского действительно много примеров религиозного опыта, и они, хотя и не всегда относятся к православию, часто имеют отчетливо православную окраску. В-третьих, хотя на наше прочтение могут влиять мощные мифологические топосы библейского происхождения, которые характеризуют все основные романы Достоевского, появление любой или всех этих религиозных черт действует не только как положительная структурирующая сила, но и стимулирует противоположные, антирелигиозные образы, которые могут вести себя как конкурирующие принципы структурирования практически на равных основаниях. Ведь если все сказано и сделано, мир, изображенный в романах Достоевского, не тот, в котором преобладает соборность или христианская гармония. Напротив, это прежде всего мир насилия, жадности, внешних и внутренних конфликтов, отчуждения людей друг от друга, от общества, космоса и духовных глубин. Примечательно то, что в таком мире некоторые персонажи действительно перерастают такие чувства и ценности и что православное христианство и этика деятельной любви могут играть и играют обоснованную и психологически правдоподобную роль. Ссылаясь на полифоническую теорию Бахтина у Достоевского, Пайман заключает, что Достоевский представляет эту полифонию, эту драматическую, художественную, трагическую форму соборности как неразрешенную. «И последняго синтеза он не дал, – пишет Флоровский, – одно чувство оставалось у Достоевского всегда твердым и ясным. […] Истина открылась и в этой жизни […] Достоевский веровал от любви, не от страха» [Pyman 2001: 113; Florovskii 1981: 300].
Мы можем сделать вывод, что русское православие не столько озаряет своим светом произведения Достоевского, сколько позволяет ему время от времени судорожно мерцать в различных обличьях и контекстах. Но сказать – это не значит преуменьшить его важность, поскольку эти мерцания и случайные вспышки – это не просто эстетика, не просто отражение преобладающей культуры. Они являются неотъемлемой частью человеческого опыта персонажей Достоевского, как и самого автора, и предоставляют разделенным, искалеченным и отчужденным личностям, населяющим его романы, реальную возможность личного спасения и обретения целостности через жизнь, полную деятельной любви. Степень реализации этого потенциала может варьироваться от романа к роману и от персонажа к персонажу, и в итоге представляются на суд читателя.
IV
Следует прояснить заключительный момент. О Достоевском часто говорят, что он в полной мере оценил значение философии Канта. Это главным образом означает, что он понял, что именно философия Канта открыла нам путь к мыслям о пределах человеческого разума, а также важность того, чтобы не путать религиозные догмы со знаниями, которые могут быть продемонстрированы эмпирически, несоответствие в которых привело бы нас к логическому противоречию. Подводя итог, можно сказать, что философия Канта, утверждающая, что мы можем обладать знанием только в той мере, в какой мир соответствует нашему концептуальному аппарату (например, являет себя во времени и пространстве, а также в причинно-следственных отношениях), исключила всю традиционную метафизику, которая занимается такими вопросами, как существование Бога, бессмертие души и свобода воли. Русское православное богословие во времена Достоевского не оценило значение философии Канта. Так что сказать, что Достоевский сделал это, и в то же время утверждать, что он был благочестивым православным христианином, на первый взгляд противоречиво и, по крайней мере, требует некоторого пояснения. На самом деле, как я попробую показать, это был один из величайших проектов Достоевского – попытаться переосмыслить христианство для посткантианского мира. В этом, хоть это и немного, он был схож с послекантовскими идеалистами, особенно с Шеллингом и Гегелем, которые в годы молодости Достоевского были так популярны в России, хотя он предпочитал абстрактным философским средствам размышления художественный вымысел. Иногда мнение Ивана Карамазова о том, что без Бога и бессмертия не может быть нравственности, приписывается влиянию Канта[27]27
См. [Golosovker 1963].
[Закрыть]. Достоевский действительно мог сделать такой вывод из «Критики практического разума», где Кант доказывает возможность свободы лишь в мире вещей-в-себе, не доступном эмпирическому познанию. Зачастую влияние многих великих умов приводило к недопониманию, упрощению или искажению того, что они на самом деле говорили. Но Кант не утверждал, что тем самым доказал существование Бога, бессмертие и свободу. Он скорее утверждает, что эти концепции должны быть приняты, а иначе реализация полноты нашего морального совершенства будет невозможна. Другими словами, мораль для Канта первична, а понятия Бога, бессмертия и свободы вторичны. Акцент Канта на этике повторяется у Достоевского, как и мысль, что эту жизнь можно осмыслить, только постулируя жизнь вечную. Это акцент, который может стать важным, когда доверие к метафизическим и доктринальным решениям фундаментальных вопросов идет на убыль.
Тем не менее, в определенном смысле православная традиция, уходящая корнями в сочинения отцов церкви, предвосхитила философию Канта, и Достоевский, который – или персонажи которого настаивали, что наука и разум никогда не решали религиозные или этические проблемы человечества и что индивидуальности и общества движутся с помощью совершенно другой, эстетической, этической или религиозной силы [Достоевский 1972–1990, 10: 198–199], опирается на эту традицию. Ибо отцы церкви тоже настаивали, что Бог по своей сущности находится за пределами времени и пространства и недоступен человеческому разуму. В отличие от Канта, однако, они утверждали, что он может быть познан через его энергии; так, через индивидуальное стремление к духовному знанию, через собственный теозис индивида (максимально возможное разделение божественности Христа), через уподобление образу Христа, в котором Бог лишил Себя своей божественности (кенозиса), чтобы разделить нашу физическую жизнь, божественное проникает в сотворенный мир. Согласно этой традиции, божественная реальность за пределами физического мира может быть передана нам разными способами, в первую очередь через Христа, но также через почитание икон или через людей великой духовности[28]28
Подробное обсуждение этой традиции применительно к русской художественной и интеллектуальной истории см. [Stanton 1995].
[Закрыть].
V
Ясно, что любая попытка дать удовлетворительное описание религиозного аспекта творчества Достоевского чревата проблемами. Некоторые из них возникают из разных интерпретаций биографических данных, некоторые – из разных оценок текста (эти два подхода претендуют на некоторую степень объективности), а некоторые – из разных точек зрения читающих сообществ или отдельных читателей. Как мы увидим, сама структура произведений Достоевского способствует этому широкому кругу разнообразных прочтений. В самом деле, некоторые пошли бы дальше и заявили, что он не только предлагает читателю интерпретировать его самыми разными способами, но также деконструирует любое отдельное прочтение: всегда остается какой-то аспект текста, который не укладывается ни в одну последовательную интерпретацию и который может быть использован в качестве основы альтернативного прочтения, не менее (и в конечном итоге не более) убедительного. Ни одна книга о Достоевском и религии не решает всех этих вопросов, и моя не исключение. В другом месте я обсуждал теоретические вопросы относительно легитимности различных религиозных чтений и не буду повторять их здесь [Jones 1997a]. Важными областями, на которые я обратил внимание, но на которые я лишь сошлюсь на следующих страницах, являются психологическая основа религиозного опыта Достоевского и, что не менее важно, его влияние на диалог между христианской верой и светской философией XX века. Однако название моей книги может подсказать читателю, что в ней хотя бы косвенно рассматриваются эти вопросы, и это действительно так.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!