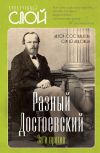Текст книги "Достоевский и динамика религиозного опыта"
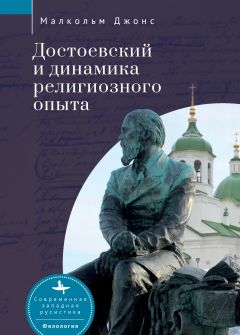
Автор книги: Малкольм Джонс
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Мы не сможем исчерпывающе ответить на этот вопрос на нескольких страницах. Удовлетворительный ответ должен был бы принять во внимание уравновешивающий аристотелевский импульс, смысл которого Робин Фейер Миллер так убедительно изложила в своем классическом исследовании [Miller 1981]. Ведь, как напомнил нам Роберт Джексон более тридцати лет назад, у Достоевского тоже есть «искание формы», стремление вместить «темпикс» в «поэтику» или хотя бы найти между ними правильный баланс [Jackson 1966]. Используя метафору Ролана Барта, можно сказать, что в романах Достоевского проявляется стремление представить опыт, приобретенный как на вершине Эйфелевой башни, так и во время прогулок по улицам Парижа [Barthes 1964]. «Идиот» реализует эту схему (только вместо Парижа – Петербург), быстро и робко продвигаясь различными известными маршрутами (используя готическую карту, апокалиптическую карту, карту романа нравов и т. д.), а затем сталкиваясь с тупиками или совершенно неизведанными территориями, внезапно оказываясь в новом романном пространстве, которое (по крайней мере, сначала) может показаться необыкновенно знакомым или обнадеживающе таинственным. Неясно, действует ли рассказчик, наш гид, инстинктивно, или доверяет своему опыту, ведя нас по новой местности, или полностью сбит с толку. Его склонность, особенно в конце, к обсуждению проблем написания романов и обычных людей [Достоевский 1972–1990, 8: 383–384] напоминает отчаянное цепляние за знакомые точки отсчета. Тем не менее, что бы ни происходило в романе на уровне рассказчика и какие бы мучения ни испытывал настоящий автор, записывая свое повествование в тетрадях, интуиция подсказывает нам, что на уровне имплицитного автора (воображаемого авторского разума, могущего объяснить весь текст, независимо от того, что имел в виду реальный автор или что на самом деле говорит вымышленный рассказчик) повествование, наконец, достигает своего естественного баланса.
В этом кратком разделе я хочу рассмотреть дополнительный фактор, которым, как ни странно, пренебрегают: интенсивность желания Достоевского вопреки своему замыслу сделать своего героя «вполне прекрасным человеком» – оно побудило его не только к отказу от всех его предыдущих набросков для романа, что было, как признавал сам автор, беспрецедентным проектом в мировой литературе, но и бросило вызов естественному равновесию романов Достоевского, что мы видим на уровне имплицитного автора. Другими словами, именно потому, что он предпринял рискованный и беспрецедентный шаг, сделав своего «вполне прекрасного человека» центром внимания и действия, и что это, несмотря ни на что, так хорошо удалось в первой части, Достоевский был в полной растерянности, не зная, как продолжать и какой существующей модели следовать – и ему все еще нужно было развлекать, исследовать и жонглировать всеми возможностями, какие он только мог придумать, в том числе подсказанными текущими событиями. Его сохранившиеся записные книжки являются неопровержимыми доказательствами того, что это было на самом деле так. Мы можем предположить, что он использовал Евангелия как образец, и, действительно, судьбу Мышкина в Санкт-Петербурге критики иногда сравнивают с распятием Иисуса в Иерусалиме [Egeberg 1997]. Но развить сюжет до некоего личного «воскрешения» было задачей, которую было трудно решить, оставаясь в рамках реализма XIX века. Роман со вполне прекрасным человеком в самом центре был не только смелым замыслом, но и вызовом законам гравитации, существующим в собственном художественном мире Достоевского. Словно Достоевскому внезапно пришла в голову мысль попытаться написать роман «вверх ногами» или «на боку», и что, отпустив его, он обнаружил, что тот постоянно пытается подняться, как неваляшка или ванька-встанька пытается вернуться в вертикальное положение, как только удерживающее давление прекращается. Затем мы наблюдаем процесс, в ходе которого составные части романа – персонажи, события, рассказчик – мечутся, пытаясь установить новые отношения и связи путем проб и ошибок, пока, в конце концов, не приходят к знакомой модели произведений Достоевского, после чего сюжет может развиваться с внезапным приливом энергии в обычном порядке. Мы ожидаем увидеть этот процесс в его наиболее энергичной форме в записных книжках, что и происходит, но в случае «Идиота» мы также наблюдаем его особое развитие в самом романе. Если я прав, в основе романа на уровне имплицитного автора лежит самостабилизирующаяся трансформационная система, которую критик-структуралист сразу узнает, но с одной очень важной оговоркой: в отличие от традиционной семиотической модели структуралистов, она не изолирована от внешних воздействий. Важность этого предостережения ясно видна в работе Морсона о темпиксе.
До сих пор я говорил метафорически. Какие доказательства есть в поддержку такого тезиса? Первое, что нужно сделать, это прийти к соглашению о том, что представляет собой рассматриваемая модель Достоевского. Мне кажется, что здесь мы имеем дело не с типами сюжета в общепринятом смысле, а, скорее, с динамическими моделями человеческих отношений и восприятия человеческого опыта, которые вовлекают в свое поле сюжеты и подсюжеты. К счастью, Достоевский дает нам ключ к разгадке, и делает он это в отрывке, который, пожалуй, цитируется чаще всего и на котором уже я останавливался раньше. Ипполит говорит:
О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее; будьте уверены, что самый высокий момент его счастья был, может быть, ровно за три дня до открытия Нового Света, когда бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабля в Европу, назад! […] Дело в жизни, в одной жизни, – в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии! [Достоевский 1972–1990, 8: 327]
Переведем это в высказывание о романе Достоевского: «Будьте уверены, что роман Достоевского достигает своего естественного равновесия не тогда, когда он фокусируется на реализации идеала, а когда он отражает процесс его открытия. Будьте уверены, что он достигает своего естественного равновесия, когда, хотя он и находится на пороге открытия, его бунтующие и скептичные персонажи (его мятежная команда) готовы отвергнуть любую возможность этого. Дело в жизни, в одной жизни, – в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии». Если в таком переводе есть доля правды, то легко увидеть, что Достоевский шел против природы (собственной природы романиста), делая «вполне прекрасного человека» (открытый Новый Свет) центром своего романа. Затем мы наблюдаем, как природа вновь заявляет о своих правах и мстит. Однако просто констатировать этот тезис не получится. Требуется некоторая убедительная демонстрация правдоподобия и последствий этого.
Сама история создания романа может служить аргументом в поддержку этого тезиса. Обширные сохранившиеся записные книжки показывают, что первоначальная идея Достоевского вращалась вокруг обычной мятежной команды. Как пишет Эдвард Васиолек,
Героиня первого плана уже обладает многими чертами Настасьи Филипповны из окончательного варианта: преследуемая генералом Епанчиным, Ганей, Рогожиным, Тоцким и Идиотом, привлекающая и отталкивающая на протяжении всего романа и Рогожина, и Идиота […] Страсти Идиота буйны, у него жгучая потребность в любви, безграничная гордость, и из гордости он хочет властвовать над собой, победить себя. Он получает удовольствие от унижения [Wasiolek 1967: 10–12].
Идея о праведности Мышкина возникла внезапно, только в самую последнюю минуту, в седьмом плане романа, а вместе с ней и мысль о том, что он доводит Аглаю до человечности, влияет на Рогожина и реабилитирует Настасью Филипповну [Достоевский 1972–1990, 9: 252; Wasiolek 1967: 10–12]. Как указывает Васиолек, еще в ранних набросках Достоевский предполагал, что в конце концов герой будет спасен любовью, подобно Раскольникову в «Преступлении и наказании» [Wasiolek 1967: 12–13], но этот герой, как и Раскольников, был задуман как гордый и внутренне расколотый представитель мятежной команды. Представление о герое, уже воплощающем в себе идеал, каким бы привлекательным он ни был, было явно несовместимо с изложенной выше моделью. Вторая проблема Достоевского заключалась в том, что ни один из персонажей, наиболее тесно связанных с Мышкиным и, скорее всего, сформировавших центральную сюжетную линию, не был подходящим представителем или представительницей мятежной команды. Настасья Филипповна и Рогожин хотя и бунтовали, но для этого были недостаточно умны и красноречивы, Лебедев красноречив, но недостаточно серьезен, Ганя вообще слишком поверхностен, однако каждый из них либо оттесняется на задний план (сначала Настасья Филипповна, потом Рогожин), либо выдвигается на передний в новых ролях (Ганя и Лебедев). Достоевский как бы экспериментирует с Рогожиным как с представителем мятежной команды в начале второй части, и эксперимент оказывается отчасти удачным, отчасти неудачным, ибо мотив картины Гольбейна, копия которой принадлежит Рогожину и перед которой Мышкин встает как вкопанный из-за ее способности разрушать веру, сохраняется и снова обсуждается, а ее владелец (Рогожин) вынужден уступить интеллектуальную собственность Мышкину и Ипполиту, особенно Ипполиту, в исповеди которого она становится центральным образом [Достоевский 1972–1990, 8: 338–339]. Это посредник, с помощью которого центр тяжести романа в конце концов переходит от Мышкина к Ипполиту, и эта нота звучит, заметим, довольно скоро после возвращения Мышкина в Петербург или, говоря биографическим языком, в пределах двух коротких глав явно запутанного введения Достоевского ко второй части. Чтобы выйти из затруднительного положения, в которое его заводит повествование он использует мощный и драматический автобиографический опыт, бросающий вызов самой основе христианского мировоззрения его героя, опыт, просачивающийся в ткань повествования и проявляющийся вновь в решающем, жизненно важном моменте исповеди Ипполита.
На самом деле Ипполит не был, как думают некоторые критики, беспричинным вторжением в сюжет в последнюю минуту. После значительных трудностей и задержек Достоевский отправил первые две главы второй части своему издателю в третью неделю апреля 1868 года, но в его записях от 12 марта уже видно, как Ипполит размышляет о том, что даже такой человек, как Рогожин, живущий изо всех сил, как бы понимает свое положение, и о том, почему мир так устроен, что некоторые обречены на смерть, можно ли любить всего две недели и можно ли совершить убийство за оставшееся ему время [Достоевский 1972–1990, 9: 223; Wasiolek 1967: 173–174]. Ипполит из заметок уже планирует ту публичную исповедь и «самоубийство на восходе солнца», которое он в конце концов должен предпринять в части III, главе 7, и размышляет, что, возможно, он ничего не понимает в Христе [Достоевский 1972–1990, 9: 224]. И, пожалуй, существенно, что среди заметок, сделанных Достоевским, по-видимому, в тот же день, была загадочная: «О Христофоре Колумбе» [Достоевский 1972–1990, 9: 221].
Это говорит о том, что на первых этапах переосмысления романа, когда его мысли были в смятении, но ни он, ни роман еще не были к этому готовы, Достоевский уже чувствовал потребность в Ипполите как в интеллектуальном балласте для восстановления естественного равновесия романа. В записях видно, что он продолжает экспериментировать с треугольником Аглая – Мышкин – Настасья Филипповна, исследуя, казалось бы, все возможные исходы, в том числе и с участием Рогожина; затем придумывает эпизод «Сын Павлищева», который должен был предшествовать исповеди Ипполита в окончательном варианте; а затем снова возвращается к мотивам любовного треугольника и указаниям на то, что Мышкин должен встать во главе компании детей. Имеются заметки о личности Мышкина и важности того, чтобы показать его в действии, со знаменитыми пометками «Князь Христос» [Достоевский 1972–1990, 9: 246, 249, 253]. Есть признаки того, что предстоит дискуссия о России. Есть размышления о сюжете и возможности параллельных сюжетов, а также случайные упоминания второстепенных персонажей. К 15 апреля Достоевский решил мотивировать последующие события загадочным пребыванием Мышкина в Москве. Его отсутствие было продлено с трех недель (в более ранних заметках) до шести месяцев [Достоевский 1972–1990, 9: 216, 255]. Но совершенно очевидно, что Достоевский по-прежнему представляет роман вращающимся вокруг любовной истории (даже если это характерный роман Достоевского с изрядной долей манипуляции и мерзости) и что ему не хватает интеллектуальной артикуляции той ноты космической тоски, которая характеризовала «Преступление и наказание» и должна была со временем охарактеризовать «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Несмотря на утверждение Роберта Лорда, Достоевский отказывал себе в возможности отдать эту роль праведному Мышкину. В его заметках от 11 июня именно Ипполит и его смерть кратко всплывают на поверхность [Достоевский 1972–1990, 9: 275][57]57
В главе VI, «Эпилептический образ жизни», утверждается, что Мышкин на самом деле является интриганом и манипулятором и что его «искупительные качества сравнительно неважны» [Lord 1970: 82].
[Закрыть].
В самом романе Ипполит начал проявляться во второй части как сильный, хотя и маргинальный персонаж. Поэтому важно, что краткие сохранившиеся наброски Достоевского к частям III и IV отводят ему так много места. А вот и сюрприз. Для Достоевского развитие Ипполита было не просто авторским баловством, от которого можно было бы и отказаться. В записке от 15 сентября он писал: «Об Ипполите сжато и сильно. Сосредоточить на нем всю интригу» [Достоевский 1972–1990, 9: 280]. Ранее в той же последовательности он называл его «главной осью всего романа»; овладевающим даже князем, хотя он осознает, что никогда не сможет им овладеть; необходимым для Аглаи; властвующим над Рогожиным; властвующим и разжигающим Ганю [Достоевский 1972–1990, 9: 277–278]. Если Ипполит является главной осью всего романа и центром сюжета, то это не сюжет в обычном смысле и не в том смысле, в каком Достоевский исследовал в своих черновиках все его возможные повороты. Если мы серьезно относимся к этому замечанию, то должны признать, что Достоевский говорит о другом типе структуры, в которой люди и события находятся под влиянием эмоционально сильных образов человеческого опыта, манипулируются ими и подстрекаются, как мы видим в самом романе, к принятию образа мира, в котором высшие силы упорно враждебны всем человеческим идеалам и возвышающим иллюзиям, что грозит подорвать приверженность Мышкина христианскому состраданию и выглядит слишком правдоподобно в качестве фона излагаемых событий. Роман, который начинается с «положительно прекрасного человека» в центре, заканчивается извращенным мятежником (главарем мятежной команды) в качестве «оси». Таким образом, благодаря Ипполиту роман заканчивается «головой вверх», а мотивом, позволяющим перейти от одного к другому, является мотив публичной казни, впервые введенный самим князем в первой части, подхваченный Лебедевым в его молитве за графиню дю Барри и толкованием Апокалипсиса в начале части II и развитый в четвертой главе той же части рогожинской копией картины Гольбейна. Остальная часть романа показывает, что ценности, заложенные в этих космических образах, постепенно внедряются в ткань драмы романтических связей и разрушают их.
Гэри Сол Морсон пишет об отрывках, раскрывающих персонажа Ипполита:
Эти отрывки настолько блестящи, что роман серьезно обеднел бы, если бы их убрали. И тем не менее, если бы они не были написаны, никто бы не заметил, что их не хватает, – критерий, который, начиная с Аристотеля, указывает на нечто чужеродное [Morson 1997: 114].
И все же Морсон, несомненно, выводит здесь ложное уравнение. Мы можем согласиться с его первым предложением и даже предположением о том, что мы бы не заметили их отсутствия, но, при всем уважении к Аристотелю, это не значит, что они чужеродны. Дело не только в том, что мы, читатели, были бы без них беднее. Самому роману, если я прав, недоставало бы сколько-нибудь полной и адекватной артикуляции его духовного центра тяжести. Эти эпизоды могут существовать самостоятельно. Но роман не способен устоять без них, оставив пустоту в самой сердцевине. Конечно, Достоевский был вполне способен оставлять пустоты в сердцевине своих романов и использовать их в художественных целях, как он это делает с ключевым периодом для Мышкина, проведенным им в Москве между первой и второй частями этого самого романа, но он, очевидно, осознавал, что этот опущенный отрывок был бы настолько обширен, что поставил бы перед читателем нерешаемую задачу.
Ничто из этого не означает, как кто-то мог бы предположить, что такие негативные образы представляют собой «истинный смысл» романа или «высшую истину» метафизики Достоевского. Наоборот, присутствие Мышкина продолжает, даже когда он снова в тисках болезни, создавать то сочетание невинности, сострадания и идеализма, которое является его даром и проклятием одновременно. Образ Настасьи Филипповны является источником одной из самых идиллических сцен романа, в которой Христос сидит с маленьким ребенком [Достоевский 1972–1990, 8: 379–380]. И, как справедливо указывает Эрик Эгеберг, даже Ипполит, утверждающий, что он уже пять месяцев ненавидит князя, допускает, что может любить его [Достоевский 1972–1990, 8: 322]:
Его чувства к князю действительно неоднозначны и колеблются, но Ипполит принимает его приглашение провести свои последние дни среди людей и деревьев Павловска. Последние дни Ипполита свидетельствуют, между прочим, и о том, что инициатива князя Мышкина могла иметь успех [Egeberg 1997: 168].
Далее Эгеберг размышляет, что фраза Лебедева «Дьявол одинаково владычествует человечеством до предела времен, еще нам неизвестного» (VIII, 311) может выражать собственное мнение Достоевского о том, что современный мир обречен, но неопределенное будущее может принести спасение. Иными словами, новый мир может оказаться прямо за горизонтом. Та особая роль, которая отводится Ипполиту в этом романе, может также рассматриваться как предвосхищение последующего признания Достоевского в том, что его собственная «осанна» прошла через «большое горнило сомнений» [Достоевский 1972–1990, 27: 86]. Этот опыт возрождения христианской веры через жгучее сомнение накладывает свой отпечаток не только на личный опыт его отдельных персонажей, но, что еще более важно, на саму форму и динамику его романов.
Позже мы увидим более подробно, что это был урок, который Достоевский не забыл при создании своего следующего и последнего крупного праведного персонажа, Алеши Карамазова. Сделав его сыном Федора, братом Дмитрия, Ивана и, по-видимому, Смердякова и распределив между ними основное внимание, он избежал проблемы, с которой столкнулся при написании «Идиота», и, в частности, трудности в продвижении дальше конца Части I. Тем не менее, читатель может быть благодарен за то, что он написал «Идиота» таким образом. Пережить вместе с Достоевским выворачивание романа наизнанку в процессе его исправления – великолепный художественный опыт. И если бы роман раскрывался каким-либо другим способом, он был бы гораздо менее крупной и обсуждаемой работой.
Какая бы неправильность ни проявлялась в «Идиоте» на уровне текста рассказчика (сюжета), она с избытком компенсируется балансом на уровне имплицитного автора, где в конечном счете и заключается его смысл. Возможно, именно этим объясняются как часто отмечаемые несовершенства романа, так и его общепризнанный успех. На уровне имплицитного автора, как я пытался показать, религиозное значение текста следует искать не в православном подтексте, а в ростках новой духовности, что появляются во фрагментах, которые кажутся задуманными (но в конечном счете напрасно), чтобы всецело подавить ее. Так как центром тяжести романов Достоевского остается мир, в котором невозможен прямой доступ к божественной истине, в котором источник высших ценностей и истин остается недосягаемым для человека, в котором его герои (осознают они это или нет) живут на пороге веры и небытия и в котором большинство из них либо пытается замаскировать это жизнью, основанной на мирских заботах и благочестии, либо рискуют в своих богоисканиях скатиться в черную дыру нигилизма – атеистический эквивалент ада. Томпсон права, утверждая, что в романе слабо выражено православное учение, но, возможно, ошибается, умаляя его общий духовный настрой, поскольку ростки минимального христианства в нем не задушены. Тот факт, что они кажутся хрупкими в конце романа, просто подчеркивает, что на самом деле они все время были такими, но не были бессильными.
IV
Вынесение референта за скобки: неразрешимость текста Достоевского
Мы видели, как судьбоносная встреча веры и неверия отражается в собственном опыте Достоевского, а также в опыте некоторых его главных героев. Я утверждал, что на самом деле именно негативный аспект этой двойственности доминирует в его прозаической структуре, зародившейся в ранних работах. Поскольку эти ранние работы многим обязаны его знакомству с произведениями Гоголя, в повествовании которого доминирует народное суеверие с его ужасающими образами дьявола и его агентов, а также с европейской традицией готического романа и сверхъестественными страшилками Гофмана, эта тенденция, очевидно, получила широкое распространение в 1840-х годах. И все же, несмотря на постоянные ссылки на дьявола и дьявольское, не сверхъестественное переполняет мир зрелой прозы Достоевского. Это скорее угроза абсолютного небытия, реальности, которая испаряется на глазах. Это видение сливается с восприятием Достоевским «нереальности Санкт-Петербурга», одно известное описание которого можно найти в «Подростке»:
Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: «Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, – и все вдруг исчезнет». Но я увлекся [Достоевский 1972–1990, 13: 113][58]58
См. также «Слабое сердце», II, 47–48, опубликовано в 1848 году.
[Закрыть].
И все же эта деконструктивная тревога – не просто тематический мотив Достоевского. Она заложена во всех приемах повествования, которые он использует: от первого до последнего. Ибо повествовательная структура романов Достоевского построена таким образом, чтобы облегчить скольжение между точкой зрения, что за пределами человеческого познания есть высшая истина, и противоположной точкой зрения, что за бесконечно удаляющимися слоями познаваемости нет вообще ничего. В этом кратком заключительном разделе я попытаюсь, не задерживаясь слишком долго на примерах, указать на некоторые способы, которыми достигается этот эффект.
Как говорит один из персонажей Олдоса Хаксли в «Гении и богине»:
«Вся беда литературы в том… что в ней слишком много смысла… В книгах есть связность, в книгах есть стиль». Он подался вперед и тронул корешок потрепанного томика «Братьев Карамазовых». Тут так мало смысла, что это близко к реальности [Proctor 1969: 9–10].
В письме В. С. Соловьеву от 16 (28) июля 1876 года Достоевский процитировал знаменитую строчку из стихотворения Тютчева «Silentium» («Мысль изреченная есть ложь»), на этот раз не для того, чтобы указать на действительность, а для того, чтобы привлечь внимание к стратегиям, которые авторы используют для представления своего восприятия реальности, и к их влиянию на читателя:
А впрочем, с другой стороны, если б многие из известнейших остроумцев, Вольтер например, вместо насмешек, намеков, полуслов и недомолвок, вдруг решились бы высказать всё, чему они верят, показали бы всю свою подкладку разом, сущность свою, – то, поверьте, и десятой доли прежнего эффекта не стяжали бы. Мало того: над ними бы только посмеялись. Да человек и вообще как-то не любит ни в чем последнего слова, «изреченной» мысли, говорит, что: Мысль изреченная есть ложь [Достоевский 1972–1990, 29, 2: 102].
Когда писатель прямо выражает свое видение, он уменьшает воздействие на читателя в десять раз. Читатели не любят «последних слов»: в ответ они цитируют Тютчева. Это лишь предварительный намек на одну из основных стратегий повествования у Достоевского, стратегию, можно сказать, делающую апофатический принцип принципом повествования вообще. Многое было и многое может быть сказано о роли повествовательного молчания в последнем романе Достоевского. В этой книге мы не будем пытаться повторить все это. Рассказчик Достоевского в «Братьях Карамазовых», как известно, умалчивает о самом моменте отцеубийства; даже о том, является ли убийство на самом деле отцеубийством, кроме как в нравственном смысле, в котором все сыновья виновны по умыслу или бездействию: родство Смердякова и Федора Карамазова никогда не было несомненно. Впрочем, доверие читателя к абсолютно, казалось бы, надежному рассказчику слегка подрывает – что типично для Достоевского – один из его второстепенных персонажей, защитник на процессе Дмитрия, который обвиняет прокурора в том, что он берет отдельные факты и делает из них свое дело, собственный роман [Достоевский 1972–1990, 15: 156]. В ответ прокурор обвиняет в том же защитника [Достоевский 1972–1990, 15: 174]. Вдумчивый и внимательный читатель не может совсем избежать размышления о том, что именно так поступает и рассказчик Достоевского.
Достоевский давно усвоил преимущества отказа от ясных объяснений таинственных событий или черт личности. В какой-то степени это открытие могло быть навязано ему изъятием места о золотом веке христианства в «Записках из подполья» или главы «У Тихона» в «Бесах» (которую он решил никогда не восстанавливать). Тем не менее, «Идиот», где такого внешнего давления не оказывалось, в высшей степени хорошо иллюстрирует этот прием благодаря заявленной неуверенности рассказчика в ключевом периоде, который Мышкин проводит в Москве между событиями первой и второй частей романа, и постепенной потере контроля над развитием сюжета. Релятивизация нарративной точки зрения по отношению к тому, «что было на самом деле», – один из основных приемов, которые Достоевский использует, чтобы заманить читателя в паутину слов, отношение которых к «реальности» всегда остается двусмысленным.
Конечно, есть смысл в том, что литература всегда и по определению выносит за скобки референта («реальность» за пределами человеческого дискурса). Даже там, где она черпает вдохновение из реальных людей и событий, как это часто бывает в романах Достоевского, она сознательно превращает их в вымысел, тем самым разрывая связь с «реальными» моделями. Даже там, где рассказчик претендует на то, чтобы вести хронику реальной жизни, в случае художественного произведения мы знаем, что это всего лишь притворство. Что Достоевский делает сверх того и изначально, так это выносит за скобки и самого автора или, по крайней мере, размывает его личность. Из тридцати четырех опубликованных художественных произведений Достоевского только восемь претендуют на то, чтобы быть последовательно рассказанными безличным всезнающим рассказчиком, то есть настоящим автором, и только один из пяти крупных романов, благодаря которым он всемирно известен. Даже он («Преступление и наказание») изначально был написан от первого лица и сохраняет многие характеристики такого повествования.
С самого начала своего творческого пути и до самого его конца Достоевский как бы прибегает ко всем доступным ему уловкам, в том числе и неправомерным, не только для того, чтобы вычеркнуть настоящего автора (самого себя) из его вымысла, но и для того, чтобы запутать читателя в том, где и он, и автор находятся по отношению к повествованию, релятивизируя или произвольно меняя точку зрения повествования. Его первый роман («Бедные люди») представляет собой переписку между героем и героиней. В «Двойнике», якобы рассказанном всеведущим рассказчиком, точка зрения рассказчика неразрывно связана с восприятием эмоционально и психически неуравновешенного вымышленного героя. Следующий его рассказ представляет собой переписку между двумя персонажами мужского пола («Роман в девяти письмах»), и хотя в следующих двух («Господин Прохарчин» и «Хозяйка») повествование ведет якобы безличный всезнающий рассказчик, его голос либо втянут в сознание героя, либо само оно настолько фантастично, что вызывает серьезные сомнения в его надежности. «Хозяйка», по сути, объединяет трех персонажей, каждый из которых эмоционально неуравновешен и, кажется, путает реальность с фантазией, и все они утверждают, что дают достоверное описание событий. Читатель остается в полном недоумении. Какое бы иное значение ни имела эта неудачная история в развитии творчества Достоевского, нет сомнения, что она была задумана и реализована как эксперимент по сопоставлению ненадежных рассказчиков. «Слабое сердце», «Честный вор», «Елка и свадьба» рассказываются вымышленными рассказчиками от первого лица, а интерференцию голосов рассказчика и персонажа, характерную для других рассказов Достоевского 1840-х годов, можно найти в «Чужой жене и муже под кроватью» [Schmid 1973]. Повествование «Белых ночей» идет от первого лица вымышленного героя, неоконченный роман «Неточка Незванова» – вымышленной героини; в «Маленьком герое», «Дядюшкином сне», «Селе Степанчикове и его обитателях», «Униженных и оскорбленных» и «Записках из мертвого дома» есть вымышленные рассказчики от первого лица (последнее представлено вымышленным автором). Если в «Скверном анекдоте» и «Вечном муже» рассказчики безличны и всеведущи, то в первом крупном произведении Достоевского, «Записки из подполья», снова появляется повествующий герой. «Крокодил», хотя и рассказанный всеведущим рассказчиком, представляет собой в высшей степени фантастическую сказку, «реализм» которой заключается в обстановке и стиле повествования, а не в сюжете. «Игрок» рассказывается невротическим героем, и повествовательная точка зрения «Преступления и наказания», хотя и якобы всеведущая, остается близкой точке зрения его героя на протяжении большей части текста. Повествовательная точка зрения как в «Идиоте», так и в «Бесах» [Jones 1999] настолько меняется, что голос рассказчика в обоих романах неоднократно подвергался научным и критическим исследованиям, в то время как повествование «Подростка» снова ведется от первого лица вымышленного героя, который сильно эмоционально вложился в придание формы своему беспорядочному опыту и в конце концов признал свое поражение. «Бобок» – это снова повествование от первого лица вымышленного персонажа, «Мальчик у Христа на елке» и «Мужик Марей» – повествования от первого лица автора «Дневника писателя», «Кроткая» и «Сон смешного человека» – это повествования от первого лица вымышленных героев, а «Братья Карамазовы» (хотя вы, возможно, никогда не догадаетесь об этом, прочитав стандартную критику) – это хроника от первого лица вымышленного жителя города, где происходят события, чья точка зрения далека от объективной. Все это можно было бы списать на литературный эксперимент, но зачем, если он такой рискованный, все время повторять его? В чем смысл? Один из способов ответить на этот вопрос – сказать, что Достоевский навязчиво дистанцируется как автор от своих повествовательных голосов, что почти всегда вызывает вопросы о достоверности самого повествования и часто вызывает вопросы о его связности. Игнорирование подобных особенностей (или отношение к ним как к ошибкам) способствует наивному прочтению или прочтению с точки зрения «имплицитного автора», но в погоне за иллюзорной связностью намеренно пренебрегает одной из важнейших черт творчества Достоевского, а именно его навязчивым избеганием всего, что может быть ошибочно принято за стабильное, объективное представление о реальности «вовне». Даже когда его рассказчик делает заявления такого рода (об объективности и анализе доказательств), как это происходит в «Бесах», его позиция настолько непоследовательна, что подрывает его собственные утверждения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.