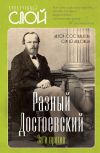Текст книги "Достоевский и динамика религиозного опыта"
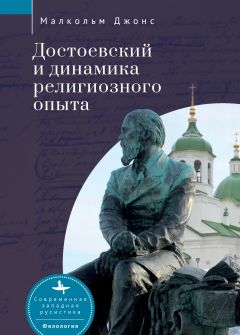
Автор книги: Малкольм Джонс
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
На несколько мгновений, – говорил он своему коллеге, философу Страхову, – я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии, и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь [Долинин 1964, 1: 281][51]51
Хотя они различались по частоте и интенсивности, эпилептические припадки Достоевского продолжались до конца его жизни. См. [Catteau 1989: 90–134].
[Закрыть].
Тем не менее, мы должны обратиться к его прозе для полного описания этого опыта, и мы находим его, конечно, в «Идиоте», в рассказе Мышкина о его собственных эпилептических припадках, которые он описывает как гармонию и красоту, доведенные до высшей точки совершенства, дающие незнакомое ранее ощущение завершенности, пропорциональности и умиротворенности; экстатическое и молитвенное слияние в высшем синтезе жизни, в котором Мышкин понимает фразу о том, что времени больше не будет. Но с этим «высшим синтезом жизни» неразрывно связаны оцепенение, душевная тьма и идиотия. Они предшествуют ему и следуют за ним. Это экстатическое переживание не представлено как православно-христианское переживание, да и как христианское переживание вообще. В действительности, здесь явно прослеживается связь с пророком Мухаммедом. Оно выходит за рамки богословия и догмы и обходит стороной божественное откровение в личности Христа. Мышкин вполне готов допустить, что это может быть симптомом болезни. Однако это переживание такой удивительной интенсивности, что, болезнь это или нет, он отдал бы за это всю жизнь [Достоевский 1972–1990, 8: 188–189]. Это единственное в творчестве Достоевского описание мистического переживания, включающего в себя как религиозный экстаз, так и духовную тьму, хотя Мышкин очень близко подошел к этому в своем сопереживании осужденным в их последние мгновения жизни на эшафоте, что отражало собственный травматический опыт Достоевского в декабре 1849 года. Однако, как мы видели, опыт эпилептической ауры Кириллова похож на то, что пережил Мышкин. Он тоже на мгновение чувствует вечную гармонию во всей ее полноте и переживает радостное ощущение всей природы и истины, за которую он отдал бы всю свою жизнь; но это опыт, чуждый физической жизни, в которой люди терзаются болью и страхом, и Кириллов видит в этом свою квазимессианскую миссию: пожертвовать собой, чтобы продемонстрировать, что если Бога нет, то все зависит от своеволия человека, который может победить боль и страх, лишив себя жизни [Достоевский 1972–1990, 10: 470]. Наряду с Мышкиным, Кириллов – лучший в творчестве Достоевского пример того, каково жить на этом опасном пороге между верой и неверием. В отличие от Мышкина, кажется[52]52
Я говорю «кажется», потому что читатель не знает, что происходит в душе Мышкина после «совершенного повреждения умственных органов» в конце романа [Достоевский 1972–1990, 8: 508].
[Закрыть], что Кириллов живет на этом пороге и падает в бездну нигилизма. Он уверяет Петра Верховенского, что Бог необходим и потому должен существовать, но в то же время знает, что его нет и быть не может и что человек с двумя такими представлениями не может жить дальше. Один человек из миллиона просто не вынесет мучений и покончит с собой. По словам Кириллова, Ставрогин тоже был поглощен такой мыслью: если Ставрогин верит в Бога, то он не верит, что верит; если не верит, то не верит, что не верит [Достоевский 1972–1990, 10: 469]. И Великий инквизитор Ивана Карамазова переворачивает многократно повторявшееся Достоевским утверждение, что образ Христа горит в нем так ярко, что даже если бы истина была вне Христа, он предпочел бы остаться с ним, а не с истиной. Алеша спрашивает Ивана, что происходит со стариком после того, как Иисус поцеловал его в старческие губы и ушел. Иван отвечает: «Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее» [Достоевский 1972–1990, 14: 239].
Кириллов воплощает в себе несколько аспектов духовной карты, созданной Эпштейном. Наиболее очевидным является то, что он выражает невыносимый опыт жизни на опасном пороге между верой и неверием, в конечном итоге выбирая негативную, нигилистическую сторону апофатического наследия. Он также является примером того, как религиозная традиция приобретает искаженную форму, когда торжествует нигилизм, поскольку мессианский образ Кириллова, несомненно, происходит из этой традиции. В-третьих, он иллюстрирует последствия, к которым поиск небытия приводит христианство (в отличие от других восточных религий). Как замечает Эпштейн, христианство отличается от других религий Востока, ищущих негативную бесконечность, тем, что фокусируется на «положительном проявлении Бога в образе Его Сына, посланного во плоти и крови для искупления грехов человеческих» [Epstein 1999b: 353]. Кириллов, как до него Ипполит в «Идиоте», рисует образ мертвого Иисуса, лишенного своей божественности в мире без Бога. Созданные Кирилловым и Ипполитом изображения обманутого и бессильного Иисуса показывают, как увядает образ Христа, когда он перестает основываться на переживании божественных энергий. В других произведениях Достоевского можно заметить либо положительный, либо отрицательный аспект изолированно. Главным представителем атеистического отрицания Бога является Иван Карамазов в своей поэме о Великом инквизиторе, где он называет сатану, искушающего Иисуса в пустыне, «страшным и умным духом, духом самоуничтожения и небытия» [Достоевский 1972–1990, 14: 229]. Поскольку это вытекает из характерной для русского православия склонности к апофатизму, то сходство берет свое начало, конечно, не в академической учебе или богословской подготовке, а в собственной психопатологии Достоевского. Эта психопатология так хорошо вписывается в апофатическую традицию в том виде, в каком ее представлял Эпштейн, что вряд ли можно сомневаться в том, что на каком-то уровне они переплелись между собой – хотя бы на уровне того, что Аврил Пайман называет ортодоксальной семиосферой [Pyman 2001: 103–115]. Скрытность и уклончивость религиозных персонажей Достоевского (Мышкин, Шатов, Зосима и Алеша) в отношении веры в Бога полностью соответствует этой традиции. Мы не знаем, насколько Достоевский сознавал это совпадение; мы также не знаем, насколько его опыту способствовало бессознательное усвоение традиции, но очевидно, что совпадение поразительно.
В произведениях Достоевского есть и описания опытов, в той или иной мере причастных природному мистицизму и в целом обнаруживающих ту же двусмысленность. Ярким примером является Макар Долгорукий в «Подростке», который вспоминает о летнем посещении Богородского монастыря. Контекст, как это часто бывает у Достоевского, может привести читателя к предположению, что этот опыт выражает православную духовность, а периодическое использование традиционного христианского языка показывает, что он действительно вырос на православной или, возможно, сектантской почве; но неясно, важен ли этот православный для содержания речи Макара, или же является просто выразительным средством:
Красота везде неизреченная! Тихо все, воздух легкий; травка растет – расти, травка божия, птичка поет – пой, птичка божия, ребеночек у женщины на руках пискнул – господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик! И вот точно я в первый раз тогда, с самой жизни моей, все сие в себе заключил… Склонился я опять, заснул таково легко. Хорошо на свете, милый! Я вот, кабы полегчало, опять бы по весне пошел. А что тайна, то оно тем даже и лучше; страшно оно сердцу и дивно; и страх сей к веселию сердца: «Все в тебе, господи, и я сам в тебе и при-ими меня!» [Достоевский 1972–1990, 13: 290].
В «Бесах» Мария Тимофеевна проводит связь между природной мистикой и православием, которую Эпштейн включает в свой список постатеистических феноменов:
А по-моему, говорю, бог и природа есть всё одно. Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься [Достоевский 1972–1990, 10: 116].
Тем не менее, нам не нужно далеко ходить за примером того, как это таинственное мистическое чувство единства с природой сменяется у Достоевского чувством полного отчуждения. Неудивительно, что мы найдем его у Ипполита, который требует ответа, для чего ему мышкинские рассветы и закаты и голубые небеса, где каждая крошечная мушка участвует в пиршестве и хоре и знает свое место на празднике, которому нет конца, в то время как он один из него исключен [Достоевский 1972–1990, 8: 343]. Но мы удивимся, обнаружив, что сам Мышкин использует подобные образы и задается подобными вопросами; действительно, Мышкину кажется, что Ипполит заимствовал его собственные слова:
Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце; каждое утро на водопаде радуга; каждый вечер снеговая, самая высокая гора там, вдали, на краю неба, горит пурпуровым пламенем; каждая «маленькая мушка, которая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре участница: место знает свое, любит его и счастлива»; каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш [Достоевский 1972–1990, 8: 351–352].
Однако вот что Мышкин говорит по другому поводу, выражаясь уже не вполне религиозным языком и предвосхищая слова Макара Долгорукого:
Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать… а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят… [Достоевский 1972–1990, 8: 459].
Таким образом, двойственность бессодержательного экстаза и отчаяния мышкинского эпилептического припадка, похоже, отражается в том, как он воспринимает мир природы. Мышкин, как считается, провозгласил, что «красота спасет мир» [Достоевский 1972–1990, 8: 317], при этом в больших романах Достоевского явно прослеживается связь между эстетической и религиозной сферами. Шатов отождествляет «эстетическое начало» с «исканием Бога» [Достоевский 1972–1990, 10: 198], хотя он, по его собственному признанию, еще не нашел Бога. В письме В. А. Алексееву в 1876 году Достоевский писал: «Христос нес в себе идеал красоты» [Достоевский 1972–1990, 29, 2: 85]. Можно было бы привести еще много подобных отрывков, подтверждающих мнение о том, что Достоевский видел тесную связь между переживанием красоты и переживанием божественного. Тем более что это уже есть в его письме к Фонвизиной. Поэтому неудивительно найти в его рассуждениях о красоте отголоски его рассуждений о религии. В 1861 году в статье о Добролюбове и искусстве он пишет:
Потому что потребность красоты развивается наиболее тогда, когда человек в разладе с действительностью, в негармонии, в борьбе, то есть когда наиболее живет, потому что человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается; тогда в нем и проявляется наиболее естественное желание всего гармонического, спокойствия, а в красоте есть и гармония и спокойствие [Достоевский 1972–1990, 28: 94].
Но именно у Дмитрия Карамазова читатель наиболее остро чувствует эту связь. В известном отрывке он говорит нам, что: «Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут» [Достоевский 1972–1990, 14: 100].
Самый известный и чаще всего цитируемый пример религиозного экстаза – это, конечно, пример Алеши Карамазова, который после бдения у одра старца выходит на воздух [Достоевский 1972–1990, 14: 328]. Этот опыт часто рассматривается как продолжение и подтверждение предшествующей сцены у гроба Зосимы, проникнутой православными мотивами. Однако следует помнить, что хотя Алеша и воспрял силами после этого, он еще недавно подпал под сильное впечатление от речи своего брата Ивана о космическом мятеже, с которой он отчасти согласился, и от его мощной поэмы о Великом инквизиторе. На этом неоднозначном фоне нас снова и даже сильнее, чем прежде, поразит то, что мистический восторг Алеши, каким бы сильным он ни был, выражается в терминах, как бы избегающих всех православных ассоциаций, всякого упоминания о Боге, всякого упоминания об образе Христа. Алеша испытывает, как «что-то твердое и незыблемое», «идея», «кто-то» посещает его душу. Как бы мы к этому ни относились, здесь есть все признаки того, что Эпштейн определяет как постатеистический, минимальный религиозный опыт, порожденный непримиримым столкновением между светом веры и тьмой неверия. Насколько нам известно, у Алеши нет уравновешивающего опыта духовной тьмы, и, может быть, не следует придавать слишком много значения звездам, сияющим из «бездны». Мы знаем, что Достоевский предвидел для него такое будущее, но сбыться ему помешала смерть автора. Однако Алеша наверняка видел бездну глазами брата. Во всяком случае, мы видим здесь не православие во всей его полноте, а ростки нового духовного сознания, которые могут вырасти в православие; оно возникло из столкновения православия с метафизическим нигилизмом и с тем же успехом могло бы в другом контексте привести к совершенно иной духовности.
Зосима сталкивается с опытом полнейшего неверия и предлагает способ превращения его в веру, когда мать Лизы приходит к нему, чтобы признаться, что она не смеет даже думать о Боге и ее глубоко беспокоит вопрос о жизни после смерти – мысль, которая тревожит ее, вызывая страдания, страх и ужас. Возможно, она умрет, не найдя ничего. Как можно ее убедить? «Опытом деятельной любви […] и избеганием лжи», – отвечает Зосима и прибавляет:
Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, – в ту самую минуту […], вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа [Достоевский 1972–1990, 14: 51–54].
Возможно, именно это имел в виду английский автор гимнов XIX века Дж. Г. Уиттиер в своих строках об Иисусе, разделяющем с верующим «тишину вечности, истолкованную любовью»[53]53
«Дорогой Господь и Отец человечества» Дж. Г. Уиттиера (1807–1892).
[Закрыть].
Если такие персонажи, как Ипполит, Кириллов или Великий инквизитор Ивана, иллюстрируют темный полюс нигилистического страха перед смертью, то умирающий брат Зосимы Маркел дает нам пример перехода от отрицательного полюса к положительному. Когда он впервые узнает, что не доживет до весны, и его мать мягко увещевает его соблюдать Великий пост и причащаться, он злится и ругает Божью Церковь. Но затем в нем происходит удивительная перемена. Он делает то, что велит его мать, и становится радостным; он позволяет няне зажечь лампадку перед иконой в своей комнате (раньше он бы ее задул), говорит матери, что жизнь есть рай, но мы не хотим этого знать; если бы мы только признали это, во всем мире был бы рай. Он говорит слуге, что мы все должны служить друг другу, говорит матери, что мы все виноваты перед всеми и что если все его простят, то будет рай. Он даже у птиц просит прощения и заявляет, что в птицах, деревьях, лугах и небе так много славы Божией, а он один все обесчестил. Здесь, перед лицом смерти, Маркел ощущает силы Божии вокруг себя, в таинствах, в иконе, в природе, в своих отношениях с другими людьми. В отличие от Ипполита, Кириллова и Великого инквизитора, он обрел спокойствие и радость перед лицом собственного физического угасания. Образ Христа как таковой еще отсутствует в его рассуждениях, но Маркел как бы перешагнул через опасный порог на сторону ангелов.
Переживание одним и тем же человеком бездонного отчаяния и ощущения полноты божественного присутствия, конечно, имеет давнюю традицию и не является уникальной для Достоевского или даже для богословских традиций восточной церкви. Это даже не уникально для иудео-христианской традиции, что наглядно демонстрирует эволюция религиозного сознания святого Августина от манихейства к христианству. В «Темной ночи души» святой Иоанн Креста, который рассматривает внутреннюю тьму оставления Богом как необходимый этап на пути к очищению, обильно ссылается на Ветхий Завет, особенно на Псалтирь и Книгу Иова. Книга Иова, как мы видели, имела огромное значение для Достоевского практически всю его жизнь. В письме жене из Бад-Эмса в 1875 году он писал: «Читаю Книгу Иова, и она приводит меня болезненный восторг; бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача» [Достоевский 1972–1990, 29, 2: 43][54]54
Интересное обсуждение влияния структуры Иова (и Ветхого Завета в целом) на диалогическую структуру романов Достоевского см. у [Liakhu 1998].
[Закрыть]. Она также играет важную роль в религиозном мировоззрении Зосимы. Поэтому тем более примечательно, что в его завещании нет ни одного крика Иова об отчаянии и заброшенности. Возможно, к этому времени своей жизни Зосима стал отвергать подобные переживания. Возможно, то же самое случилось и с Достоевским в его личной жизни, – но, как мы видели, не в его произведениях.
II
Подполье как центр деконструктивной тревоги
Если источником положительных ценностей Достоевского была та русская православная традиция, в которой он воспитывался в детстве, его нигилистические тревоги, по-видимому, также сопровождали его с раннего возраста и вскоре стали составлять фундаментальный контрпринцип, пронизывающий его творчество. До 1866 года, когда было опубликовано «Преступление и наказание», в его романах не было попыток представить полноту христианской веры (и Дайан Томпсон показала нам, насколько ошибочными может быть утверждения обратного [Toh mpson 2001: 69–99]). Тема воскрешения из мертвых, конечно, присутствует в «Записках из мертвого дома» (1860), где Достоевский в художественной форме представил свои переживания времен каторги в Омской крепости, но здесь она связана как с освобождением рассказчика из тюрьмы, возрождением мира природы (наступлением весны, выпуском раненого орла), так и с кратким рассказом о богослужениях Страстной недели. Замысел Достоевского обозначить золотой век христианства в «Записках из подполья» (1864) не был реализован из-за цензуры, и от него не осталось ничего, если только, как мы предположили, оно не перекликалось с его словами о смерти его первой жены. Однако противоположная крайность нигилистического отчаяния находит различные формы выражения. Именно в «Записках из подполья» Достоевский впервые попытался сформулировать его философски. Традиционная критика связывает эту работу либо с современной полемикой (Чернышевский и утилитаризм), либо с ее предвосхищением современного экзистенциализма (Ницше и Кьеркегор), предлагая самые яркие параллели.
Оба подхода вполне убедительны сами по себе, но ни один из них удовлетворительно не проясняет радикальный нигилизм в этой истории, если только не проводится связь с постмодернистским развитием мысли Ницше. Натали Саррот, говоря о Достоевском в контексте современной литературы, утверждает:
Давно прошло то время, когда Пруст мог полагать, что, «доводя свое воображение до пределов его способности к проникновению», [он мог бы] надеяться достичь той окончательной основы, на которой базируются истина, реальная вселенная и наши подлинные впечатления. Испытав множество обманов, каждый теперь знает, что нет абсолютной основы. Было обнаружено, что «наши подлинные впечатления» многослойны и что эти слои накладываются друг на друга до бесконечности [Sarraute 1956: 10].
Это почти та же самая проблема, которая мучает подпольщика у Достоевского в 1864 году:
Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы [Достоевский 1972–1990, 5: 108].
Почти, но не совсем, потому что вопрос о том, существует ли какая-то предельная основа вне нашей досягаемости, остается нерешенным. Есть основания полагать, что Достоевский здесь усматривал связь (может быть, задним числом) со своим гораздо более ранним вторым романом «Двойник» (1847), ибо видел в его герое Голядкине своего «главнейшего подпольного типа» [Достоевский 1972–1990, 21: 264]. В 1875 году, почти через тридцать лет после написания «Двойника», периода, охватывающего почти всю его творческую жизнь, он написал в неопубликованном предисловии к «Подростку»:
А подполье и «Записки из подполья». Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. […] Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в само-казни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! […] Подполье, подполье, поэт подполья – фельетонисты повторяли это как нечто унизительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда. […] Причина подполья – уничтожение веры в общие правила. «Нет ничего святого» [Достоевский 1972–1990, 16: 329–330].
Мы никогда не узнаем точно, что Достоевский имел в виду под «подпольем», и, может быть, он сам никогда не знал этого точно. Владимир Туниманов справедливо предупредил нас, что эти слова написаны много лет спустя после публикации «Записок из подполья» (еще дольше после «Двойника») и не могут считаться надежными [Туниманов 2002]. Очевидный и самый обычный ответ состоит в том, что он описывает душевное состояние своего героя, который все больше уходит из мира повседневной действительности, в котором он чувствует себя бессильным, в мир параноидальных фантазий или даже галлюцинаций, которые в конце концов поглощают его. Несомненно, это многое объясняет в словах Достоевского, но текст «Записок из подполья» содержит еще более богатый пласт, на который указывают заключительные предложения предисловия: «Причина подполья – уничтожение веры в общие правила. “Нет ничего святого”». Другими словами, это не просто проблема интеграции в общество или внутреннего разделения и цельности: в более существенном плане герой полностью утратил веру в истину и высшие ценности, и это является основным фактором его психологического состояния. Человек из подполья жаждет веры практичного человека в суровую реальность, но не может ее найти. Он «знает», что есть что-то лучше, но не может это опознать. Он живет в мире, который, как он считает, утратил чувство священного, а с ним и всякое чувство абсолютной реальности, истины, смысла или добра. Именно эта идея продолжает определять мир Достоевского и мысли его героев на протяжении всех последующих крупных романов, заставляет их брать дело в свои руки и приходить к разрушительным, в сущности, решениям. Так, Раскольников видит в себе потенциального Наполеона, наделенного правом преступать человеческие законы и отрицать человеческую мораль, но ломается под напряжением, понимая, что его теория построена на песке; Мышкин сетует на то, что в новое время люди уже не руководствуются господствующей идеей [Достоевский 1972–1990, 8: 433], и в конце концов переживает распад своих умственных способностей. Эта мысль вновь выражена в записных книжках Достоевского к «Подростку»: «Недостаток общей, руководящей идеи, затронувшей все образования и все развития. […] Потеряна эта связь, эта руководящая нить, это что-то, что всех удерживало» [Достоевский 1972–1990, 16: 68]. Или, как Достоевский писал в краткой статье о современной молодежи в своем «Дневнике писателя» за 1876 год, «Идеи летают в воздухе, но непременно по законам; идеи живут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым» [Достоевский 1972–1990, 24: 51].
Можно сказать, что тематически и структурно эта проблема поднимается в «Идиоте». Жалобы на то, что люди больше не руководствуются господствующей идеей, – это, с одной стороны, просто замечание о социальной и идеологической раздробленности. Однако в контексте современного европейского сознания их можно переформулировать так: они утратили веру в Бога, или, на языке Деррида, трансцендентальное означающее. Если в этом романе и есть религиозное послание, оно заключается в том, что никакое праведное поведение, религиозные образы или акты благотворительности не помогут, если отсутствует этот центральный фактор. Ипполит с его образом опустошенного, обманутого Иисуса на кресте или те, кто с замиранием сердца созерцает гольбейновскую картину с Иисусом, снятым с Креста, выражают это в самой сильной форме. Но даже Мышкин, что очень существенно, уклоняется от того, чтобы прямо говорить о своей вере в Бога. И результатом является либо создание собственной, посюсторонней системы ценностей, либо усиление анархии. Вполне уместно, что рассказчик вынужден сам переживать и выражать это затруднительное положение, пытаясь навязать своему повествованию то один набор жанровых условностей, то другой, но в конце концов теряя доверие к любому из них и устремляясь вперед к апокалиптической кульминации. Смело начав свое повествование в образе всезнающего рассказчика с полной уверенностью в своем герое, он постепенно, урывками, теряет контроль как над сюжетом, так и над самим своим героем, отдавая и то, и другое на откуп другим персонажам, у каждого из которых есть свои планы.
Но именно в «Бесах» эта проблема становится по-настоящему центральной. Ставрогин не признает ни руководящей идеи, ни трансцендентального означающего. Он, кажется, считает, что мы должны создать свою собственную систему ценностей, и делает это сам несколько раз, но ему так и не удается в ней укрепиться – когда он верит, то не верит, что верит, а когда не верит, не верит, что не верит [Достоевский 1972–1990, 10: 469]. Попутно, однако, он обращает Петра Степановича Верховенского, Кириллова и Шатова в разные системы ценностей, завещая им в то же время свое отсутствие веры в трансцендентальное означающее. В свете поэмы Ивана о «Великом инквизиторе» в последнем романе Достоевского у нас может возникнуть соблазн увидеть в философии Верховенского, Кириллова и Шатова воплощение трех сатанинских начал, отвергнутых Христом в пустыне: авторитета, тайны и чуда. Кириллов ближе всех к чистому метафизическому нигилисту, которого отсутствие Бога приводит в состояние запустения. Его изображение Иисуса на кресте похоже на то, что рисует нам Ипполит, хотя, может быть, даже более безрадостно, и он проповедует, что если это не воля Божья, то наша воля, которую мы должны выразить в самой чистой форме, в его собственном случае – через самоубийство. Политическая мысль юного Верховенского цинична – для него власть и контроль являются жизненно важными вещами вне каких-либо моральных ограничений. Шатов, конечно, выражает то славянофильское кредо, которое было так по душе самому Достоевскому, но с одним существенным упущением: он тоже «пока» не может заставить себя заявить о своей вере в Бога. Возможно, Верховенский-старший ближе всего к такой вере приходит в свои предсмертные часы, слишком поздно, чтобы повлиять на кого-либо положительно – после того, как всю жизнь он саботировал подобные попытки. Но даже его откровение, по-видимому, зависит от весьма сомнительного отождествления христианского Бога с «вечной и безмерной Мыслью», происходящей не из православной традиции, а из философии немецкого идеализма [Достоевский 1972–1990, 10: 506].
И, конечно же, именно в «Братьях Карамазовых» проблема обозначена не православными персонажами, а главным представителем метафизического нигилизма Иваном Карамазовым – в его заявлении, что если нет Бога и бессмертия души, то все позволено. (Если нет трансцендентального означающего, то нет и высшей санкции для человеческих ценностей.) Заметим, что повествовательная анархия, царящая в «Идиоте» и «Бесах», в «Братьях Карамазовых» уменьшена. Рассказчик сохраняет довольно устойчивый и последовательный взгляд. Он не зацикливается на вопросах о своей роли рассказчика или своей правильной точке зрения. Он утверждает, что сам видел некоторые события, о которых он повествует, но не является участником центральной драмы и никак не замешан в действии (хотя, конечно, если мы «все ответственны за все», это должно относиться и к нему тоже). Он может не предпринимать особых усилий, чтобы скрыть свои личные симпатии и антипатии в выборе языка, но он оставляет при себе свое суждение по центральному религиозному и философскому вопросу, предпочитая, когда он выражает свою точку зрения, психологический подход. Как, впрочем, в конечном счете и сам Достоевский, который не попытался решить этот вопрос ни в одном из дошедших до нас текстов. Если он действительно продолжал считать, что «даже если бы можно было доказать, что истина вне Христа, он остался бы со Христом, а не с истиной», это ничего не решает. Едва ли можно сомневаться в том, что временами он думал, что нашел решение, как и в том, что призрак неверия неоднократно возвращался и преследовал его. То, как это повлияло на его произведения, возможно, лучше всего проиллюстрировать на примере «Идиота».
III
Саморегулирующийся роман: «Идиот» Достоевского
Какую бы роль Достоевский или его читатели ни отводили положительному религиозному подтексту, едва ли можно спорить о том, что именно отрицательный полюс доминирует в его повествовании и мотивирует большинство его наиболее запоминающихся персонажей. Однако Достоевский сделал одну попытку написать роман, в котором центром тяжести была бы фигура, подобная Христу. «Идиот» продолжает нас озадачивать. Большинство современных критиков сходятся во мнении, что он нарушает все правила и содержит недостатки, которые у более мелкого писателя были бы расценены как признаки вопиющей некомпетентности. Полный несоответствий в образах и сюжете, с ложным началом и немотивированными событиями, грозящий временами сбиться с пути и рухнуть в бессвязность, он, тем не менее, остается одним из признанных шедевров романа[55]55
Конечно, не всеми признанный шедевр: Джон Джонс не смог заставить себя включить главу об «Идиоте» в свою книгу «Достоевский 1985».
[Закрыть]. Гэри Сол Морсон мог бы оспорить уточнение «тем не менее». Быть может, он успешен именно потому, что отвергает аристотелевскую концепцию поэтической структуры, на каждом шагу расстраивая и сбивая с толку читателя или критика, воспитанного в этой традиции, и в то же время устанавливая новую и столь же достоверную модель опыта, в которой мы интуитивно распознаем гениальность. Морсон предложил термин темпикс[56]56
Англ. tempics, предположительно от temporal, временной, и poetics, поэтика. – Прим. пер.
[Закрыть] в качестве общего названия для этой новой модели [Morson 1997]. Он подчеркивает, что в «Идиоте» мы проживаем события, происходящие прямо сейчас, а не рассказываемые задним числом – после того, как они попали в телеологический паттерн, и что это отражает собственный творческий процесс Достоевского. Морсон признает, что это рискованная стратегия. Однако в своей новаторской статье он не затронул вопрос о том, в чем заключается разница между блестящим успехом и удручающей неудачей в реализации темпикса – разница, можно сказать, между «Идиотом» и «Подростком».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.