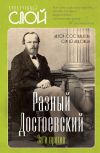Текст книги "Достоевский и динамика религиозного опыта"
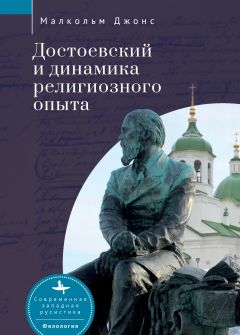
Автор книги: Малкольм Джонс
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Мотив смерти и воскресения, рассматриваемый таким образом и проиллюстрированный в эпиграфе к «Братьям Карамазовым», весьма многое говорит нам о зрелых произведениях Достоевского. Мы находим его лежащим в основе всех четырех его главных романов, включая «Идиота». Он играет структурирующую роль в отдельных текстах и часто находит выражение в библейских аллюзиях. Во многих случаях православные мотивы появляются в творчестве Достоевского в сложных взаимосвязях, отличающих их от более общих христианских мотивов. В культурном отношении православная традиция играет большую, если не доминирующую роль в мире художественной литературы Достоевского. То, что православие как Священное Писание радикально оспаривается Достоевским, также легко продемонстрировать, как и его отказ признать, что это оспаривание губительно для религиозного опыта. Сложнее установить, что его тексты следует читать как свидетельство возрожденной убежденности – убежденности, в конечном счете невосприимчивой к атакам скептицизма и разума. Сложнее, потому что это зависит от того, как мы интерпретируем его умолчания, а эти умолчания в полифоническом контексте обозначены неоднозначно. Но то, что с одной точки зрения может рассматриваться как уклонение, с другой может рассматриваться как намек. Семена возрождения православия у Достоевского сродни тому, что Михаил Эпштейн в недавних эссе назвал «минимальной религией», росткам нового религиозного сознания, появляющимся из бурь атеизма [Epstein 1982, 1999a]. Мой тезис не в том, что такое прочтение безальтернативно, но в том, что оно правдоподобно и, насколько оно того стоит, соответствует собственным литературным амбициям Достоевского. Большего полифонический текст не позволит.
VIII
Однако даже если мы примем, что метафора смерти и воскрешения православия представляет собой жизнеспособную модель роли религии в мире Достоевского, это едва ли отражает динамическую природу религиозного опыта и структурирующую роль этой метафоры в его романах. Вышеописанные дискуссии выявили многие особенности, которые она не в состоянии объяснить. Остается обсудить, возможно ли построить динамическую модель, которая будет объяснять связанность религиозного и атеистического опыта персонажей Достоевского. В частности, такая модель должна учитывать лиминальную природу крайностей религиозного опыта, представленных у Достоевского; их развитие по положительным и отрицательным линиям через его праведных персонажей и его нигилистов; наконец, то, как их открытый конфликт приводит к тупиковой ситуации и впоследствии к рождению новых форм духовности, где от старых религиозных традиций остаются лишь бледные тени. Подсказку можно найти в недавней статье Михаила Эпштейна, вышедшей в английском переводе в 1998 году. Она не о Достоевском, но ее актуальность вскоре станет ясной. В ней рассматривается то, что автор называет феноменом постатеизма в России начала XXI века. Статья называется «From Apophatic Teh ology to “Minimal Religion”» [Epstein 1999b], и я утверждаю, что то, что Эпштейн называет «минимальной религией», очень похоже на то, что мы находим в тексте Достоевского. Более того, я предполагаю, что многие из элементов исторического процесса, который Эпштейн прослеживает на протяжении двух столетий, можно найти в зачаточном состоянии у Достоевского. Эпштейн начинает с того, что его интересует новый тип религиозного сознания в конце XX века, а точнее, возвращение в сознание религиозных влечений и инстинктов, вытесненных в бессознательное в советский период, когда агрессия, жестокость и разрушение стали официальной идеологической доктриной. Но, согласно Эпштейну – и именно здесь он становится особенно актуальным для нашей темы, – подавление религиозного сознания в советский период не было навязано только внешними источниками: оно коренилось в самой сердцевине религиозно-богословской традиции, господствовавшей в восточном христианстве, и особенно в России. Согласно Псевдо-Дионисию, автору «Ареопагитик» (V–VI вв. н. э.), Бог глубже любого определения, образа или имени. Перефразируя Гуссерля, можно сказать, что сознание всегда есть сознание чего-то, в то время как Бог не является чем-либо и поэтому ускользает от определений, предлагаемых сознанием. По словам Владимира Лосского,
всякое познание имеет своим объектом то, что существует, Бог же вне пределов всего существующего. Чтобы приблизиться к Нему, надо отвергнуть все, что ниже Его, то есть все существующее. […] Идя путем отрицания, мы подымаемся от низших ступеней бытия до его вершин, чтобы во мраке полного неведения приблизиться к Неведомому [Lossky 1957: 25].
Апофатизм, говорит Лосский, является основным признаком всей богословской традиции Восточной церкви. Согласно Эпштейну, его наиболее фундаментальным проявлением в русском православии было подавление самой теологии с ее акцентом на невыразимости Бога; он же был источником древнего, прочного и многовекового интеллектуального молчания России. Конечно, Россия многого достигла в области литургии, догматики и других дисциплин, а религиозная мысль испытала подъем во второй половине XIX и начале XX века, но богословие в России никогда не рассматривалось как особо важная функция веры. Кратчайший путь к Богу лежал либо через непрестанное повторение восьмисловной молитвы к Иисусу, либо через «неизреченные воздыхания».
Эпштейн заключает, что апофатическая традиция последовательно ведет к русскому нигилизму XIX века и советскому атеизму века XX, где негативное богословие становится отрицанием самого теизма. Бог выносится за пределы познаваемого как такового, и все предикаты, какими можно было бы описать понятие Бога, отвергаются. Этот темный и нездоровый аспект апофатизма был частью русского богословия на протяжении всей его истории, и антиинтеллектуальная позиция православия может в какой-то мере объяснить тяготение русской мысли к атеизму. Апофатизм загонял веру в бессознательное и расчищал путь для сознательного культа науки, революции и общественных идеалов. Таким образом, вера в отсутствие Бога коренится в амбивалентности самой апофатической теологии, которая, отрицая у Бога какие-либо познаваемые черты, погружает нас в глубины не-знания Бога и в конечном итоге ведет к безразличию или простому отвержению Бога. Именно в этом смысле советский атеизм можно рассматривать как парадоксальное развитие апофатического богословия: Бог лишен не только своих атрибутов, но и самого предиката существования. Разница в том, что в одном случае отрицание Бога есть лишь шаг к постижению Бога, а в другом – конечная точка, на которой разум останавливается и окаменевает. Эпштейн, конечно, не утверждает, что эти вопросы в явном виде обсуждались среди русской интеллигенции XIX и XX веков. Действительно, трудно найти свидетельства сознания ею этой проблемы[48]48
За исключением Франка, который много лет назад отметил это сближение теологии и атеизма. См. [Frank 1956: 179–180].
[Закрыть]. Смысл аргумента Эпшейна состоит в том, что это фатальное разъединение всегда присутствовало в русской ментальности на подсознательном уровне – причем степень этого разъединения и способ, каким оно достигалось, для западного мира были едва ли доступны в силу пути, по которому развивалась его теология. Эту объяснительную теорию нельзя ни доказать, ни опровергнуть; однако ее можно использовать для выделения некоторых отличительных черт истории русской духовности.
Эпштейн делает паузу, чтобы отметить, что Восток был колыбелью других религий, воплощающих отрицательную бесконечность – нирвану в буддизме, Дао в даосизме, Брахмана в индуизме. На Востоке отрицательные формы познания Бога не ведут неизбежно к атеизму. Их нигилизм, далекий от отрицания религии, представляет собой ее глубокую сущность и достоинство. Христианство, однако, заметно отличается тем, что утверждает положительное явление Бога в образе Его Сына, явившегося во плоти. Именно потому, что для христианина Бог открывается во всей полноте человеческой личности Христа, развитие негативной теологии, думает Эпштейн, должно было привести к атеизму. Однако это не значит, что атеизм, доводя до крайности апофатику, совершенно уничтожает религиозное начало. Парадокс заключается в том, что если апофатизм содержал в себе семена атеизма, то атеизм сохраняет в себе семена апофатизма. То есть атеизм сохраняет свою бессознательную теологию. Апофатизм – лиминальное явление, через которое вера переходит в атеизм, а сам атеизм вскрывает бессознательное веры [Epstein 1999b: 355].
Однажды подавленная религия, продолжает Эпштейн, дает о себе знать косвенным образом, точно так же как для Фрейда подавленная сексуальность может выдавать себя в искаженных формах. Эпштейн приводит ряд примеров из советского периода: создание идолов, преклонение перед вождями и их изображениями, разного рода государственные культы, а также регрессия к примитивным племенным ритуалам. Русская культура советского периода изобилует бессознательной демонстрацией религиозных интенций.
В постсоветской России духовный вакуум, созданный советским атеизмом, породил в 1970-х и 1980-х годах новый тип постатеистической религиозности, которую Эпштейн называет «бедной» или «минимальной» религией. Она не имела четких конфессиональных характеристик, проявляя себя как неделимое чувство Бога. Таким образом, минимальная религия стала следующей стадией апофатизма после того, как он перешагнул порог атеизма и вернул себе религиозное содержание. Согласно Эпштейну, атеистическое отрицание всех религий, таким образом, породило «минимальную» религиозность, отрицающую все положительные различия между историческими религиями. Поскольку советский атеизм был исторически новым явлением, постатеистическая духовность была еще большей новинкой.
На самом деле, постсоветская Россия демонстрирует ряд тенденций. Во-первых, происходит возврат к доатеистическим убеждениям. Традиционные религии – православие, католицизм, ислам, буддизм, иудаизм – восстанавливают свой статус. Во-вторых, это возврат к неоязычеству и античному культу природы, часто смешанный с возвышенными экологическими настроениями. В-третьих, это смесь того и другого, где православие становится религией Отца Небесного и древним культом Матери-Земли и где оно призвано защищать Россию от иноземной скверны и ересей. В новом язычестве также присутствует культивирование магии, экстрасенсорики, парапсихологии, спиритуализма и других верований, восходящих к анимизму и фетишизму. Наконец, есть минимальная религия – без порядка службы, догм, священных книг или особых ритуалов.
Эпштейн излагает здесь в устоявшейся традиции русской интеллигенции метаисторический отчет о развитии русской духовности. Следовательно, его перспектива диахронична. Но, сознает он это совпадение или нет, он также случайно выделил и теоретизировал весь спектр религиозных феноменов мира Достоевского. Существенное отличие состоит в том, что у Достоевского они появляются синхронно, при этом до событий советского периода и предвосхищая его. Ибо в мире Достоевского мы видим религиозную веру и атеистический нигилизм как бы связанными друг с другом невидимыми нитями. В его произведениях есть также интересные примеры духовности, вытесненной и нашедшей выражение в искаженных формах. Ярким примером является мессианский бред Кириллова в «Бесах». Его спутник Шатов сочетает православие с культом России-матушки, не говоря уже о нескольких случаях, когда персонажи благоговейно кланяются, чтобы поцеловать землю и окатить ее слезами. Действительно, как и его современники-славянофилы, Достоевский сам был одержим идеей, что нельзя быть настоящим русским, не будучи православным. Прежде всего мы видим возвращение религиозного опыта в минимальной, примитивной и в искаженной формах, включающих языческие, упрощенные, еретические и апокалиптические элементы. В них можно найти и следы протестантских и католических традиций, христианского социализма, ценности поверхностного современного секуляризма. В этом контексте неудивительно, что рецензенты сочли возможным сопоставить аспекты буддизма и ислама с духовностью литературного мира Достоевского, не говоря уже о хоре советских марксистов, объявляющих его своим. Одна важная особенность духовной карты (и у нас, и у Достоевского), которую не упоминает Эпштейн, это то, что Филип Гудчайлд недавно назвал «господствующей современной глобальной набожностью», организующим принципом которой является «саморегулирующийся рынок» [Goodchild 2002: 10], другими словами, замена религиозной набожности набожностью, направленной к трансцендентному принципу денег, финансовых спекуляций (азартных игр) и их накоплению (того, что Достоевский называет «идеей Ротшильда»)[49]49
Недавнее эссе на эту тему см. в [Christa 2002].
[Закрыть]. Пожалуй, самые интересные моменты его произведений – это когда личность стоит на краю бездны небытия, а иногда даже на пороге между бездной нигилизма и полнотой религиозного опыта. Как говорит Тихон Ставрогину, «совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры» [Достоевский 1972–1990, 11: 10]. Более того, мы также можем выделить аспекты повествовательной техники Достоевского, способствующие изображению такого мира. Именно это сочетание форм духовного сознания в одном тексте так сбивает с толку тех читателей и критиков, которые способны понимать религиозный опыт Достоевского только в традиционно христианских терминах. Пожалуй, в «Братьях Карамазовых» можно впервые увидеть весь спектр духовного опыта в его взаимосвязанности и в полной мере оценить тот факт, что, хотя Достоевский задумывал произведение, в котором будет отстаиваться православие и опровергаться атеизм, реализация этого замысла должна была состояться в будущем романе, которого он так и не написал. Если иметь это в виду, то вполне можно допустить, что и сам Достоевский мог обратиться к полноте православной традиции для своего личного спасения, но при этом как романист он принимал окружавшую его многогранную духовную реальность, интуитивно угадывая взаимосвязь этих явлений в «апофатической семиосфере». В этом контексте мы можем рассматривать заявление Орландо Файджеса, что вся жизнь Достоевского – борьба за соединение учения Евангелия с жаждой социальной справедливости на земле, а выход из этого писатель нашел в «русской душе»» [Figes 2002: 339], как отклик не на полноту и богатство православия, а на весь спектр явлений в окружающей его духовной атмосфере:
Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский «социализм» теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, по колику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют [Достоевский 1972–1990, 27: 18–19].
Мысль о том, что совпадению этих явлений могут способствовать особенности апофатического богословия в России, завораживает. Если оно имеет какое-то историческое значение, то его, пожалуй, можно объяснить случайным появлением в России европейского Просвещения и восстановлением монашеской традиции, основанной на апофатическом богословии, в конце XVIII и начале XIX века. Однако в конечном итоге вопрос заключается не в том, прав ли Эпштейн в историческом смысле, а в том, обеспечивает ли он жизнеспособную динамическую модель явлений, которые он намеревается теоретизировать, и помогает ли она нам понять Достоевского. Я думаю, что это так, и мы увидим это из дальнейшего рассмотрения.
Эссе IV
Деконструкция и тревога у Достоевского
I
Опасный рубеж
Г. Рассел в своей статье в недавнем сборнике под редакцией Паттисона и Томпсон предостерегает читателя:
Чтобы апофатическое знание не было понято неправильно […], для деконструкции его безмолвного сводного брата важно отметить, что человеческая неспособность в полноте истины обратиться к Богу является результатом совершенства Бога, которого мы, как грешные создания, не можем знать. Таким образом, слово о Боге относится к полноте, которую оно не может вместить, а не к отсутствию [Russel 2001: 227].
Привлекая внимание к этому принципиально важному различию, Рассел, возможно, непреднамеренно, подчеркивает легкость, с которой можно спутать одно с другим и соскользнуть в это другое не только концептуально, но и, в зависимости от настроения переживающего опыт субъекта, эмпирически. Другими словами, безмолвие, лежащее в основе апофатической религии, может быть истолковано или пережито либо как полнота, либо как отсутствие, как великолепное изобилие или бездонная пропасть, как теоцентричный смысловой локус или как полный хаос и бессмысленность. Как мы видели, Достоевский испытал это на себе и очень хорошо понял, как от первого можно соскользнуть ко второму. Это происходит и во внутреннем опыте его персонажей, и во взаимоотношениях между ними. Как указывает Томпсон [Toh mpson 2001: 75], такие непохожие друг на друга персонажи, как Мышкин и Ипполит, цитируют одну и ту же фразу из Апокалипсиса – «времени уже не будет» (Откр. 10:6): один в эпилептическом экстазе, другой в суицидальном отчаянии. Этот двойственный опыт не является современным открытием. Он был знаком Иову, Иеремии, псалмопевцам, возможно, даже самому Христу на кресте (Мф. 27:46; Мк. 15:34), и может переживаться носителем любого религиозного мировоззрения, в котором Бог (или Бытие) воспринимается как совершенно иное. В традициях европейской теологии и философии религии XX века так считали, например, Карл Барт, для которого Бог, совершенно недоступный человеческому мышлению, прорвался в мир и явил себя во Христе, и Мартин Хайдеггер, для которого Он исчез, но при этом опыт страха перед небытием является ключевым шагом в поисках бытия и Бога грядущего[50]50
О другом подходе к Достоевскому и Хайдеггеру см. у [Gerigk 2002].
[Закрыть]. Постановка проблемы у Достоевского имеет весьма современные черты.
Традиционный анализ идейно-религиозного измерения художественного мира Достоевского часто сосредотачивается на его отношении к полемике того времени, например к спорам между славянофилами и западниками, в которых произведения Достоевского, как и произведения его современников Тургенева, Лескова и Толстого, сыграли важную роль. Другие исследователи признают, что его значение намного больше, и пытаются определить его место в истории всей западной философии или христианского богословия. Такие работы способствовали укреплению авторитета Достоевского как писателя мирового масштаба. Ничто из нижеследующего не предназначено для умаления их значения.
Можно легко согласиться, что в произведениях Достоевского найдутся примеры всех типов духовного и идейного сознания, перечисленных в конце предыдущей главы, кроме, конечно, тех, которые относятся непосредственно к советскому периоду. Большинство из них уже подробно исследовано в критической литературе, иногда по отдельности, а иногда в связи с общей темой или более широким критическим анализом. Поэтому, возможно, будет достаточно сослаться здесь на некоторые из этих исследований и привести наглядные примеры, не пересказывая их подробно. Об отношениях Достоевского с православием, да и с другими христианскими конфессиями, существует слишком много общеизвестных работ, чтобы их возможно было перечислить. Я уже упоминал и ссылался на некоторые из них в предыдущих главах. Что касается апокалиптического напряжения у Достоевского, то, пожалуй, достаточно вспомнить работы Лезербэрроу [Leatherbarrow 1982] и Д. Бети [Bethea 1989: 62–104]. На самом деле, именно апокалиптическая чувствительность сделала Достоевского столь популярным среди западноевропейских писателей в период Первой мировой войны. Считается, что Ричард Пис первым из англоязычных исследователей обратил внимание на важность роли старообрядцев и русских сектантов в романах Достоевского [Peace 1971]. Майкл Фатрелл – автор известной статьи о Достоевском и буддизме [Futrell 1981]. Харриет Мурав убедительно описала роль юродства в творчестве Достоевского [Murav 1992]. Другие важные исследования перечислены в библиографии в конце этой книги. Моя цель здесь не в том, чтобы переписать эти исследования, а в том, чтобы установить новую модель для прочтения их динамической взаимосвязи.
Мой тезис состоит в том, что Достоевский не просто изображает разнообразные религиозные переживания и не просто полемизирует с ведущими мыслителями своего времени, но что на более глубоком и динамичном уровне все эти явления происходят из двусмысленности того апофатического богословия, пронизывавшего воздух, которым он дышал. Хотя некоторые из этих явлений и отражены в творчестве его современников, ни один из них не выразил весь их размах и глубину так, как это сделал Достоевский, интуиция которого в этом отношении, как и в других, кажется, превзошла интуицию его коллег и большинства преемников. Мы испытаем ее и попытаемся продемонстрировать, что некоторые из наиболее важных духовных переживаний в работах Достоевского существуют на границе между полнотой религиозного опыта и пустотой нигилизма. Мы уже приводили слова Эпштейна: «Апофатизм – лиминальное явление, через которое вера переходит в атеизм, а сам атеизм вскрывает бессознательное веры» [Epstein 1999b: 355].
Возможно, стоит сделать паузу, чтобы повторить: эта книга не призвана показать, что Достоевский был деконструктивистом avant la lettre, хотя то, что следует ниже, может иметь значение для такого прочтения и даже, кажется, узаконивает его. Наоборот, в ней делается тонкое, но существенно иное утверждение, что Достоевский в самом начале своей карьеры интуитивно осознавал те аспекты письма, которые гораздо позже стали центром внимания для постструктурализма XX века, и что это не только не радовало его, но и вызывало у него глубокую тревогу. Однако вместо того, чтобы подавить их или отвести взгляд, он, кажется, навязчиво обращается к этим аспектам, перекраивая в соответствии с ними структуры своих произведений, чтобы предоставить себе и читателю наилучшее возможное представление о них. Эта деконструктивная тревога пронизывает все его творчество – возможно, потому, что какие бы общепринятые литературные модели его ни вдохновляли, ему было необходимо рассмотреть их с точки зрения того, что он назвал «проклятыми вопросами» человеческой жизни и смерти. Хотя эта тревога не лишена связи с его описанием русского нигилизма и места этого течения в развитии современного экзистенциализма, она уходит гораздо глубже и пронизывает даже повествовательную структуру его творчества.
Теперь нам следует поближе взглянуть на саму традицию апофатического богословия. В трудах Владимира Лосского воспроизводится хорошо известное описание апофатической традиции и ее происхождения из текстов Псевдо-Дионисия, который различает два возможных богословских пути. Одна из них, катафатическая теология, исходит из утверждений о природе Бога. Так она достигает некоторой степени познания Бога, но это несовершенный путь, потому что Бог по самой своей природе непознаваем. Другой путь – это апофатическая или негативная теология, которая в конечном счете ведет нас к полному неведению. Бог находится за пределами существования, так что, чтобы приблизиться к нему, необходимо отвергнуть все, что ниже его, то есть все, что существует. Постепенно отбрасывая в сторону все познаваемое, можно приблизиться к неизвестному во тьме неведения, где обитает Тот, Кто выше всего сотворенного. Тайны богословия, наконец, раскрываются во тьме безмолвия, за пределами света сотворенных вещей. Апофатическая теология есть путь к мистическому единению с непостижимым для нас Богом [Lossky 1957: 25–28]. Таким образом, парадокс апофатического богословия состоит в том, что приблизиться к переживанию полноты божественного присутствия можно только через встречу с безмолвной тьмой полного неведения. Ставки высоки.
Знаменитые отрывки из Нового Завета, стоящие в самом центре богословия Иоанна: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5) и «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин. 1:5), как ни удивительно, не были отмечены Достоевским в его копии Нового Завета. Возможно, они были ему слишком хорошо знакомы. Лосский указывает, что непознаваемость не обязательно влечет за собой агностицизм или отказ от познания Бога. Теология должна быть не столько поиском положительных представлений о божественном бытии, сколько опытом, превосходящим всякое понимание. Она никогда не будет абстрактной, работающей через понятия, но будет созерцательной, возвышающей ум к тем реальностям, которые превосходят всякое понимание [Lossky 1957: 38 и далее]. Эта традиция, утверждает Лосский, «составляет основную характеристику всей традиции Восточной Церкви» [Lossky 1957: 26].
Нет никаких свидетельств того, что сам Достоевский систематически исследовал апофатический или негативный подход к переживанию божественного, не говоря уже о том, что посредством этого он пришел к опыту деконструктивного нигилизма. Однако вполне возможно, что религиозная среда, в которой преобладала апофатическая традиция, сделала его особенно восприимчивым к тому скольжению между ними, на которое обратили внимание и Рассел [Russel 2001: 227], и Эпштейн. Из «Идиота» мы можем увидеть, что отрицательную сторону традиции Достоевский связывал со старообрядцами. С ними ассоциируется Рогожин, в темном, мрачном доме которого висит репродукция картины Гольбейна с изображением тела Христа во гробе. Рогожин подтверждает, что его отец считал старообрядчество более близким к истине и питал особое уважение к секте скопцов [Достоевский 1972–1990, 8: 173]. Как говорит Р. Пис, религиозное значение Рогожина в романе очевидно: он – темная сторона русского религиозного темперамента [Peace 1971: 91]. Много позже в романе Мышкин обнаруживает, что его собственное страстное убеждение о том, что веры в Бога не может быть у человека, отрекшегося от родины, было изначально внушено ему старообрядцем [Достоевский 1972–1990, 8: 453]. Мы, очевидно, имеем дело главным образом с интуицией, а не с сознательными мыслительными процессами. Что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что Достоевский и некоторые из его персонажей глубоко осведомлены о темной стороне русских религиозных традиций и часто тяготеют к тем областям веры, где темная сторона (ересь) встречается с подлинной стороной (православием). Таким местом встречи является пересечение мессианского христианства с русским национализмом. Как показала Маргарет Циолковски, такой национализм, который она усматривает у Зосимы в «Братьях Карамазовых», неловко уживается с тем, что она вслед за Федотовым называет кенотической традицией в русской духовности [Ziolkowski 2001: 38]. Поскольку это сыграло такую важную роль в антиевропейской полемике Достоевского, его вера в то, что приверженность католицизма рационализму привела непосредственно к протестантизму и, следовательно, к атеистическому социализму, была широко отмечена и задокументирована, но реже отмечается его осознание того, что похожую эволюцию можно разглядеть в русской душе. Как говорит Мышкин во время тирады на своей «помолвке»:
Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! «Кто почвы под собой не имеет, тот и бога не имеет». Это не мое выражение. Это выражение одного купца из старообрядцев, с которым я встретился, когда ездил [Достоевский 1972–1990, 8: 452–453].
Благодаря посещению русских монастырей Достоевский был знаком с апофатической духовностью с самых ранних лет, пусть его богословские познания в этом возрасте и были минимальными. Именно на этом фоне следует рассматривать его собственное духовное развитие – правда, к изучению монашеской традиции, результата обновления исихазма в Русской церкви в конце XVIII и в XIX веке (эпоха, когда ценности европейского Просвещения укоренялись в русском образованном сознании), он начал приближаться лишь во время подготовительной работы над «Братьями Карамазовыми» и краткого визита в Оптину пустынь с Владимиром Соловьевым 26–27 июня 1877 года. Сергей Гаккель, рассказывая о различных книгах о монашеской традиции, которыми обладал Достоевский и которые он, вероятно, приобрел во время своего краткого визита, предостерегает нас от мысли, что он прочел их все с глубоким пониманием [Hackel 1983: 142]. Тем не менее, Достоевский явно чувствовал внутреннюю напряженность монастырей. Утверждалось даже, что прототипом для Ферапонта был исторический персонаж, помещенный в Оптину пустынь русскими церковными властями для дискредитации отца Леонида, который был там старцем с 1829-го по 1841 год [Figes 2002: 294–295; Stanton 1995: 46]. В соответствии с исихаст-ской традицией, Леонид делал особый акцент на смирении и пассивном страдании.
Имея в виду эти соображения, мы можем начать с самого Достоевского, поскольку, если мы сможем проследить этот феномен до переживаний реального автора, это позволит предположить, что подобные явления в его творчестве являются чем-то большим, чем результат склонности читателя к свободному ассоциированию. Стоит еще раз напомнить место из его письма к Фонвизиной от января 1854 года, которое по разным причинам так часто цитируется [Достоевский 1972–1990, 28, 1].
Письмо часто оказывается в центре споров о том, был ли Достоевский «дитем сомнения и неверия» до конца своей жизни, как он тогда предсказывал, или же он восстановил свою христианскую веру во всей ее полноте, как ему хотелось бы это продемонстрировать. Ключевой отрывок говорит нам, однако, о другом, быть может, даже более важном: именно в минуты глубочайшего духовного огорчения он часто находил величайшее душевное утешение. Вряд ли любой сочувствующий читатель его сочинений может усомниться в том, что иногда имело место и противоположное движение. Он часто оказывался на пороге между полным отчаянием и сияющей надеждой. Это не было теоретической формулой или благочестивым повторением общепринятой религиозной догмы. Не было это и сознательным упражнением в апофатическом богословии. Это было тем, что он на самом деле испытал на себе. Поэтому неудивительно, что это предельное переживание – мистическое по своей природе, и что наиболее сильно оно ощущалось им в эпилептических припадках. Из того, что Достоевский рассказывал другим людям, мы знаем, что такие переживания могли наполнить его экстатической радостью.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.