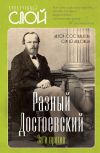Текст книги "Достоевский и динамика религиозного опыта"
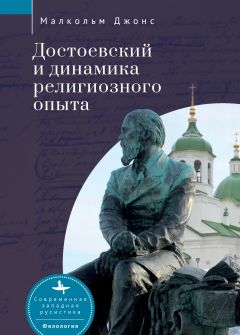
Автор книги: Малкольм Джонс
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Эссе VI
Заключение
В этом заключительном эссе я не претендую на оригинальность. Как и во втором эссе, я выборочно вернусь к более ранним работам других ученых, но на этот раз не столько для того, чтобы поднимать вопросы, сколько для того, чтобы показать, как эти разрозненные данные могут быть интегрированы в предложенную мной модель.
Глава о «Братьях Карамазовых» показывает, что вполне возможно убедительно интерпретировать Достоевского через призму модели Эпштейна, если перевести ее в синхронические термины и модифицировать с учетом того факта, что речь идет о досоветской реальности. На самом деле, это довольно существенное изменение менее провокационно, чем может показаться на первый взгляд, поскольку оно объясняет, почему о Достоевском часто говорят, что он предвосхитил Советскую Россию или даже пророчествовал о ней и других атеистических тоталитарных государствах XX века. Роман ясно намекает на то изначальное безмолвие тьмы, которое может привести к полноте и спокойствию веры, с одной стороны, или к опустошению бездны небытия, с другой; он ставит конфликт между этими двумя исходами в центр личности и философии жизни Ивана и Зосимы и, в разной степени, их сподвижников. Это также дает нам доказательства того, что две реакции не обязательно являются полярно противоположными, но могут взаимодействовать и перекрываться, и что любой человек может переключаться между ними в состоянии тревоги. Роман также представляет нам множество примеров того, что Эпштейн называет минимальной религией (а я ранее называл ростками нового христианства) в различных формах, особенно в тех формах религиозного опыта, которые больше не опираются на институты, ритуалы и догмы. На самом деле минимальная религия у Достоевского, как и в реальном историческом опыте, может сочетать христианские элементы с языческими, равно как и с мотивами других религиозных традиций. Такая минимальная религия возникает в результате высасывающей энергию, но не кончающейся битвы между теизмом и атеизмом, характерной для зрелых романов Достоевского.
Однако некоторые формы религиозного опыта у Достоевского заслуживают дальнейшей разработки. В предыдущих главах я стремился отодвинуть народные традиции православной церкви, русского сектантства и старообрядчества на периферию и просто предположить, что они дают нам примеры минимальной религии. Но есть и другой и, может быть, более плодотворный способ истолкования места народной религии (как мы можем назвать все это для краткости) в его системе вещей, ибо, как мы видели, Достоевский в конце концов уверовал в способность русского крестьянина видеть суть вещей и сохранять в душе своей сущность христианской веры, несмотря на необразованность и трагический исторический опыт. Хотя иногда он и доводил такое отношение до карикатуры на самого себя, он в значительной степени опирался на русскую народную религию как на источник положительного духовного понимания. Он также знал, что некоторые из этих народных традиций – например, юродства – были неоднозначны по своей духовной ценности. Были и другие, питавшиеся очарованием духовной тьмы.
Некоторые из этих традиций закрепились в письменной форме и, как убедительно доказывалось, нашли отражение в образе Зосимы и его речах. Сергей Гаккель [Hackel 1983] описал некоторые из них. Например, во Введенской Оптиной пустыни был старец Амвросий, который, по своему обыкновению, вероятно, подарил Достоевскому некоторые книги – по случаю его краткого визита в монастырь с Владимиром Соловьевым летом 1877 года. Гаккель утверждает, что рассказы о путешествиях монаха Парфения могли повлиять на образ Зосимы и что Достоевский также мог опираться на более ранний рассказ Парфения о посещении старца Леонида. Недавно канонизированный Тихон Задонский, которого, по словам Достоевского, он давно принял в свое сердце, был широко представлен в библиотеке писателя, и Достоевский открыто признавал влияние на Зосиму некоторых проповедей Тихона. Наиболее важным из этих религиозных источников, предполагает Гаккель, мог быть «Список слов и проповедей богоносного отца нашего Исаака Сирина», переведенный на русский язык с греческого; он упоминается в записных книжках к роману и несколько раз в самом романе: как мы видели, у Григория была рукопись «Проповедей», хотя он очень мало в ней понимал; у Смердякова была печатная копия, в которую он прятал деньги; Иван заметил это, когда был у него в гостях. Ничто из этого, кажется, не имеет положительного духовного значения, но Гаккель предполагает, что взгляд Исаака Сирина на ценность слез как плода покаяния, духовного познания как этапа на пути к обожению может лежать в основе отношения Зосимы к слезам. Точно так же есть параллели, но не точные эквиваленты, между описанием возвышенного духовного состояния у Исаака и Зосимы; в то время как настойчивое утверждение Исаака о том, что «рай есть любовь Божия», находит отклик, хотя опять же не точный эквивалент, в учении Зосимы о человеческой и божественной любви. Эти и другие источники православной агиографии хорошо засвидетельствованы в трудах Гаккеля, Ветловской, Линнера, Стэнтона и других, и читатель, очарованный богатством этого подтекста, может обратиться к их страницам. Для наших целей достаточно отметить, во-первых, что Достоевского в каждом случае интересует именно духовный этос, который он импортирует в свой собственный текст, а не конкретное учение или практика. Это особенно примечательно в случае с «Житием старца Леонида» Климента Зедергольма, которое, как утверждает Леонард Стэнтон, использовалось Достоевским в качестве источника для «Братьев Карамазовых» [Stanton 1995: 151 и далее]. Стэнтон обращает особое внимание на те элементы изложения Зедергольмом жизни Леонида, которые выдвигают на первый план аспекты православного богословия, восходящие к апофатической традиции: возможность обожения отдельного верующего; вера в то, что духовная истина недосягаема посредством разума, но обретается в молчании; авторитет, который проистекает из духовного знания, а не из разума. Кроме того, Стэнтон находит в «Житии Леонида» отрывки, которые Достоевский, вероятно, прямо импортировал (хотя и в замаскированной форме) в текст своего романа. Опять же, это менее важно для нашей темы, чем то, что понимание и изображение Достоевским института старчества и его богословских корней в исихастской традиции, а также на периферии жизни православной церкви само по себе оказало сильное влияние на его представление об истинном характере и источниках духовного знания.
Этот тезис подкрепляется Мишелем Никё [Niqueux 2002], который в недавнем обзоре, посвященном значению русских сект и старообрядчества для Достоевского, заключает, что, хотя тот, безусловно, много читал о раскольнических религиозных группах (в том числе о штудинистах и спиритуалистах в европейских источниках) и хотя он изредка писал о них и даже имел некоторое личное знакомство с их приверженцами в Сибири и в Петербурге, его в конце концов интересовали не столько их этнографические особенности, сколько характер их духовной жизни.
В то время как совсем не удивительно, что жития православных святых имели некоторое отношение к описанию Достоевским Зосимы, довольно легко упустить из виду фундаментальное значение сектантов и старообрядцев для динамики религиозного опыта в его творчестве. Хотя сектантство не привлекало его как способ разрешения его религиозных исканий, нет сомнения, что он был глубоко очарован им в своей попытке диагностировать затруднительное положение религии в России. Это увлечение произошло задолго до его ссылки в Сибирь и нашло свое самое раннее выражение в рассказе «Хозяйка», герой которого, как сообщается, пишет историю русской церкви. Происхождение зловещего Мурина много обсуждалось, и почти не приходится сомневаться в том, что у его образа, помимо богатого воображения Достоевского, существует несколько смутно идентифицируемых источников, включая западноевропейскую литературу, в частности рассказы Э. Т. А. Гофмана. Тем не менее темная и зловещая сторона русской религиозной традиции уже преследовала Достоевского. Некоторые считают, что Мурин обладает чертами (физическими и духовными) старообрядцев, а также скопцов и хлыстовцев. Миколка (ложно сознающийся в преступлении Раскольникова) в «Преступлении и наказании» представлен как раскольник. Мы уже видели, как тема старообрядчества и сектантства всплывает в «Идиоте» главным образом через Рогожина. Никё приходит к интересному выводу, что если хлысты связаны в сознании Достоевского с иррациональным и религиозным имманентизмом, скопцы связаны в его творчестве с убийством и революцией, например в стремлениях Петра Верховенского к Ставрогину как к лжецарю, и что значение их поэтому далеко выходит за контекстуальные рамки и становится для него метафорическим. То, что это так, как будто подтверждается связью Смердякова с сектантами и с Иваном. Иными словами, хотя и невозможно точно определить, как Достоевский видел эти связи, выявляются два очень важных факта. Во-первых, переход от истинного христианства к социалистическому атеизму он наблюдал не только в развитии западной цивилизации (что он подчеркивает в своей антизападной полемике и, как следствие, это подчеркивает большинство комментаторов), но и в развитии местных традиций российской цивилизации через связь между сектантством и революцией. Во-вторых, те динамические религиозные процессы, которые мы рассматривали в творчестве Достоевского и которые укладываются в модель Эпштейна, проявляются не только в философствовании его интеллектуальных героев, но еще яснее – в традициях самого русского сектантства. Здесь, в душе русского крестьянина, которому так верил Достоевский, а не только в уме просвещенного интеллигента, потерявшего свои корни, находится последнее место встречи духовного просветления с духовной тьмой. Это место, где сливаются христианство и гностицизм, где ложатся рядом религиозная духовность и национализм, где объединяются религиозный фанатизм и политическая революция. И если кто-то сомневается в том, что Достоевский действительно устанавливал эти связи, стоит только взглянуть на его планы ненаписанного «Жития великого грешника», питавшие все его поздние романы. О предполагаемом герое он писал:
Потеря веры в Бога действует на него колоссально. […] Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадается на крючок иезуиту пропагатору поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога [Достоевский 1972–1990, 28, 1: 329].
Затем в письме Аполлону Майкову из Дрездена от 25 марта / 6 апреля 1870 года он писал несколько иначе:
(Общее название романа есть: «Житие великого грешника», но каждая повесть будет носить название отдельно.) Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование божие. Герой, в продолжение жизни, то атеист, то фанатик, то сектатор, то опять атеист [Достоевский 1972–1990, 29: 117].
Он и сам не был застрахован от подобного поветрия, что подтверждает его собственное отождествление русской национальности с принадлежностью к православной вере. Несомненно, именно в этих пределах Достоевский интуитивно угадывал, помимо мук собственного разума, существование в историческом опыте России той смеси света и тьмы, которая была способна как к развитию по глубоко зловещему пути, так и к духовному возрождению.
Таким образом, мир Достоевского не купается в теплом сиянии православия; он также не изображает мир, в котором покой и суматоха одинаково уравновешены. Большинство его персонажей большую часть времени живут на взволнованной поверхности реальности, которая характеризуется тревожностью, конфликтами и нестабильностью. Подобно Ивану Карамазову в теории и Дмитрию Карамазову на практике, они могут находить временное утешение в чувственных удовольствиях жизни. Но есть и маленькие оазисы душевного спокойствия для избранных. В «Преступлении и наказании», «Идиоте» и «Бесах» такие моменты найти действительно трудно, а их способность радикально изменить жизнь может показаться сомнительной. Однако в «Братьях Карамазовых» читателю дается больше надежды. Пока в человеке сохраняется чувство соприкосновения с другими таинственными мирами через семена, посеянные Богом в этом мире, надежда есть, тогда как если это чувство ослаблено или разрушено в человеке, то, что в нем выросло, умирает [Достоевский 1972–1990, 14: 290–291]. Конечно, существенную роль в этом процессе играет сохраняющийся в монастыре образ Христа, но богатство православной традиции в целом отходит на второй план.
В эссе о «Братьях Карамазовых» мы отметили примеры народной религии, в ряде случаев обозначенные как таковые рассказчиком, места, где христианские традиции подхватывают укоренившиеся языческие суеверия и сливаются с ними. Явление чертей Ферапонту (не говоря уже об Алеше, Лизе и Иване Карамазове) – яркий тому пример, тем более показательный, что происходит это в недрах христианской общины и сопровождается эксцентричными, если не сказать неортодоксальными, богословскими спекуляциями. Подобные монстры, представляющие для устоявшегося космоса угрозу исходного хаоса, характерны для большинства, если не для всех древних религий, и в христианской традиции воплощаются в лице сатаны. Как бы мы ни интерпретировали черта Ивана – психологические интерпретации кажутся многим читателям наиболее убедительными, – сатана лично выходит на сцену в легенде Ивана о Великом инквизиторе. Следует помнить, что одно из его искушений состоит в том, чтобы уступить требованию чуда. Это искушение проявляется и в событиях, последовавших за смертью Зосимы, когда многие иноки ожидают подтверждения его святости чудесами. Когда этого не происходит, взгляды его недоброжелателей как бы получают подтверждение. Подтекст напоминает нам, что Иисус (по Мк. 8:12, например) отчаялся в поколении, которое требовало знамений, и сказал, что знамение не будет дано[81]81
Верно, что Матфей и Лука говорят, что Иисус сделал исключение для «знамения пророка Ионы», который три дня пребывал во чреве кита, что в ретроспективе рассматривается евангелистами как предвосхищение Воскресения, и что в более позднем и богословски сложном Евангелии от Иоанна делается акцент на множестве знамений и чудес, которые Иисус совершил, чтобы явить свою сверхъестественную природу, но в синоптических евангелиях Иисус, как правило, отказывается выполнить требование о знамении с небес, поясняя, что те, кто требовал, принадлежали «роду лукавому и прелюбодейному» (Мт. 12:39, 16:4; Лк. 11:29).
[Закрыть]. Хотя может быть сомнительно, что Достоевский имел в виду именно это, подразумеваемый отказ от требования чудесного, как в рассказе о Зосиме, так и в «Великом инквизиторе», можно было бы истолковать как ответ на видения Ипполита или Кириллова, или на картину Гольбейна, на которой божественность Христа оказывается иллюзорной. Короче говоря, ответ будет заключаться в том, что от христиан вовсе не требуется верить в историческую достоверность рассказов о Воскресении в свете пренебрежительного отношения самого Иисуса к знамениям и чудесам. Важно то, что Бахтин назвал бы внутренне убедительной природой глубинного мифа о духовном воскресении в каждой отдельной жизни и в конце времен. Такая психологическая интерпретация религиозных явлений также соответствовала бы предпочтениям рассказчика. Если это допустимое прочтение, то роман указывает на еще одну альтернативную форму минимальной религии, которая предвосхищает развитие западной теологии XX века и, возможно, указывает на направление юнгианского анализа.
Наконец, в модели Эпштейна поднимается вопрос о развитии нехристианских верований. Упоминания о них, особенно об исламе, в «Братьях Карамазовых», конечно, есть, но они носят исключительно негативный характер. Нет никаких предположений, что они найдут в России благодатную почву. Однако все большее число критиков находят интересные параллели между духовностью романов Достоевского и духовностью нехристианских верований. Хотя это выходит за рамки данной книги, стоит отметить и их, потому что они, кажется, опираются на общий источник духовности не только иудео-христианских и мусульманских традиций, но и буддизма, и, по существующему мнению, шаманизма. Т. Касаткина ссылается на ряд недавних исследований, в которых Мышкин уподобляется арктическому шаману или суфийскому мистику, «одаренному глубокой апофатической интуицией», имеющей столько же общего с буддизмом, сколько и с исламом, и опирающейся на общий духовный источник [Kasatkina 2004: 457–458].
Отсюда важность минимальной религии, упомянутые Мышкиным и Ипполитом семена, притча Грушеньки о луковице, мимолетное обращение к традициям, обрядам и догматам церкви, важность хороших, хотя и отрывочных воспоминаний из детства. Отсюда и стратегическое место отрывка из Иоанна 12:24, составляющего эпиграф к «Братьям Карамазовым». В этом свете становится яснее и смысл «Записок из подполья», «Преступления и наказания», «Идиота» и «Бесов». Хотя они и не проникнуты духом православия, все они по-своему свидетельствуют о наличии новых ростков веры, появляющихся в атеистическом мраке: предчувствие «подпольного человека» о том, что есть лучший путь; простая вера Сони; грядущее обновление и возрождение Раскольникова; намеки в конце «Идиота» на то, что по крайней мере на Веру, Колю и Радомского столкновение с Мышкиным оказало некоторое положительное влияние; преображение Верховенского-старшего на смертном одре; все они указывают путь к более просторной панораме «Братьев Карамазовых». Почему романы Достоевского не угнетают? Возможно, потому, что, допуская тьму, нависшую над лицом земли, они также изображают свет, который неоднократно сквозь нее прорывается, и напоминают читателю об обещании, что свет победит тьму.
Если Достоевский изображает в своих романах главным образом «минимальную религию», то возникает вопрос, почему критики постоянно ошибались? Один возможный вариант ответа заключается в религиозной или антирелигиозной предрасположенности самих критиков и неявном стремлении показать связность литературных текстов и дать ключ к их интерпретации. Эта книга, конечно, не застрахована от такого обвинения; при чтении Достоевского важно найти ключ к связности, полностью учитывающий тот факт, что его текст так часто чуть не сваливается в бессвязность; потому что, исходя из традиции письма, которую Деррида охарактеризовал как логоцентрическую, он, тем не менее, так уязвим для деконструкции. Другой вариант ответа заключается в словах самого Достоевского о своих благочестивых намерениях и известной его приверженности православию, особенно в конце жизни. Но как мог любой по-настоящему внимательный читатель его романов поверить в то, что соблазн неверия исчез? Как, в таком случае, любой внимательный читатель мог быть введен в заблуждение и думать ровно противоположное: что его вера была просто самообманом? И то, что эти вопросы – риторические, будет ясно любому читателю, который читает эту книгу не с конца.
В конечном счете, как мы предположили, мир Достоевского не является бинарным, хотя он сам как личность, судя по всему, испытывал неудержимую тягу выражать себя в таких терминах. Противоречащие друг другу принципы имеют общее происхождение, лежащее вне текста (как точка схода на картине): все зависит от того, какой маршрут человек выбирает, выходя из тишины тьмы, или же от того, как люди прокладывают свой путь между этими принципами. Выбор определяет не только абстрактную философию жизни, но и отношение человека к универсуму, к миру природы, к обществу, к себе, к другим людям и к миру грядущему, даже к процессу мышления и философствования как такового, другими словами, выбор определяет то, как человек относится к человеческому дискурсу, в частности к религиозному дискурсу, видит ли он в нем выражение своего чувства целостности или аналитический инструмент на службе собственной воли, созидающей собственную систему ценностей.
Предложенная нами модель имеет определенные преимущества с точки зрения критики, поскольку она учитывает как желание Достоевского поставить нас перед выбором между православной традицией и атеизмом, так и противоположное впечатление, что такой выбор произволен. Другими словами, она избавляет нас от необходимости выбирать между «христианским» и «нехристианским» прочтением, религиозным прочтением и постмодернистским прочтением. Наоборот, она обязывает нас примириться с ними обоими, ибо в мире Достоевского реальность их сосуществования неизбежна. Более того, религиозная динамика романов Достоевского явно соответствует процессу, который мы можем наблюдать и в наши дни. Достоевский, несомненно, надеялся, что эти ростки новой веры приведут к обновленной форме русского православия. Возможно, это и так, хотя сегодня это выглядит несколько сомнительно. Это, однако, не обязательно означает, что они не обладают собственной значимостью. Как говорит Мышкин, когда атеисты говорят о религии, они всегда как бы упускают из виду суть дела и говорят совсем будто не про то [Достоевский 1972–1990, 8: 182].
Нет никаких реальных сомнений в том, что Достоевский переживал существование Бога как сверхъестественной силы; нет никаких сомнений и в его постоянной неуверенности относительно того, не основана ли такая вера на иллюзии. Также нет сомнений в вере Достоевского в высшую ценность такого опыта в человеческих делах, даже если он действительно в конечном счете основан на иллюзии. Другими словами, Достоевский лично верил в силу образа Христа, независимо от того, существовала ли высшая трансцендентная реальность или нет. Альтернативой может быть та нигилистическая тьма, которая преследует его интеллектуальных героев, или жизнь, посвященная ограниченным чувственным и материалистическим занятиям. Все три позиции и его колебания между ними подробно задокументированы в его нехудожественных трудах, а мир его художественных произведений изображает реальность, в которой возможны все три вывода.
Он не настаивает на правоте ни одного из них. Невозможно определить, являются ли религиозные переживания его персонажей просто проекциями их собственных идеалов, выраженными в культурно доступных образах, или же они отражают реальность, которая в конечном счете ускользает от определения, но которую люди постоянно пытаются уловить и передать через такие образы. Удивительно то, что образы, которые он перечисляет, так разнообразны и так слабо связаны с православной традицией. Их можно трактовать тем или иным способом.
Помимо драматизации этих основных вопросов Достоевский не упускает возможности показать читателю, что религиозные переживания принимают самые разные формы, и некоторые из них имеют гораздо большую ценность для целей человеческой самореализации, чем другие. Не только атеистический нигилизм, но и некоторые формы религии могут быть разрушительны для человеческой реализации, и такие переживания, кажется, приходят к людям, изначально психологически надломленным, неадекватным или неспособным уловить разницу между буквализмом и поэтической интерпретацией религиозных образов и нарративов. В «Братьях Карамазовых» Достоевский фактически помещает множество таких личностей в пределы монастыря, того самого учреждения, историческая судьба которого, по его собственному убеждению, заключалась в сохранении драгоценного образа Христа. Других неадекватных персонажей, похоже, само посещение монастыря спровоцировало на то, чтобы открыто изложить свои взгляды. Таким образом, даже самые священные институты церкви не застрахованы, более того, они, похоже, таят в себе и даже провоцируют раскрытие некоторых из самых негативных аспектов духовности. Это одна из самых выдающихся черт изображения религиозного опыта и практики Достоевским: он не только противопоставляет их сильным выражениям антирелигиозной мысли и практики, но и обнажает их собственные слабости; причем делает он это не только по отношению к тем формам христианства, принципиальным противником которых он был, ибо считал их вырожденными, но и по отношению к самому православию.
Я использовал то, что назвал моделью Эпштейна, в качестве инструмента для объяснения взаимосвязи этих разновидностей религиозного опыта в тексте Достоевского. Некоторых читателей все еще может беспокоить мысль о том, что модель Эпштейна сама по себе не поддается проверке и может быть искажением реальных исторических процессов. Действительно, может. Мы можем судить о ней только по ее эффективности в прояснении таких процессов. Вот почему, несмотря на искушение отказаться от нее из боязни вызвать подобные возражения, я, тем не менее, упорствовал в ней. В конце концов, для меня не имеет значения, корректно или нет возводить драматические противопоставления нерациональной религиозной веры формам нигилистического атеизма в России к традиции апофатического богословия. Важно то, проливает ли эта модель свет на динамическую структуру религиозного опыта в произведениях Достоевского. Я полагаю и утверждаю, что это так.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.