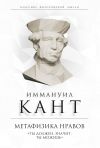Текст книги "Кант. Биография"
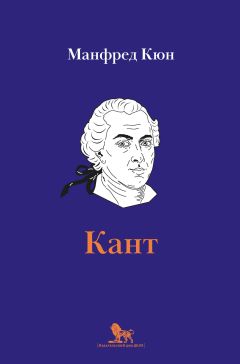
Автор книги: Манфред Кюн
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Вольсон, кажется, живет очень счастливо. Однажды я был с ним в саду Шульца, где нашел магистра Канта, господина Фрейтага и профессора Кипке. Последний теперь живет в их доме и у него собственное хозяйство, благодаря которому он сильно набрал вес. Здесь говорят о рекомендации, которую он дал служанке и в которой всячески ее хвалил, но в конце отметил, что она obstinata и vo-luptuosa. Тем не менее, нужно представить себе его акцент и выражение лица, чтобы понять, что смешного в тех историях, которые о нем рассказывают[431]431
Hamann, Briefwechsel, I, p. 226.
[Закрыть].
По меньшей мере поначалу Кипке, «острый и часто сатирический судья искусств» придавал большое значение элегантности[432]432
Формулировка взята из Stark, “Kants Kollegen.”
[Закрыть]. С 1755 по 1777 год он был государственным инспектором Кёнигсбергской синагоги. Задачей инспектора было следить, чтобы фраза «ибо они преклоняются суете и ничтожеству, и молятся богу, который не в состоянии помочь» в молитве, которую читали в конце каждой службы, не произносилась. Утверждалось, что речь идет о христианах. У Кипке было собственное закрепленное за ним место в синагоге, и он получал жалование в сотню талеров за свою службу[433]433
Ср.: Alexander Altmann, Moses Mendelssohn: A Biographical Study (Alabama: University of Alabama Press, 1973), p. 307–309. О том, события развивались дальше, см. также с. 302–303 данной книги.
[Закрыть].
Функ, доктор юриспруденции и младший адвокат в суде, был еще более близким другом Канта, чем Кипке. «С ним он действительно подружился»[434]434
Боровский также сказал, что «из всех его академических коллег Функ был ему особенно дорог» (см.: Reicke, Kantiana, 31).
[Закрыть]. «Больше всего он общался с ним» [435]435
Ванновский, цит. по: Reicke, Kantiana, p. 39; он упомянул Кипке как второго друга Канта, а также Лилиенталя – как человека, которого Кант уважал, «как бы ни был он несогласен с его взглядами».
[Закрыть] . Боровский рассказывает интересную историю, которая, вероятно, произошла во время каникул между зимним семестром 1755/56 года и летним семестром 1756 года:
Однажды, в первые годы его преподавания, ранним утром мы пошли к нему [Канту] с доктором Функом. Тем утром один студент обещал зайти и заплатить за лекцию. Кант утверждал, что ему на самом деле не нужны деньги. И все же каждые пятнадцать минут возвращался к мысли, что молодого человека все еще нет. Через несколько дней тот пришел. Кант был так разочарован, что когда студент спросил, может ли он быть одним из оппонентов Канта на предстоящей защите, он отказал ему, вспылив: «Вы, может, не сдержите своего слова и вообще не придете на защиту, и таким образом все испортите!»[436]436
Borowski, Leben, p. 59.
[Закрыть]
Защита, о которой идет речь, была защитой «Физической монадологии» Канта 21 апреля 1756 года, где Боровский был одним из оппонентов[437]437
Я благодарен Вернеру Штарку за эту информацию.
[Закрыть].
Функ был невероятно интересным персонажем, он вел, если можно так выразиться, вольную жизнь. Также он читал лекции по юриспруденции. Гиппель, который учился у него в соответствующий период, признавался, что научился у него большему, чем у более титулованных преподавателей:
Лишь потому, что ему приходилось жить только на свои лекции, он был, несомненно, лучшим из всех преподавателей (магистров). Даже в то время мне казалось, что господа, занимающие какие-то должности на стороне (Nebenstellen), как будто завели любовницу, а то и нескольких, помимо законной жены. Мой добрый Функ, женившийся на вдове профессора Кнутцена, очень известного в свое время, был не без скамейки запасных возле супружеского ложа, но его лекции были столь же целомудренны, как постель священнослужителя[438]438
Th. G. v. Hippel, Sämmtliche Werke, 14 vols., ed. Theodor Gottlieb von Hippel (Berlin: Reimer, 1828-39; reprint de Gruyter, 1978), XII, p. 30–31.
[Закрыть].
Очевидно, Функ был популярен не только среди студентов, но и «у дам». В этом он заметно отличался от первого мужа своей жены, жившего, как говорят, жизнью «полного педанта»[439]439
Флотвел пишет 29 января 1751 года, что Кнутцен унаследовал сначала 10000 талеров, а затем еще 15000 талеров, «и все же этот философ живет в плохом настроении (misvergnügt), ни с кем не общаясь, как полный педант». Через три дня после того, как Флотвел это написал, Кнутцен умер.
[Закрыть].
У Канта и его друзей были разнообразные интересы, и круги, в которых они вращались, не были ни кругами пиетистов, ни даже кругами более консервативных вольфианцев. Не только их взгляды, но и сами их жизни были менее ограниченными. В те годы «Кант не должен был соблюдать строгие диетические правила и мог многое делать просто для удовольствия»[440]440
Jachmann, Kant, p. 191; он неопределенно говорит о «молодых годах» Канта и добавляет, что «Кант, как проницательный наблюдатель самого себя, изменил свой образ жизни в соответствии с годами и обстоятельствами».
[Закрыть]. Следующие несколько лет усилили эту тенденцию.
Русская оккупация (1758–1762): «Человек, который истину любит так же сильно, как и тон хорошего общества»
И хотя в Кёнигсберге было относительно тихо, в это время шла война. 29 августа 1756 года Фридрих вошел в Саксонию с армией в 61 000 человек. Последовавшая Семилетняя война дорого стоила Пруссии. Когда прусская армия потерпела от русских поражение при Гросс-Егерсдорфе, пришлось сдать Кёнигсберг. К счастью, в самом Кёнигсберге сражения не проходили. 22 января 1758 года под звон колоколов всех церквей русский генерал Виллим Фермор вошел в Кёнигсберг и занял дворец, который незадолго до этого покинул прусский фельдмаршал. Прусское правительство города вместе с представителями знати и народа вручили генералу ключи от города. Так началась пятилетняя русская оккупация[441]441
Пруссак фон Валленродт перенял управление Кёнигсбергом 6 августа 1762 года.
[Закрыть]. Вскоре после этого все официальные лица должны были присягнуть на верность императрице Елизавете. Были введены русские деньги и праздники, и в городе назначили русского губернатора.
Русские наткнулись на некоторое сопротивление, по большей части со стороны священников. Те были противниками не только частых браков между русскими и кёнигсберженками (что обычно означало принятие ими православия), но и самого образа жизни русских. Любая русская победа требовала проведения службы в ознаменование и празднование этого события. Один из самых морально строгих священников, проповедник Замковой церкви (Schloßkirche) Даниель Генрих Арнольдт (1706–1775), однажды прочитал проповедь на строки из Книги пророка Михея 7:8: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Его обвинили в клевете на Ее Величество и пригрозили изгнанием. Хотя он обещал отказаться от этих слов, ему не пришлось этого делать, потому что во время назначенной службы несколько студентов устроили панику, закричав: «Пожар!» в нужный момент. Происходили и другие инциденты. Директор Королевского немецкого общества Георг Кристоф Писански (1725–1790) забыл убрать слово «Королевское» с двери конференц-зала. Общество запретили, и даже библиотеку общества выселили из публичного здания. Но в целом мало что изменилось[442]442
Pi s an s ki, Entwurf einerpreussischen Literärgeschichte, p. xi.
[Закрыть]. Прусские чиновники продолжали делать то же, что и раньше, и все получали то же самое жалованье. Русские особенно любили университет. Армейские офицеры ходили на лекции, а преподавателей приглашали на официальные приемы и балы, на которые их раньше не допускали. В целом, русская оккупация хорошо сказалась на Кёнигсберге[443]443
Ср.: Stavenhagen, Kant und Königsberg, p. 14.
[Закрыть]. Одни преподаватели держались подальше от русских, а другие с ними подружились. Кант относился к последним. Он никогда не опускался до подхалимажа, как один из преподавателей поэзии, Ватсон, но он ладил с ними.
Русские внесли вклад в изменение культурного климата Кёнигсберга. Было больше денег, их больше тратили. Это признает один из самых близких знакомых Канта, Шеффнер, говоря: «Я отсчитываю подлинное начало роскошной жизни в Пруссии со времени русской оккупации». В Кёнигсберге вдруг стала процветать светская жизнь. Торговцы, разбогатевшие на поставках русской армии, давали большие балы, и Кёнигсберг «стал оживленным (zeitvertreibender) местом»[444]444
Scheffner, Mein Leben, p. 67.
[Закрыть].
Для некоторых русская оккупация означала освобождение от старых предрассудков и обычаев. Русские ценили все «красивое» и «хорошие манеры». Резкая разница между знатью и простолюдинами смягчилась. Французская кухня заменила более традиционную в домах состоятельных людей. Русские кавалеры изменили стиль общения, и галантность стала обычным делом. В моду вошло пить пунш. Обеды, балы-маскарады и другие развлечения, почти неизвестные в Кёнигсберге и не одобряемые его религиозными лидерами, проходили все чаще и чаще. Общество «гуманизировалось»[445]445
Scheffner, Mein Leben, p. 67.
[Закрыть]. Кто-то, конечно, видел в этой «гуманизации» значительный упадок нравов, но другие рассматривали ее как освобождение. Гиппель говорил о Seelenmanumission, освобождении души от рабства, которое навсегда изменило его отношение к жизни. Он бросил богословие и начал управленческую карьеру[446]446
Stavenhagen, Kant und Königsberg, p. 26.
[Закрыть]. На многих других интеллектуалов оказал такое же влияние новый, более свободный и более светский образ жизни, воцарившийся в Кёнигсберге.
Кант выиграл от этой новой ситуации. Во-первых, его финансовое положение значительно улучшилось в те годы. Он не только учил многих офицеров на своих лекциях, особенно по математике, но и давал им частные уроки (или privatissima), за которые, как он сам говорил, очень хорошо платил[447]447
Ванновский, согласно Malter, Kant in Rede und Gespräch, p. 48; он добавляет, что Кант уделял внимание фортификации, военной архитектуре и пиротехнике.
[Закрыть]. Как бы в награду его часто приглашали на обеды. Во-вторых, он также наслаждался на многих вечеринках компанией русских офицеров, успешных банкиров, зажиточных купцов, дворян и женщин, и особенно кругом друзей семьи графа Кейзерлинга. Последний, предвидя неприятности с русскими, переехал из Кёнигсберга в свое имение в некотором отдалении от города. Однако, как оказалось, русские были больше заинтересованы в том, чтобы раздавать комплименты прекрасной графине, кантовскому «идеалу женщины», и посещать их балы, чем создавать для них проблемы.
У Канта установились особые отношения с Кейзерлингами. Его попросили приезжать в имение и учить одного из сыновей[448]448
Более подробную информацию см. особенно: в работе Wilhelm Salewski, “Kant’s Idealbild einer Frau. Versuch einer Biographie der Gräfin Caroline Charlotte Amalie von Keyserlingk, geb. Gräfin Truchsess von Waldburg (1727–1791)”, Jahrbuch der Albertus Universität zu Königsberg 26/27 (1986), p. 27–62.
[Закрыть]. Его забирал конный экипаж, и Краус сообщает, что на обратном пути у него было время на раздумья о различии между его собственным начальным образованием и образованием знатного человека. Он знал и других офицеров. Много позже, в 1789 году, он получил письмо от некоего Франца, барона фон Диллона, плененного австрийского офицера, который оставался в Кёнигсберге в качестве военнопленного по меньшей мере до 1762 года. Тот писал:
Какая счастливая случайность, я только что увидел Ваше имя в нашей газете и с особым удовольствием узнал, что Вы еще живы и пользуетесь благосклонностью Вашего короля. Я с радостью оглядываюсь на прошлое. Воспоминание о множестве очень приятных часов, проведенных в Вашем обществе, доставило мне истинное наслаждение. У господ Г. и К. и даже в наших клубах я помню тысячи острот, которые, не касаясь ученых вопросов, были очень полезны молодому человеку (каким я тогда был). Коротко говоря, доброжелательность и дружелюбие, с которыми ко мне относились, делают Кёнигсберг для меня ценным и незабываемым[449]449
Ak 11, p.56. События, о которых он говорит, должно быть, произошли в 1762 году. Ср.: Malter, Kant in Rede und Gespräch, p. 56–57.
[Закрыть].
Кант свободно вращался в высшем обществе Кёнигсберга: обществе благородных офицеров, богатых купцов и двора при графе.
Кейзерлинги питали огромный интерес к культуре, особенно к музыке, а в их дворце была самая красивая мебель, фарфор и картины. Графиня интересовалась и философией, и когда-то даже перевела Вольфа на французский, что в значительной степени объясняет, почему Канта так быстро оценили и стали постоянно приглашать на обеды. На них Кант почти всегда занимал почетное место справа от графини[450]450
Если только этикет не требовал, чтобы его занимал гость более высокого социального положения.
[Закрыть]. Связь Канта с этой семьей продолжалась больше тридцати лет. Он испытывал огромное уважение к графине, которая была на три года его младше. После ее смерти в 1791 году в примечании к «Антропологии» он назвал ее «украшением своего пола». Между ними, конечно, никогда не было ничего романтического. Социальная пропасть между Кантом и графиней была слишком велика, чтобы даже подумать об этом. Однако графиня представлялась Канту тем типом женщины, на которой он вполне мог бы захотеть жениться, если бы это вообще было возможно.
В то время Кант стал образцом элегантности, блистал на светских мероприятиях умом и остроумием. Он стал «элегантным магистром» (ein eleganter Magister), человеком, который очень заботился о своем внешнем виде и чья максима заключалась в том, что «лучше быть дураком модным, чем дураком не модным». Наш «долг – не производить неприятного или даже необычного впечатления на других»[451]451
Borowski, Leben, p. 75; Боровский также сообщает, что Кант пытался убедить своих учеников, что никогда не следует одеваться совсем уж не по моде.
[Закрыть]. В 1791 году датский поэт находил «отрадным, что Кант предпочитает несколько преувеличенную элегантность (Galanterie) небрежности в одежде»[452]452
Karl August Varnhagen von Ense, Denkwürdigkeiten des Philosophen und Arztes Johann Benjamin Erhard, Ausgewählte Schriften, 2. Abt., Biographische Denkmale, 9.-10. Tl. (Leipzig, 1874), p. 322.
[Закрыть]. Он всегда следовал «максиме», что цвет платья должен следовать природным цветам. «Природа не создает ничего, что не радовало бы глаз; цвета, которые она соединяет, всегда точно соответствуют друг другу». Соответственно, коричневый сюртук требовал желтой жилетки. Позже Кант предпочитал смешанные (meliert) цвета. В рассматриваемый период он был больше склонен к расточительности, носил сюртуки с золотой оторочкой и церемониальную шпагу[453]453
См.: Borowski, Leben, p.75; см. также: Jachmann, Kant, p.172. Тогда еще шпага не была чем-то необычным. Кант перестал ее носить, когда это сделали и купцы.
[Закрыть]. Он выглядел совсем не так, как его кёнигсбергские коллеги, тяготеющие к духовенству и пиетизму, – те ходили скромнее, в черном или, самое смелое, в сером[454]454
Хорошее описание одежды, которую носили священнослужители, см. в: Friedrich Nicolai, SebaldusNothanker (Berlin, 1773), книга 4, раздел 8. См. недавнее издание: ed. Bernd Witte (Stuttgart: Reclam, 1991), p. 213–221. См. также: книгу 4, раздел 1, описание платья типичного пиетиста (p.161). См. также: Fragmente aus Kants Leben, p. 91f: «В первые годы его преподавания, когда богословские споры еще входили в ежедневную повестку, жил некий С. по имени которого один из классов [студентов-]теологов назывался С. ным. Помимо тихой пиетистской жизни, они отличались тем, что носили простую одежду и тем самым хотели считаться детьми правильной веры».
[Закрыть].
Кант был очень привлекателен внешне: «Волосы у него были светлые, цвет лица свежий, а на щеках даже в старости был виден здоровый румянец». Его взгляд был особенно пленителен. Как воскликнул один современник: «Но где мне взять слова, чтобы описать вам его взгляд! Он будто соткан из небесного эфира, и сквозь него зримо сияет глубокий взор ума, огненный луч которого немного скрыт легким облаком. Невозможно описать завораживающее действие его взгляда и мои чувства, когда Кант, сидя напротив меня, вдруг поднял на меня свои опущенные глаза. Мне тогда казалось, что я смотрю сквозь этот голубой эфирный огонь в святая святых Минервы»[455]455
Jachmann, Kant, p. 189; ср.: Borowski, Leben, p. 72.
[Закрыть].
Однако при росте 5 футов и 2 дюйма (1 метр 57 сантиметров) и худощавом телосложении он не был атлетом и не выглядел внушительно. Грудь его была несколько впалой, что затрудняло дыхание, и он не переносил тяжелых физических нагрузок. Временами он жаловался, что ему не хватает воздуха. Хрупкий и чувствительный, он был склонен к аллергическим реакциям. Свеженапечатанные газеты заставляли его чихать. Соответственно, если он верховенствовал в разговоре или в обществе, то не благодаря своим физическим данным, а благодаря обаянию и остроумию. Во многом он воплощал идеал интеллектуала и литератора, сформированный в период рококо в Германии и Франции[456]456
Его одежда, безусловно, была скроена в соответствии с этим идеалом: «типичный наряд мужчины включал бриджи до колен, куртку с вышитым жилетом и рубашку, украшенную шейным платком или краватом, предком современного галстука. На протяжении всего столетия мужчины носили треуголку – низкую шляпу с загнутыми вверх полями. К 1790 году были распространены еще две шляпы: двурогая и цилиндр, похожий на пуританскую шляпу XVII века». Биографы Канта старательно подчеркивают, что Кант никогда не поменял шляпу-треуголку на какую-либо другую. Когда более ортодоксальные мыслители презрительно характеризовали ранние философские теории Канта как Tändeley (безделки, пустые развлечения), они, в сущности, описывали Канта как принадлежащего к традиции рококо.
[Закрыть]. Поэтому вполне вероятно, что Кант действительно советовал молодому Гердеру «не чахнуть слишком много над книгами, а скорее следовать его [Канта] собственному примеру»[457]457
K. W. Böttiger (ed.), Literarische Zustände und Zeitgenossen в книге Schilderungen aus Karl Aug. Böttiger’s handschriftlichen Nachlasse (Leipzig, 1838), I, p. 133. Этот совет был высказан позднее, чем обсуждаемый период (1764 год), но это не делает его тут менее релевантным.
[Закрыть].
Сведения о том, насколько важна была элегантность в Кёнигсберге в то время, а особенно для Канта, можно также почерпнуть у Боровского, который сообщает, что на одном из занятий по диспуту, которые вел Кант, студент выдвинул тезис, «что общению вообще и особенно среди студентов должна быть присуща грация (Grazie)». Кант не отверг этот тезис, но пояснил, что распространенное немецкое понятие Höflichkeit, или «вежливость», на самом деле означает «придворные» или «благородные» манеры и, таким образом, связано с определенным сословием. Вместо того, утверждал он, нужно стремиться к определенной «учтивости (Urbanität)»[458]458
Borowski, Leben, p. 79 (Malter, Kant in Rede und Gespräch, p. 46).
[Закрыть]. Другими словами, хотя Кант и «общался с людьми всех сословий и завоевывал подлинное доверие и дружбу», он никогда не забывал о своем происхождений[459]459
Мортцфельд, цит. по: Malter, Kant in Rede und Gespräch, p. 75.
[Закрыть]. Таким образом, республиканские идеалы, которые он позднее сформулировал в своих политических трудах, были укоренены в его личной жизни.
Тема элегантности в XVIII веке была неизбежно связана с отношениями между полами. Часто считают, что Кант, который никогда не был женат и который – насколько нам известно – никогда не занимался сексом, почти не общался с женщинами, но это не так. Вдобавок к тому, что он был любимчиком графини Кейзерлинг, Кант общался и с другими женщинами, которые помнили о нем долгое время после расставания. Самой первой была, пожалуй, Шарлотта Амалия из Клингспора. В 1772 году она писала Канту, что убеждена в том, что он по-прежнему ее друг, «как Вы были тогда», то есть во второй половине пятидесятых годов, и заверила его, что извлекла пользу из его «благожелательного наставления», что «в философии истина – это все, и что философ обладает чистой верой». Она поблагодарила его и за то, что он послал ей когда-то «Воспоминания о подруге» (Erinnerungen an eine Freundin) Кристофа Мартина Виланда (1733–1813), и за то, что пытался воспитать ее, еще молодую женщину, при помощи приятной беседы. То, что Кант прислал ей это стихотворение Виланда, дает нам по крайней мере некоторое представление о его отношении к ней[460]460
Стихотворение было опубликовано в 1754 году. См.: C.M.Wieland, Sämtliche Werke, 14 vols. (Hamburg: Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, 1984; reprint of Leipzig: Göschen, 1794–1811), XIV, p. 4–18.
[Закрыть]. Не менее важно и то, что это стихотворение именно Виланда, чьи стихи нехарактерно остроумны, ясны и легки для немца любого века. Это стихотворение относится к тем, что несут в себе восторженную и сентиментальную платоническую мораль, подчеркивающую скорее воздержание, чем удовлетворение. Сам Виланд позже считал, что такого рода экзальтированное воздержание навредило ему больше, чем могла навредить самая грубая форма разврата. Как к этому относился Кант, мы можем только догадываться. Его утонченное поведение наводит на мысль о чувствах, подобных тем, которые выражал ранний Виланд. Самое важное напоминание в стихотворении подруге – помнить и созерцать «святую мысль», ведь она несет в себе «образ божества: разум» и «высшую силу познания истины».
Когда Гейльсберг говорит, что Кант «не был большим поклонником (Verehrer) женского пола», он не имеет в виду, что Кант смотрел на женщин свысока или что он был женоненавистником, а скорее, что сексуальные похождения не были важны для него как средство самоутверждения. «Он считал, что брак – это желание и необходимость», но никогда не делал последнего шага. Однажды к родственникам откуда-то приехала «хорошо воспитанная и красивая вдова». Кант не отрицал, что с такой женщиной он с радостью разделил бы жизнь; но «он всё подсчитывал доходы и расходы и откладывал решение изо дня в день»[461]461
Гейльсберг, цит. по: Malter, Kant in Rede und Gespräch, p. 2 2.
[Закрыть]. Прекрасная вдова уехала к другим родственникам и вышла замуж там. В другой раз его «тронула молодая вестфальская девушка», сопровождавшая одну знатную даму в Кёнигсберг. Ему было «приятно находиться в ее обществе, и он часто давал об этом знать», но он снова ждал слишком долго. Он все еще думал о предложении руки и сердца, как она уже добралась до вестфальской границы[462]462
Malter, Kant in Rede und Gespräch, p. 22.
[Закрыть].
После этого он никогда больше не думал о женитьбе. Он не ценил и предложений в этом роде от друзей, предпочитая не идти на вечеринку, если была вероятность, что там его ждут увещевания в этом направлении. В ранние годы его преподавания жениться действительно было трудно по финансовым соображениям. Сам он, как говорят, язвительно заметил, что когда женитьба могла быть ему полезна, он не мог себе этого позволить, а когда он мог себе это позволить, она уже ничего не могла ему принести. В этом он был не одинок. Многим ученым в Германии XVIII века пришлось испытать ту же участь и жить безбрачной жизнью просто потому, что они не могли содержать жену и детей. Некоторые находили богатых вдов, которые могли их поддержать, но это были исключения.
Вопрос о том, понимал ли Кант женщин на самом деле, остается открытым. Вполне вероятно, что с возрастом он понимал их все меньше и меньше. Конечно, верно, что его взгляды на социальную и политическую роль женщин были по большей части традиционными, но это не до конца так. На Канта повлияли и более прогрессивные взгляды, а он, в свою очередь, повлиял на них[463]463
Robin Schott, Cognition and Eros: A Critique of the Kantian Paradigm (Boston: Beacon Press, 1988); Шотт критикует Канта за взгляды, которых тот не придерживался. Урсула Яух положительно оценивает некоторые аспекты взглядов Канта, в то же время довольно резко критикуя его взгляды на брак (Ursula Pia Jauch, Immanuel Kant zur Geschlechterdifferenz. Aufklärerische und bürgerliche Geschlechtervormundschaft (Vienna: Passagen Verlag, 1988).
[Закрыть]. Учитывая, что во времена Канта не было студенток и что он встречал женщин только в четко очерченных и в основном очень формальных социальных обстоятельствах, вряд ли можно было ожидать большего.
Университетские дела шли своим чередом в годы русской оккупации. Когда в 1758 году умер Кипке и его должность ординарного профессора логики и метафизики освободилась, Кант подал на нее заявление – и снова безуспешно. Вместо него должность отдали Буку, одному из любимых учеников Кнутцена, который преподавал дольше и, возможно, заслуживал ее в большей степени. Заявки подали Бук, Флотвел, Хан, Кант, Иоганн Тизен и Ватсон, но в Петербург передали только имена Бука и Канта. Бука сначала одобрили как самого подходящего кандидата, но из-за возражений Шульца, который был ректором университета в тот год, Канта и Бука обоих рекомендовали как достаточно компетентных[464]464
См.: Ak 10, p. 4–6, и Ak 13, p. 4–5.
[Закрыть]. Шульц поддержал Канта только после встречи с ним, во время которой спросил «торжественно: Вы действительно боитесь Бога всем сердцем?»[465]465
Borowski, Leben, p. 42.
[Закрыть] Ответ его, должно быть, удовлетворил, хотя кажется, что Шульц не столько благоволил Канту, сколько не одобрял большинство других кандидатов. В самом деле, можно задаться вопросом, действительно ли он хотел назначения Канта, который казался ему гораздо слабее Бука, или он хотел, чтобы Бук выглядел сильнее на кантовском фоне, выдвигая на должность их обоих, а не одного только Бука. Как бы то ни было, некоторые из других претендентов, такие как Флотвел и Хан, не были приемлемы для Шульца ни при каких обстоятельствах. Академический успех все еще ускользал от Канта.
Кант и Гаман: «Либо очень близкие, либо очень далекие»
Хоть Кант и не был революционером в вопросах гендера или пола, он был нонконформистом в вопросах религии. Это снова показывают события 1759 года. Гаман, входивший в круг знакомых Канта по крайней мере с 1748 года и близкий к нескольким кантовским друзьям, уехал из Кёнигсберга в 1752 году. Проработав несколько лет домашним учителем и набрав немалые долги, он поступил на службу в дом купца Беренса в Риге. К тому времени за годы учебы в Кёнигсбергском университете он успел стать одним из ближайших друзей Иоганна Кристофа Беренса (1729–1792). В 1757 году его по службе отправили в Лондон, где его подстерегали сплошные неудачи и где он растратил еще больше денег и жил чрезвычайно беспорядочной жизнью. Он даже близко сошелся с членами лондонского гомосексуального сообщества. Наконец, охваченный чувством вины, он утратил все свои прежние нравственные и религиозные убеждения. Идеалы Просвещения оказали на него в свое время сильное влияние, но теперь Гаман постепенно, борясь с собой, возвращался к вере в то, что Христос и церковь – единственное спасение не только для него самого, но и для всех. Это «обращение» часто описывается как пиетистский прорыв (Durchbruch) и имеет с ним некоторое сходство. Во многих отношениях, однако, это было скорее возвращение к ортодоксальной лютеранской вере, в которой Писание считается единственным авторитетом, а надежда на спасение исходит только от веры (sola scriptura и solafide). Когда Гаман в марте 1759 года вернулся в Кёнигсберг, после того как его «на удивление хорошо» приняли Беренсы в Риге (и после неудачного предложения руки и сердца их дочери), он был уже другим человеком. Он отказался от идей Просвещения, которые разделял с Беренсом, Линднером и другими, включая Канта, и вступил на путь самого бескомпромиссного фундаментализма, так что старые друзья теперь его не узнавали. Когда летом 1759 года Беренс приехал в Кёнигсберг, он подговорил Канта убедить Гамана отказаться от того, что в глазах мира могло только выглядеть сущей глупостью. 12 июля 1759 года Гаман писал своему брату: «В начале недели я был в компании господина Б. и магистра Канта в „Виндмюле“, где мы вместе обедали в тамошнем заведении. Скажу по секрету, наше общение лишено прежнего доверия, и нам пришлось прикладывать большие усилия, чтобы никак этого не выдать»[466]466
Hamann, Briefwechsel, I, p.362. Ср.: Johann Georg Hamann, Hamann’s Socratic Memorabilia, translated with commentary by James C. O’Flanerty (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1967), p. 56, и Kant, Correspondence, tr. Zweig, p. 35.
[Закрыть]. Позже в том же месяце Беренс и Кант пришли к Гаману и попытались убедить его перевести несколько статей из французской «Энциклопедии», но безуспешно. Вместо этого Гаман выпалил письмо Канту, которое начиналось так:
Высокочтимый господин магистр,
я не ставлю Вам в вину того, что Вы являетесь моим соперником и пребываете неделями в обществе Вашего нового друга, тогда как он, как мираж, но более как ловкий лазутчик, пару раз лишь на короткое время показался передо мной. Обиду эту я Вам прощу, Вашему другу, однако, я не намерен прощать того, что он сам осмелился ввести Вас в интимность моего дела. Если в этой ситуации Вы являетесь Сократом и если поэтому Ваш друг хочет быть Алкивиадом, то Вам, как известно, для уроков мудрости необходим голос гения. И эта роль вполне подобает мне[467]467
“Письмо Гамана к Канту от 27 июня 1759 года”, Кантовский сборник 1 (29), 2009, с. 96. Hamann, Briefwechsel, I, p. 373.
[Закрыть].
Далее в письме Гаман пытался убедить Беренса и Канта, что всякая последовательная философия должна вести к христианской вере, обращаясь в этом за поддержкой к Юму. Философия может привести только к скептицизму, а скептицизм ведет к вере. Разум был дан нам не для того, чтобы сделать нас «мудрыми», а чтобы мы осознали нашу «глупость и невежество» во всех вопросах. Юм утверждал, что мы не можем «съесть яйцо или выпить стакан воды» в отсутствие веры. Поэтому философия ведет к фидеизму.
Гаман употребляет здесь немецкое слово Glaube, а Glaube означает одновременно belief («вера» в смысле убежденности) и faith («вера» в религиозном смысле)[468]468
Belief (вера в смысле убежденности, установки на то, что нечто верно, и т. п.) – ключевой термин, который использовал Юм в своих работах. Этот термин может использоваться и для религиозных убеждений (religious beliefs), но отличается от веры в более узком религиозном смысле как веры в Бога (faith). – Прим. ред.
[Закрыть]. Изобретательно (или извращенно) играя на этой двусмысленности, Гаман задает вопрос: «Если Юму для еды и питья нужна вера, тогда почему он отвергает свой собственный принцип, рассуждая о более возвышенных вещах, чем данные нам в ощущениях еда и питье?»[469]469
“Письмо Гамана к Канту от 27 июня 1759 года”, с.103; Kant, Correspondence, tr. Zweig, p. 41–42.
[Закрыть] Позже он сказал, что был «полон Юма», когда это писал, и что именно Юм ему это показал. Это упоминание Юма с фидеистическим заключением было также прямой атакой на Канта, лекции которого как раз в то время получили от Юма новый импульс, но в совершенно ином направлении.
После этого эпизода Гаман издал в 1759 году работу, озаглавленную «Сократические достопримечательности»[470]470
Полное название: «Сократические достопримечательности, собранные на скуку публики любителем скуки. С двойным посвящением никому и двум» (Амстердам, 1759).
[Закрыть]. В ней он, помимо прочего, стремился показать, что Беренс и Кант, как и все их современники, ошибались, пытаясь дать рациональное обоснование опыту. Возвращаясь заново к аргументам из своего письма, он утверждал, что опыт подразумевает веру уже на самом базовом его уровне. «Наше собственное существование и существование всех вещей вне нас должно быть предметом веры, и его нельзя определить как-либо иначе», – утверждал он, и поскольку «существуют доказательства истины, имеющие столь же малую ценность, как и применение, на которое годны сами эти истины, то в самом деле можно верить в доказательство некоторого утверждения, не одобряя само это утверждение»[471]471
Hamann, Socratic Memorabilia, p. 167.
[Закрыть].
Гаман считал, что любое последовательное прочтение Юма приводит к тому, чтобы рассматривать его философию как защиту фидеизма[472]472
Заключительный абзац 10-го раздела «Исследования о человеческом познании» Юма действительно может предложить такое прочтение.
[Закрыть]. Такая позиция небезосновательна. Юм считал, например, что «чудеса не только входили вначале в состав христианской религии», но «и теперь ни один разумный человек не может верить в последнюю без помощи чуда. Один разум недостаточен для того, чтобы убедить нас в истинности христианской религии, и всякий, кого побуждает к признанию ее вера, переживает в себе самом непрерывное чудо…»[473]473
Давид Юм, “Исследование о человеческом познании”, в: Давид Юм, Сочинения: в 2 т., т. 2 (Москва: Мысль, 1996), с. 114. Есть исторические основания полагать, что Юм действительно оказал большое влияние на эту кьеркегорианскую концепцию, по крайней мере косвенно. Его рассуждения о вере (belief) в «Трактате о человеческой природе» и в «Исследовании» повлияли на Гамана и Якоби в их концепции веры (faith). В особенности Якоби любил говорить о salto mortale веры. Кьеркегор знал работы Гамана и Якоби. Подробнее об этом см.: Philip Merlan, “From Hume to Hamann,” The Personalist 32(1951), p. 11–18; Philip Merlan, “Hamann et les Dialogues de Hume,” Revue de Metaphysique 59 (1954), p. 285–289; Philip Merlan, “Kant, Hamann-Jacobi and Schelling on Hume,” Rivista critica di storiafilosofia 22 (1967), p. 343–351.
[Закрыть] Кажется, это хорошо суммирует то, о чем иногда говорилось как о «фидеизме Юма». Юм может рассматриваться – и действительно рассматривался – как принимающий ту точку зрения, что религиозные убеждения нельзя рационально оправдать и именно поэтому они требуют чего-то наподобие «прыжка веры». Таким образом, его критику рационалистической теологии можно считать чисто ортодоксальным протестантским учением. Юм сам спровоцировал такую реакцию, когда отметил:
Такой способ рассуждения тем более нравится мне, что он, как я думаю, может способствовать опровержению тех опасных друзей или тайных врагов христианской религии, которые пытаются защищать ее с помощью принципов человеческого разума. Наша святейшая религия основана на вере, а не на разуме, и подвергать ее испытанию, которого она не в состоянии выдержать, – значит ставить ее в опасное положение[474]474
Юм, “Исследование о человеческом познании”, с. 113. Позже Якоби использовал это высказывание Юма по максимуму во время так называемого спора о пантеизме (см. с. 416–420 данной книги).
[Закрыть].
Гаман считал, что Юм подорвал сами основы интеллектуализма и философии Просвещения и что именно поэтому он важен. Он видел в Юме скептика в традиции Бейля. Другие кёнигсбергские друзья Гамана и Канта, а именно Гиппель и Шеффнер, ценили Монтеня, Бейля и Юма именно по этим религиозным соображениям. Никто из них не видел противоречий между скептицизмом и религиозными убеждениями. Напротив, они рассматривали скептицизм как необходимую прелюдию к подлинной религиозной вере. Именно поэтому они считали, что Юм полностью совместим с традиционными религиозными убеждениями.
«Сократические достопримечательности», прославившие Гамана на всю Германию, были не единственным последствием этого эпизода. Гаман не отказался от прямого общения с Кантом. Позже в том же году он послал Канту серию писем, в которых критиковал идею Канта написать учебник по физике для детей и в то же время предлагал свою помощь в его написании[475]475
Форлендер и другие утверждают, что Кант попросил Гамана помочь ему написать эту книгу спустя некоторое время после встречи Беренса и Канта с Гаманом в доме последнего. Это кажется маловероятным. Кант, возможно, предложил такое сотрудничество на этой встрече в том же контексте, в котором он предложил Гаману частично перевести «Энциклопедию», и в качестве попытки перевербовать Гамана. Маловероятно, что он обратился к Гаману с этим позже. Во всяком случае, Линднер узнал о плане Канта через Беренса, как показывает письмо от 26 декабря (Ак 10, p. 25).
[Закрыть]. По всей видимости, Кант предложил ему написать такую книгу. Если бы она была когда-либо написана, она была бы – по крайней мере, отчасти – основана на кантовской «Всеобщей истории», хотя Кант мог бы также включить в нее некоторые идеи, выдвинутые в «Физической монадологии». Там, несомненно, предлагалось бы полностью механистическое объяснение мира в соответствии с ньютоновскими принципами и не содержалось бы библейского повествования о сотворении мира. Кант представил бы ему альтернативу и, какой бы в других отношениях ни была физика для детей, это была бы работа на службе у Просвещения. Гаман понял это и, соответственно, отверг саму идею. Кант не должен пытаться «извращать» детей таким образом:
Проповедовать ученым так же легко, как обманывать честных людей; так же нет никакой опасности и никакой ответственности, когда пишешь что-нибудь для ученых, поскольку большинство из них уже так заморочены, что никакой даже самый фантастический писатель уже не сможет заморочить их еще сильнее, крещеный философ должен знать, что для того, чтобы писать для детей, требуется большее, чем фонтенелевское остроумие и прельстительный стиль[476]476
Пер. цит. по: В.Х.Гильманов, Гаман и Кант: битва за чистый разум (Калининград: Издательство БФУ им. И.Канта, 2013), с. 52–53. Hamann, Briefwechsel, I, p. 445.
[Закрыть].
Он также указал, что Кант неправ, полагая, что академическому философу так уж легко взглянуть на вещи глазами ребенка.
Или вы просто доверяете детям больше, чем вашим взрослым слушателям, лишь с трудом поспевающим за быстротой ваших мыслей? Поелику кроме всего для вашего проекта необходимо превосходное знание детского мира, то самое, что невозможно получить ни в каких других мирах – ни в галантном, ни в академическом, то все происходящее представляется мне таким необыкновенно чудесным, что я из-за одной только склонности к чуду решился бы прокатиться на деревянной лошадке вашего проекта, хотя и рискую получить синяк под глазом[477]477
“Переписка Иммануила Канта и Иоганна Георга Гамана [Продолжение]”, Кантовский сборник 2 (29), 2009, с. 113; Hamann, Briefwechsel, I, p. 445.
[Закрыть].
Гаман настаивал на том, что учебник по физике для детей должен основываться на библейском рассказе о творении, и условием его помощи в написании такого учебника было обращение Канта в христианство гаманского толка. Таким образом, его предложение помощи не было искренним, это была своего рода расплата за то, что Кант пытался его перевербовать. Гаман также поддразнивал Канта идеей о том, что необходимо «быть как дети», то есть христианином. Он сам берет на себя в нескольких местах письма роль ребенка, прося Канта «пожалеть детей»[478]478
Большинство, да в общем-то и все кантоведы и исследователи Гамана, которых я знаю, принимают это письмо за чистую монету. См., например, Hans Graubner, “Physikotheologie und Kinderphysik. Kants und Hamanns gemeinsamer Plan einer Physik für Kinder in der physikotheologischen Tradition des 18. Jahrhunderts,” in Johann Georg Hamann und die Krise der Aufklärung: Acta des fünften Internationalen Hamann-Kolloquiums in Münster i. W (Frankfurt and Bern: Peter Lang, 1990), p. 117–145. Граубнер, как и большинство других исследователей, считает необходимым привести аргументы, которые делают такое сотрудничество Гамана и Канта «правдоподобным» (p. 125). Таких аргументов не требуется, ведь сотрудничества не было. Это была одна из шуток Гамана. Блюменберг правильно охарактеризовал этот эпизод как ein Paradestück der Komik. Но Блюменберг тоже не понял шутки. См.: Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt (Frankfurt: Suhrkamp, 1981), p. 191.
[Закрыть].
Неудивительно, что Кант не ответил. Однако Гамана смущало молчание Канта. Одна из причин этого связана с другим интересным событием в Кёнигсберге в 1759 году. Даниель Вейман (1732–1795), страстный поклонник Крузия, защитил 6 октября 1759 года диссертацию на тему de mundo non optimo, чтобы получить разрешение читать лекции в университете. Кант опубликовал объявление о своих лекциях 7 октября, назвав его «Опыт некоторых рассуждений об оптимизме». Интерес Канта к размышлениям на эту тему можно опознать уже в его черновиках к ответу на вопрос, сформулированный для конкурса Берлинской академии 1753 года[479]479
Ak 17, p. 229–239.
[Закрыть]. Непосредственным поводом для «Опыта об оптимизме» была диссертация Веймана. Изложив «в некоторой спешке» ряд замечаний, которые, как он утверждал, помогли бы прояснить спор о том, является ли этот мир лучшим из всех возможных миров, он, по сути, пошел в атаку на позицию Крузия, направленную против Лейбница, встав на сторону Мендельсона и Лессинга. Учение Лейбница о том, что Бог создал лучший из всех возможных миров, не было ни новым, ни нетрадиционным. Новым было то, как Лейбниц использовал его в предлагаемом им решении проблемы зла. Согласно Канту, использование этой идеи Лейбницем можно поставить под вопрос, но сама она имеет смысл. Действительно, «не всякое расхождение во мнениях обязывает нас дать подробные разъяснения. Если бы кто-либо стал утверждать, что высшая мудрость могла худшее предпочесть лучшему. то на этом не буду задерживаться. Философию весьма плохо применяют, если ею пользуются для того, чтобы извратить принципы здравого ума, и ей оказывают мало чести, если ее оружие считают нужным пустить в ход против подобных извращений»[480]480
Иммануил Кант, “Опыт некоторых рассуждений об оптимизме”, в: Кант, Собр. соч. 2, с. 11; Ak 2, p. 33.
[Закрыть]. Вместо этого Кант стремился доказать, что действительно существует возможный мир, лучше которого никакого нельзя помыслить. Он ни разу не упоминает Веймана, но всем в Кёнигсберге было ясно, кого он имеет в виду. В любом случае Вейман проглотил наживку и опубликовал ответ, который вышел всего через неделю[481]481
Ak 2, p. 461–462. Большинство исследователей считают, что Вейман неверно истолковывает намерения Канта. См. предисловие к Kant, Theoretical Philosophy, 1755–1770, tr. David Walford and Ralf Meerbote (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), p. liv-lvii. О том, что Вейман прекрасно понимал кантовские намерения, см.: Stark, “Kants Kollegen”.
[Закрыть]. Ответ вызвал некоторый шум. Кант предпочел смолчать. В письме Линднеру от 28 октября он излагал причины этого:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!