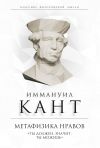Текст книги "Кант. Биография"
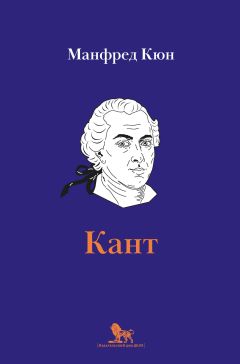
Автор книги: Манфред Кюн
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава 4
Палингенез и его последствия (1764–1769)
Кант в сорок: «Когда человек приобретает характер»?
22 апреля 1764 года Канту исполнилось сорок. Знаменательное событие – по крайней мере, сам Кант так считал. Согласно его психологической и антропологической теориям, сороковой год жизни крайне важен. Мы можем удовлетворительно применять разум, когда нам двадцать, но что касается «ума (умения использовать для достижения своих целей других людей)», мы достигаем зрелости «примерно к сорока»[585]585
Кант, “Антропология с прагматической точки зрения”, с. 226; Ak 7, p. 201.
[Закрыть]. Что еще важнее, Кант верил, что в сорок лет мы наконец обретаем характер.
Человек, сознающий характер в своем образе мыслей, не получил его от природы, а все время приобретает его. Можно даже считать, что утверждение характера, подобное своего рода возрождению, делает для человека незабываемыми известную торжественность обета, который он сам себе дает, и время, когда в нем произошло это преобразование и для него возникла как бы новая эпоха. – Воспитание, примеры и наставления вообще могут вызывать эту твердость и устойчивость в принципах не постепенно; они возникают как взрыв, сразу же следующий за отвращением к колеблющемуся состоянию, основанному на инстинкте. Быть может, немногие люди пытались совершить это преобразование до тридцати лет; еще меньше тех, кто прочно осуществил его до сорока лет. Стремиться стать лучшим человеком в отдельных проявлениях – тщетная попытка, ибо пока работают над одним впечатлением, гаснет другое; утверждение характера – это абсолютное единство внутреннего принципа образа жизни вообще[586]586
Кант, “Антропология с прагматической точки зрения”, с. 330; Ak 7, p. 294.
[Закрыть].
Таким образом, характер – это не то, с чем мы рождаемся на свет или что может с нами случиться. Это наше собственное творение. Мы создаем или присваиваем себе характер, и иметь хороший характер – высшее нравственное достижение.
Мы представляем моральную ценность лишь в той мере, в какой у нас есть характер. Наш долг – формировать характер в нравственном смысле. Моральная психология Канта – это еще и психология характера. В самом деле, именно на характере сосредотачивает он свое внимание. Что бы ни случилось в сорок, это влечет за собой глубокие моральные последствия:
Единственным доказательством, позволяющим человеку сознавать, что у него есть характер, может служить только внутренняя правдивость перед самим собой, а также в поведении по отношению к другим, возведенная в высшую максиму[587]587
Кант, “Антропология с прагматической точки зрения”, с. 331; Ak 7, p. 294–295; ср.: Ak 25.1 (Anthropologie Collins), p. 150.
[Закрыть].
Таким образом, судить о характере мы можем в первую очередь согласно максиме правдивости.
Кант предлагает множество вариаций на эту тему в лекциях по антропологии, утверждая, что только в сорок у нас начинает формироваться правильное представление о вещах, поскольку к сорока мы пережили различные жизненные ситуации. Раньше едва ли кто-то способен на верные суждения об истинной ценности вещей[588]588
Ak 25.1 (Anthropologie Friedländer), p. 629; см. также p. 353.
[Закрыть]. Также Кант подчеркивает, что сформировать характер можно только в том случае, если наша склонность интересоваться чем-либо достаточно сильна, но не настолько, чтобы превратиться в страсть. Все это, может быть, сложится к сорока годам. Характер требует зрелого рассудка. Любопытно, что Кант также считал, что именно в сорок сила памяти начинает ослабевать. Соответственно, к этому времени нужно успеть собрать всю пищу для размышлений. После сорока «мы не можем выучить чего-то нового, хотя можем расширить наши знания»[589]589
Ak 25.1 (Anthropologie Friedländer), p. 523.
[Закрыть]. Всего, что бы мы ни свершили после сорока в интеллектуальных вопросах, мы достигнем благодаря собранным прежде материалам и характерному суждению, которое формируется примерно к сорока годам. Это будет результатом наших знаний и нашего характера.
Характер построен на максимах. Но что такое максимы? В максимах Канта на самом деле по большей части нет ничего необычного – по крайней мере, как он их описывает в контексте антропологии. Это предписания или общие стратегии, которым мы научились у других людей или из книг и которые мы выбираем в качестве жизненных принципов. Они показывают, что мы рациональные существа, способные подчинять наши действия общим принципам, а не только душевным порывам. И все же, и это важно, Кант считал, что максимы не просто плод наших размышлений, преимущественно личных принципов, а вопрос общественных обсуждений. Кант настаивал, что беседы с друзьями о морали хорошо помогают прояснить наши нравственные идеи. В каком-то смысле максимы нас окружают; вопрос лишь в том, какие из них нам следует принять.
Максимы, кроме того, не ограничены моральным контекстом. Кант, кажется, считает, что хорошо иметь максимы для каждой ситуации. Жить по максимам, то есть жить принципиально, значит жить рационально. Максимы предостерегают нас от необдуманных поступков, бурных чувств и, как следствие, глупого поведения. Мы хорошо знаем это из работ Канта, но некоторых из нас может раздражать его настойчивое утверждение, что мы, собственно говоря, можем действовать лишь одним из двух взаимоисключающих способов – руководствуясь либо инстинктом, либо разумом – и что «будучи людьми, мы живем согласно разуму и потому должны ограничивать животные порывы максимами разума и не позволять никакой склонности становиться слишком сильной»[590]590
Ak 25.1 (Anthropologie Friedländer), p. 617.
[Закрыть]. В этом весь Кант. Настаивать на рациональности – это один из основных моментов у Канта, и не стоит ожидать, что в лекциях по антропологии он будет противоречить собственным опубликованным работам. Так что тут нет ничего удивительного.
Вызвать же удивление, по крайней мере у тех, кто читал недавние исследования по этике Канта, может то, что максимы должны быть относительно, а может быть, даже и абсолютно постоянными. Кажется, Кант не видит смысла говорить о максимах, которые принимаются лишь на время. Максимы, которые служат нам в определенный момент или лишь однажды, но в другой раз от них можно отказаться, это не максимы в кантовском смысле слова. Это не означает, что как только максима универсализируется, она просто становится универсально истинной, даже если я никогда больше не поступаю в соответствии с ней. Нет, это значит, что максимы – это такие принципы, по которым мы должны поступать все время. Это реальные принципы, согласно которым мы живем. Когда принимаешь что-то за максиму, нужно ей следовать. Таким образом, максима должна быть такого рода правилом, которое действительно можно исполнять, то есть она должна быть релевантной для нашей повседневной жизни, а не каким-то искусственным принципом. Так, «Всегда первым проходить в дверь» и «Никогда не есть рыбу по пятницам» – это максимы, но такие правила, как: «По пятницам, если будет светить солнце, на перекрестке будет лежать белый лист бумаги, а на дереве справа будет ровно пять листьев, я буду проходить на красный» – это не максима. Это не то «правило», по которому можно жить. Даже «Никогда не есть рыбу по пятницам» – это максима в кантовском смысле, только если сформулировавший ее человек обязуется следовать ей всю оставшуюся жизнь. Постоянство и твердость – вот необходимые характеристики максимы. Если однажды ее принимаешь, отказаться уже нельзя – никогда. По крайней мере, так считает Кант.
Учитывая непреложный характер максим, неудивительно, что их, по мнению Канта, должно быть относительно немного. Максимы – это действительно наиболее базовые правила поведения и мышления. Не следует поэтому приписывать Канту мнение, что необходимо формулировать максимы для каждого конкретного действия, которое только можно себе представить. Есть еще одна причина, почему было бы ошибкой думать о нашей нравственной жизни как о постоянной оценке максим, стоящих за действиями. Принятие максим следует рассматривать как редкое и крайне важное событие в жизни человека. Максимы, по крайней мере «максимы» в том смысле, в каком они употребляются в лекциях по антропологии, суть Lebensregeln, правила жизни. Таким образом, их не следует понимать как «беспричинные, обособленные решения, не имеющие связи с устойчивым моральным агентом, обладающим четко определенной природой и интересами», что как возможность предлагает Генри Эллисон[591]591
Henry Allison, Kant’s Theory of Freedom (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 136. Эллисон не принимает этой точки зрения.
[Закрыть]. Максимы всегда относятся к устойчивым моральным агентам. В действительности они имеют смысл, только если мы предполагаем агента. Они являются выражением рационального агентства. Если мы действительно знаем максимы рационального агента, тогда мы многое знаем о моральном агенте. Поскольку максимы – это те самые правила, по которым он живет, они расскажут нам, что он за личность. Не обязательно отслеживать каждое действие агента, чтобы узнать о его максимах. Паттернов поведения будет достаточно, чтобы рассказать нам о правилах, по которым он выбрал жить.
Максимы не просто выражают, каким человеком некто является; они в каком-то смысле конституируют такого человека – как характер. Другими словами, иметь определенный набор максим и иметь характер (или быть личностью) – одно и то же. Это, возможно, самая важная черта антропологической дискуссии Канта о максимах. Максимы – это конституирующие характер принципы. Они делают нас теми, кем мы являемся, и без них мы никто, по крайней мере по мнению Канта. Как он выражается, характер «покоится на господстве максим», иметь определенный характер означает иметь определенные максимы и следовать им. В самом деле, только когда наши «максимы постоянны», мы называем их «характером». Возможно будет даже слишком слабым утверждением сказать, что максимы суть принципы построения характера, потому что характер, кажется, состоит из максим. Как свободные и рациональные существа, мы можем и должны принять принципы, в соответствии с которыми живем, и по этой причине характер «может быть определен также [как] определение свободы (Willkür) человека посредством длительных и твердо установленных максим»[592]592
Ak 25.2, p. 1385.
[Закрыть]. Поскольку характер – действительно отличительная черта человека как свободного и рационального существа, жизнь согласно максимам делает нас теми, кем мы должны быть. По этой причине Кант считает, что «преобладающая черта человеческого рода – это способность вообще создавать в качестве разумного существа, характер»[593]593
Кант, “Антропология с прагматической точки зрения”, с. 371; Ak 7, p. 329.
[Закрыть]. Именно по этой причине он соотносит характер с нашим «образом мысли» (Denkungsart), который противостоит «образу чувствования» (Sinnesart). Иными словами, говорит он, «характер есть определенное субъективное правило высшей способности желания [то есть воли], мораль содержит объективные правила этой способности. Соответственно, своеобразные черты этой высшей способности желания суть то, что составляет характер. Каждая воля. имеет свои субъективные законы, которые и конституируют ее характер»[594]594
Ak 25.1, p. 438.
[Закрыть].
Иметь характер – вовсе не обязательно означает иметь морально хороший характер. Есть хорошие характеры и есть плохие, и хотя, как считает Кант, лучше иметь любой характер, чем не иметь вовсе, но хороший, или моральный, характер лучше. Как рассудить, хороший характер или плохой? По максимам, конечно! Максимы имеют решающее значение, чтобы судить о добродетелях характера, поскольку добродетельность характера зависит от добродетельности максим. Если у кого-то хороший характер, то и максимы у него хорошие, и если у кого-то хорошие максимы, то у него хороший характер, и это все, что имеет значение. (Тот, у кого нет максим, ни плох, ни хорош. Он вне морали, он просто ведомое животными инстинктами орудие или вещь.) Более того, действия не так важны – по крайней мере напрямую. В антропологии Кант доходит до того, что говорит, что действия и вовсе не важны, и что на самом деле в моральных оценках имеют значение только максимы: «в практических делах решающим является не то, совершил ли человек добрый поступок в тот или иной раз, но максима»[595]595
См. также: Ak 9, p. 475.
[Закрыть].
«У того, у кого нет характера, нет и максим»[596]596
Ak 25.2 (Anthropologie Pillau), p. 822.
[Закрыть]. В самом деле, «характер покоится на господстве максим». Это отличительная черта людей как свободно действующих существ, и «она называется Denkungsart, или образ мысли»[597]597
Ak 25.2 (Anthropologie Mrongovius), p. 1385.
[Закрыть]. Другими словами, характер ограничивает свободу максимами и состоит в твердости принципов. Назвать хорошим можно только человека с твердым характером. Чтобы быть хорошим, нужно иметь хорошие максимы, и они должны быть твердыми. Мы ценны лишь настолько, насколько ценны наши максимы. Это означает, что нужно разработать для себя законы и не следует полагаться на чувства и побуждения. Характер не может основываться на чувствах, он всегда должен основываться на максимах разума, которые имеют определенную цель, а не просто парят в воздухе. Все это имеет значение для понимания зрелой философии Канта, но это и невероятно важно, чтобы понять, как сам Кант развивался как личность. Поскольку обнаружение, формулирование и принятие максим создают характер, моральное перерождение человека означает начало жизни в соответствии с максимами.
Можно с уверенностью предположить, что Кант прошел через такое перерождение около сорока и в результате осознанно отдалился от прежнего «водоворота светских развлечений». Вот он, источник того, что Боровский называет: «истинная природа Канта по словам всех, кто его знал, а именно постоянное стремление жить согласно разумным принципам, являющимся, по крайней мере на его взгляд, достаточно обоснованными». Он стремился «сформулировать определенные максимы во всех больших и маленьких, важных и неважных делах – максимы, которые всегда составляли основу [его действий] и к которым всегда следовало возвращаться. Эти максимы постепенно сплелись с ним самим настолько, что в своих действиях он всегда исходил из них, даже когда не осознавал этого в данный момент»[598]598
Borowski, Leben, p. 71.
[Закрыть]. Это также повлекло за собой большие последствия для многих «ярких идей», характерных для его умственной жизни. Они должны были послужить универсальной теории, но сначала нужно сформулировать ее саму.
Совет, который Кант дал Гердеру после отъезда того из Кёнигсберга, вероятно, был бы отменен вскоре после того, как был предложен. Возможно, вполне верно считать революцию и перерождение, произошедшие в Канте, результатом «жизненного кризиса»[599]599
См.: Lehmann, “Kants Lebenskrise,” p. 411–421. Леман утверждает, что Кант прошел через такой «жизненный кризис» в 1764 году. Он приводит в доказательство «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного», но рассматривает этот кризис исключительно теоретически, желая понять кантовские Denkkrisen als Lebenskrisen (кризисы мысли как жизненные кризисы. – Прим. пер.) (p. 412). Это слишком односторонний взгляд.
[Закрыть]. Если основание собственного характера совпало с сороковым годом жизни Канта, то оно совпало и с рядом других важных событий в его жизни.
Прежде всего, примерно к 1764 году кардинально изменился круг его друзей. Кипке, переехавший на окраину города, чтобы выращивать морковку и лук, больше не был так близок к Канту, как в первые годы. Уже в апреле 1761 года Гаман сообщал, что Кипке строит «дом в саду и пока что отложил свою профессию в сторону»[600]600
Hamann, Briefwechsel, II, p. 82, 119. Этот бесплодный период длился до конца его жизни. Гаман, которого очень интересовала библиотека Кипке и рукописи в 1779–1780 годах, не обнаружил ничего значительного в его литературном наследии.
[Закрыть]. То же самое касалось и его профессиональных дружеских отношений. Кажется, Кипке так никогда по-настоящему и не вернулся к взращиванию наук и искусств. Сад, по-видимому, обеспечивал более чем достаточное удовлетворение. Кипке не внес более никакого вклада в интеллектуальную дискуссию своего времени. Его интересы настолько разошлись с интересами Канта, что говорить им больше было не о чем.
Впрочем, еще важнее то, что в апреле, всего за несколько дней до сорокового дня рождения Канта, внезапно умер Функ, самый близкий его друг. Все были потрясены. 21 апреля (вечером накануне пасхального воскресенья) Гаман сообщил, что они чуть не подрались из-за того, кто должен его хоронить. Пруссаки и курляндцы равно настаивали, что у них есть право предать его покою. Пруссаку Канту доверили организовать почетные проводы, но власти их запретили. Ни тем ни другим не разрешили провести публичное мероприятие. Функа похоронили ночью. Курляндец Гиппель сочинил в его честь элегию. Гаман ожидал, что и «другая сторона», то есть пруссаки, самым заметным представителем которых был Кант, сделает то же самое. Неизвестно, сделали ли пруссаки это, но мы можем быть уверены, что ничто не могло облегчить для Канта боль утраты.
Мы не знаем, как он горевал, но поскольку он был чувствительным человеком, определенно не обошлось без большой скорби. Сорокалетний юбилей не мог пройти счастливо. Скорбь Канта едва ли отличалась от той, какую испытал бы каждый из нас: отрицание, чувство вины и, что еще важнее, непрерывные попытки смириться с потерей и со своей жизнью. Потеря друга означала для него больше, чем смерть любого другого человека и прежде, и впоследствии. В любом случае смерть Функа послужила поводом обдумать собственную жизнь, неминуемую смерть и понять «настоящую цену вещей», и такой опыт смертности человека может быть одной из причин «палингенеза» или «возрождения», возникающего как «взрыв, сразу же следующий за отвращением к колеблющемуся состоянию, основанному на инстинкте»[601]601
Кант, “Антропология с прагматической точки зрения”, с. 330; Ak 7, p. 294.
[Закрыть]. Из-за одной только смерти Функа можно считать 1764–1765 годы очень важными для Канта.
Религиозную – даже пиетистскую – подоплеку кантовского учения о происхождении характера не стоит упускать из виду. В другом изложении необходимости морального перерождения он проводит явную параллель с религиозным обращением, описанным пиетистами. Неудивительно, что это повествование раскрывает глубокое понимание Кантом не только пиетистского учения о перерождении, но и ортодоксального христианства. Проводя различие между учением об обращении Шпенера – Франке и моравско-цинцендорфским учением, оба из которых для него – мистические, Кант утверждает, что они объявляют сверхчувственное также и сверхъестественным. Они считают, что чудо необходимо или для того, чтобы стать христианином, или чтобы обрести христианский образ жизни[602]602
Иммануил Кант, Спор факультетов (Калининград: Издательство КГУ, 2002), с. 1з6–14о; Ak 7, p. 55-56.
[Закрыть].
Впрочем, было бы ошибкой считать обращение Канта религиозным, ведь он отстаивал, по сути, моральное решение проблемы. Он утверждает, что мораль есть «действительное решение проблемы (нового человека)»[603]603
Кант, Спор факультетов, с. 146; Ak 7, p. 59. Ср. с. 367 в данной книге.
[Закрыть]. Он говорит:
В нас есть нечто такое, чем мы никогда не перестанем восхищаться, обратив однажды на него свое внимание, и вместе с тем это и есть то самое, что придает человечеству в идее такую степень достоинства, которую в человеке как предмете опыта невозможно было предположить[604]604
Кант, Спор факультетов, с. 144; Ak 7, p. 58.
[Закрыть].
Конкретное описание нравственного перерождения и характера, предложенное Кантом позже, в «Споре факультетов», возможно, изложено языком, недоступным Канту в 1764–1765 годах, но суть и общая характеристика вполне сопоставимы с более ранними взглядами. Обретая характер, становишься новым человеком (neuer Mensch). Мы пересоздаем себя в соответствии с максимами. Кант в этом смысле дальше отстоит от Руссо, считавшего, что добродетель – это дар природы, и ближе к Юму, считавшему, что нужно «взращивать» присущий нам интерес к нравственности[605]605
Ak 25.2 (Menschenkunde), p. 1174.
[Закрыть]. Для Канта добродетель рукотворна, а не естественна. Нам следует создавать себя заново из материала нашей прежней жизни – по крайней мере, он так предлагал. Теория «нового человека» Канта может звучать по-христиански, но в ней присутствуют и идеи стоиков. Действительно, победа человека с характером над колебаниями чувств и страстей, понимание, что благодаря моральному закону человек обладает достоинством и поднимается несравнимо выше животных, умение владеть собой при помощи максим – все эти аспекты кантовского взгляда на характер приближают его скорее к дохристианским философам, нежели к пиетистам[606]606
Слишком часто забывают, что для древних философов философия была больше «образом жизни», сродни «религии», нежели теоретическим занятием в нашем смысле слова. См.: Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life, tr. A.I.Davidson (London: Blackwell, 1995); см. также: Martha C.Nussbaum, The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics (Princeton: Princeton University Press, 1994), особенно p. 383 г.
[Закрыть]. Даже платонический идеал «рассудительно – го и спокойного нрава человека, который никогда не выходит из себя», ближе к точке зрения Канта, чем взгляды современных ему христиан[607]607
Платон, Государство, 604E.
[Закрыть].
Новый Иммануил Кант, появившийся после 1764 года, отличался и в других отношениях. И снова это было вызвано максимами. В редких автобиографических заметках Кант говорит нам:
Из-за плоской и узкой груди, затрудняющей работу сердца и легких, я был предрасположен к ипохондрии, которая в юности граничила с отвращением к жизни. Однако понимание того, что это гнетущее чувство вызывается чисто механической причиной и что устранить его нельзя, помогло мне не обращать на него внимания и, несмотря на стеснение в груди, оставаться спокойным и веселым… [608]608
Кант, Спор факультетов, с. 242; Ak 7, p. 104 (курсив мой. – М. К.).
[Закрыть]
Это очень похоже на описание легкой формы стенокардии (боли в груди, возникающей из-за того, что сердечная мышца получает недостаточно кислорода). Поскольку это состояние впервые было точно описано лондонским врачом Уильямом Геберденом в 1768 году, можно предположить, что по крайней мере описание этого заболевания восходит примерно к 1768 году, хотя Кант мог смотреть на него похожим образом и раньше.
По мнению Канта, чтобы избегать ипохондрических состояний, следует заниматься «повседневными делами» (Tagesordnung) и сосредоточиться на своих обязанностях. Максима состоит в том, чтобы фокусироваться на других вещах, в особенности на философских проблемах, и это, он уверен, поможет преодолеть состояние тревоги, жертвой которого в противном случае может стать человек. Порядок – источник душевного здоровья. Жизнь в соответствии с максимами не только делает нас добродетельными, но имеет и другие преимущества[609]609
В черновике «Спора факультетов» он писал: «Я рано сформулировал для себя правила», объясняя свою долгую жизнь соблюдением этих правил (Ak 23, p. 463).
[Закрыть].
И хотя история этой болезни восходит еще к античности, ипохондрия была особенно модной болезнью в XVIII веке – последний писк моды среди интеллектуалов[610]610
См.: “Insanity,” in John W. Yolton et al. (eds.), The Blackwell Companion to the Enlightenment (Cambridge, Mass: Blackwell Publishers, 1991). См. также: Böhme und Böhme, Das Andere der Vernunft, p. 389!. Точнее сказать, Бёме утверждают, что ипохондрия – «плод Просвещения». В частности, «отрицание аффектов, дисциплина тела и обстоятельная интеллектуализация всего мира (Dasein) привели к глубокому нарушению непосредственного телесного существования» (p. 419); то есть ипохондрия Канта – результат его рационализма. Это неверно. Сказать, что понятие «ипохондрии» ввело Просвещение – исторический нонсенс. Не было нужды Канту и дожидаться публикации книги: J. U. Bilguer, Nachrichten an das Publikum in Absicht der Hypochondrie (1767). Ипохондрия была вокруг него повсеместно, как в литературе (в романах Лоренса Стерна и Тобайаса Смоллетта, и в «Гудибрасе» Сэмюэла Батлера, например), так и в повседневной жизни. Утверждение, что стремление держать чувства под контролем приводит к ипохондрии – психологический нонсенс. В самом деле, сейчас хорошо понимают (по крайней мере, в некоторых психологических кругах), что держать тревожные эмоции под контролем – это ключ к эмоциональному благополучию, и что слишком свободное выражение чувств (таких как гнев) ведет к психологически неблагополучному состоянию – и с этим стоики вполне бы согласились. Наконец, было бы ошибкой смотреть на ипохондрию Канта как на однородный феномен.
Его более ранние жалобы, связанные с грудью и сердцебиением, отличались от его жалоб в более поздние годы, которые, как мы увидим, были скорее «печеночными».
[Закрыть]. На протяжении «большей части своей истории она была связана с меланхолией, которая, будучи одной из четырех склонностей личности, считалась обычным типом темперамента»[611]611
Susan Baur, Hypochondria: Woeful Imaginings (Berkeley: University of California Press, 1988), p. 22. См. также: Shell, The Embodiment of Reason, p. 266–305 (Chapter 10, “Kant’s Hypochondria: A Phenomenology of Spirit,” где содержится краткая история ипохондрии). Впрочем, Шелл в своих выводах заходит слишком далеко.
[Закрыть]. Роберт Бёртон в своей знаменитой книге «Анатомия меланхолии» 1621 года различает разные типы меланхолии, и «гипохондрическая меланхолия» – всего лишь один из типов. Он утверждает, что ее источники – «кишечник, печень, селезенка или еще пленка, называемая брыжеечной», и она называется также «меланхолией, вызванной ветрами, ее-то Лауренций как раз и подразделяет на три подвида в зависимости от названных выше трех органов – гепатитной, селезеночной или желчной и брыжеечной»[612]612
Роберт Бертон, Анатомия меланхолии (Москва: Прогресс-Традиция, 2005), с. 311–312.
[Закрыть]. Труд Бёртона был, очевидно, одной из любимых книг Гамана, и Кант, вероятно, тоже о нем знал. По крайней мере, «ипохондрические ветры» из «Грез духовидца» и статьи «Опыт о болезнях головы» говорят о том, что он был знаком с этим понятием. К концу XVIII века ипохондрия стала одним из самых обычных расстройств, поражающих людей любой социальной страты[613]613
Baur, Hypochondria, p. 27.
[Закрыть]. Неудивительно, что Кант считал, что тоже от нее страдает. И он был не один, поскольку Гаман и Краус тоже признавались в ипохондрии.
Джеймс Босуэлл и Сэмюэл Джонсон тоже от нее страдали. Действительно, совет Джонсона Босуэллу похож на совет Канта самому себе: «постоянно занимать свой ум, много упражняться, жить умеренно, особенно стараться не выпивать по вечерам». Ипохондрия могла быть и просто воображаемой болезнью, но зачастую вовсе таковой не была. Неверно было бы считать ее лишь заболеванием ума. Кант тоже так считал. Да, ипохондрия имеет дело с фантазией и во многом основана на причудах больного, но это злой «недуг, который, где бы ни находилось его главное место, блуждает, вероятно, по его нервной ткани в разных частях его тела. <…> этот недуг стягивает своего рода меланхолический туман преимущественно вокруг местонахождения души», вот почему пациент находит симптомы почти всех болезней, о которых он только ни услышит, вот почему он любит говорить о своем нездоровье и читать медицинские книги. И все же в обществе «на него незаметно находит хорошее настроение, и тогда он много смеется, с аппетитом ест и, как правило, имеет вид вполне здорового человека»[614]614
Кант, “Опыт о болезнях головы”, c. 152; Ak 2, p. 266.
[Закрыть]. Если его вдруг настигает какая-то странная идея, из-за чего он может не к месту рассмеяться в присутствии других, или «если разные мрачные представления возбуждают в нем сильное стремление сделать что-то дурное – стремление, осуществления которого он сам опасается и которое никогда не переходит в действие, то состояние его во многом сходно с состоянием помешанного, хотя большой беды в этом еще нет. Болезнь эта не имеет глубоких корней и, поскольку она касается расположения духа, проходит или сама собой, или благодаря принятым лекарствам»[615]615
Кант, “Опыт о болезнях головы”, c. 153; Ak 2, p. 266.
[Закрыть]. Кант знал, о чем говорит. В самом деле, утверждая, что ипохондрия имеет и физиологическую, и психологическую составляющие, он, кажется, говорил о себе.
Кант испытывал не просто смутное чувство неудобства, усиленное тревожными мыслями. Дело было не только в том, что он был расположен считать себя больным, хотя это могло быть вовсе и не так; в основе этих чувств была физиологическая подоплека. Переживания и ощущения, которые граничили «с отвращением к жизни», таились по меньшей мере в его разуме, а также, вероятно, и в реальности, и были связаны с узкой грудью, затруднявшей дыхание и работу сердца. Он страдал от легкой формы сколиоза, искривления позвоночника. Его мышцы всегда были слабыми и неразвитыми, а кости чрезвычайно хрупкими. Он быстро уставал. Позже (в 1778 году) он говорил, что никогда не болел, но и здоров никогда не был. У него было «слабое здоровье». Единственное, что поможет ему справиться с таким хрупким состоянием, утверждал он, это «определенная равномерность в жизни и в тех вопросах, о которых я размышляю»[616]616
Ak 10, p. 231, см. также p. 344; и Ak 23, p. 463; также интересны в этом отношении Borowski, Leben, p. 73; Ernst König, “Arzt und ärztliches in Kant,” Jahrbuch der Albertus Universität zu Königsberg 5 (1954), p. 113–154.
[Закрыть].
С хрупким телом была связана большая чувствительность. Он говорил о своих «чувствительных нервах». Так, на него чрезвычайно влияло малейшее изменение в обстановке, поэтому он был очень внимателен к нуждам своего тела с раннего детства. Беспокойство о хорошем самочувствии естественно вело к беспокойству по поводу всего остального. Кант был беспокойным человеком, но тревога или беспокойство, которые причиняют страдания, не являлись – и не являются – безвредными. Стремление Канта преодолеть их, сосредоточившись на текущих делах, кажется сегодня столь же уместным, как и тогда. Размышлять о таких беспокойствах и тревогах означает только усугублять их и таким образом разрушать себя. Режим Канта был, возможно, простой и бесхитростной формой душевной гигиены, но небезынтересен тот факт, что Кант посчитал необходимым ею заняться. Этот подход был рожден необходимостью, а не безделием. В долгосрочной перспективе заниматься делами, отвлекающими от тревоги, кажется весьма продуктивным. По крайней мере, для Канта это было так. И не так уж это и непривлекательно. Джордж Бернард Шоу однажды сказал, что «подлинная радость жизни» – «отдать себя цели, грандиозность которой ты сознаешь, израсходовать все силы прежде, чем тебя выбросят на свалку, стать одной из движущих сил природы, а не трусливым и эгоистичным клубком болезней и неудач, обиженным на мир за то, что он мало радел о твоем счастье». Новый характер Канта был рожден из подобных размышлений.
Благодаря этой революции стали возможными дальней – шие достижения Канта, она стала также ядром его зрелой философии. Это не означает, что Кант «механически упорядочил» свою жизнь и поэтому смог создать свои основные труды. Позже, то есть около 1775 года, когда ему было за пятьдесят, он забеспокоился, хватит ли ему времени закончить то, что, как он тогда считал, он должен сказать, но те же самые тревоги он испытывал и в 1764 году, когда еще не был уверен, что же в действительности может сказать. Обманывает ли Кант себя, когда утверждает, что создал свой характер и осознанно сформулировал новые максимы? Были ли его взгляды всего лишь рационализацией процесса, не имевшего с выбором ничего общего? Были ли эти события началом конца жизни Канта? Некоторые утверждают именно так, но здесь есть с чем поспорить[617]617
Lehmann, “Kant’s Lebenskrise,” p. 418.
[Закрыть]. Возможно, более справедливо сказать, что в сорок начался процесс, из-за которого внешняя жизнь Канта становилась все более и более предсказуемой, и что это в конце концов привело к резкому увеличению его писательской продуктивности. Однако говорить, что именно «своеобразный процесс механизации во внешней жизни Канта благоприятствовал его внутренней жизни, [и что] отмирание периферии привело к усилению активности в центре души» одновременно и слишком мудрено, и слишком просто[618]618
Josef Heller, Kants Persönlichkeit und Leben. Versuch einer Charakteristik (Berlin: Pan Verlag, 1924), p. 65.
[Закрыть]. Говорить, что кантовская концепция характера была «единственным возможным решением» его жизненных проблем, кажется, столь же наивно, как говорить, что «жизнь на грани, как должен проживать ее философ, это всегда жизнь в кризисе, жизнь, „возможность“ которой нельзя описать и которая не соответствует никакому плану»[619]619
Lehmann, “Kant’s Lebenskrise,” p. 420.
[Закрыть]. Конечно, мы, люди, включая Канта, можем планировать нашу жизнь. Эти планы не всегда воплощаются так, как мы бы того хотели, но это уже совсем другая история.
Новооткрытая Кантом оценка максим коренилась не только в желании избежать неприятного опыта смерти, ипохондрии и отчаяния, но связана и с другими событиями его повседневной жизни. В 1764–1765 годах Кант завел новых друзей. Самым важным среди них был Джозеф Грин, английский коммерсант, приехавший в Кёнигсберг очень молодым. Грин был холостяком, как и Кант, но жил другой жизнью, нежели Кант до сих пор. Вместо того чтобы броситься в водоворот событий, Грин жил согласно строжайшим правилам или максимам. Он педантично следовал часам и календарю. Говорят, что Гиппель, написавший в 1765 году пьесу под названием «Человек по часам», списал своего героя с Грина[620]620
Рецензия на пьесу вышла уже в выпуске Königsbergische Gelehrte und Politische Zeitungen от 22 марта. Подробнее см.: Pia Reimen, “Struktur und Figmrenkon-stellation in Theodor Gottlieb von Hippels Komödie der Mann nach der Uhr,” in Joseph Kohnen (ed.), Königsberg. Beiträge zu einem besonderen Kapitel der deutschen Geistesgeschichte (Frankfurt [Main]: Peter Lang, 1994), p. 199–263. Реймен считает, что прототипом послужил Кант, но не замечает, что полагается на описание Яхмана, где описывается Кант периода 1780-х и 1790-х годов, а вовсе не в молодости (p. 224–225). Яхман утверждал, что прототипом был Грин. Грин также был прототипом купца в романе Иоганна Тимофея Гермеса Sophien’s Reise von Memel nach Sachsen. Гермес и Гиппель вместе учились в Кёнигсберге в 1757 году.
[Закрыть]. «Грин выделялся своим характером, будучи на редкость праведным и истинно благородным человеком, но он имел множество своеобразнейших черт – настоящий чудак (whimsical man [в оригинале по-английски. – М.К.]), чьи дни следовали неизменному и странному правилу»[621]621
Jachmann, Kant, p. 154.
[Закрыть]. Грин торговал зерном и сельдью, а также углем и промтоварам[622]622
См.: Gause, Die Geschichte der Stadt Königsberg, II, p.192; см. также: Bogislav von Archenholz, Bürger und Patrizier. Ein Buch von Städten des Deutschen Ostens (Darmstadt: Ullstein Verlag, 1970), p. 311–312.
[Закрыть]. Он был «самым выдающимся и уважаемым купцом в английской общине Кёнигсберга»[623]623
Archenholz, Bürger und Patrizier, p. 311.
[Закрыть]. Впрочем, его интересовало не столько ведение бизнеса, сколько чтение книг «о новых изобретениях и первопроходцах», и он вел «отшельническую жизнь»[624]624
Karl Hagen, “Gedächtnisrede auf William Motherby,” Neue preußische Provinci-al-Blätter 3 (1847), p. 131–132.
[Закрыть]. По словам одного очевидца, он «был больше ученым, чем купцом», и намного более образованным, чем другие купцы того времени[625]625
Karl Hagen, “Kantiana,” Neue preußische Provincial-Blätter 6(1848), p. 8–12, p.9. Он также указывает, что любовь Грина к порядку и пунктуальности со временем выродилась в «странность» (Sonderbarkeit), и что массивные английские наручные часы, которые он носил, все еще служат нынешнему владельцу, то есть они все еще работали сорок лет спустя. См. также: F. Reusch, “Historische Erinnerungen,” Neue preußische Provincial-Blätter 5 (1848), p. 45.
[Закрыть]. Пожалуй, не удивительно, что Кант так ценил его дружбу.
Мы не знаем точно, когда Кант и Грин познакомились, но произошло это в какой-то момент до 1766 года, возможно уже в 1765 году. В 1766 году, когда Грин отбыл по делам в Англию, Шеффнер написал Гердеру: «Магистр [Кант] теперь постоянно в Англии, потому что там Руссо и Юм, о которых ему иногда пишет его друг г-н Грин»[626]626
Scheffner, Briefe von und an Scheffner, I, p. 255 (письмо от 16 августа). Немецкий оригинал несколько двусмысленен. Грин не обязательно писал эти письма. Возможно, он просто передал какие-то письма (или даже опубликованное собрание писем) Канту. Вернер Штарк высказал мне такое предположение (и это могло бы объяснить, почему в переписке Канта их не нашли).
[Закрыть]. Через две недели он рассказал Гердеру несколько анекдотов о Юме и Руссо, источником которых, очевидно, были письма, которые Кант получал от Грина. Было сказано, что Грин и Кант познакомились во время Американской революции и что их отношения начались с горячего спора о ней. Кант принял сторону американцев, а Грин – англичан[627]627
Vorländer, Immanuel Kant, I, p. 122; Jachmann, Kant, p. 161.
[Закрыть]. Конечно, это не может быть правдой, хотя не исключено, что они поспорили о более раннем событии, в конце концов приведшем к Американской революции, а именно о Гербовом акте 1765 года. Подписание акта привело к восстаниям в Бостоне и других местах уже в августе, что вынудило британский парламент отменить его в том же году[628]628
Это было значительное событие, удивившее британцев, и его можно рассматривать как первый признак грядущей революции. Делегаты так называемого Конгресса Гербового акта выразили несогласие колонистов с Законом о гербовом сборе в «Декларации прав и причиненных несправедливостей», обращенной к королю, и в петициях в обе палаты британского парламента. Ходатайства были отклонены. Эти события вдохновили Сэмюэла Адамса основать организацию «Сыны свободы».
[Закрыть]. Это означало бы, что знакомство Грина и Канта состоялось летом 1765 года. Точно известно, что к 1766 году они были близкими друзьями; и по крайней мере с того времени Кант постоянно и очень регулярно ходил в гости к Грину. Регулярность Канта объяснялась, вероятно – по крайней мере поначалу – больше пунктуальностью Грина, чем самого Канта, потому что говорили, что соседи сверяли часы, завидев, как Кант уходит от Грина по вечерам: визит оканчивался ровно в семь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?