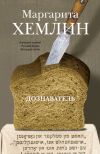Текст книги "Крайний"

Автор книги: Маргарита Хемлин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Не знаю, показывали меня в кино или не показывали. Хотелось бы знать наверняка. Очень интересно – то ж на весь свет, как знаменитые артисты.
Итак, война осталась позади.
Впереди наступала мирная жизнь. И так, надо сказать, наступала, что только держись.
Хотелось счастья.
Весь период невзгод и лишений со мной находился Букет. Возраст у него уже подошел престарелый, даже сильно сверх нормы, но дружба наша закалилась в боях. Мы находились голова к голове в засадах, не раз он согревал меня и давал силу идти вперед, к долгожданной Победе.
Если кто-то выходит из доверия, вернуться в доверие очень трудно. Остёр у меня из доверия вышел.
В конце 1944 года вместе с Букетом я заявился в областной центр – город Чернигов на берегу реки Десны. Было мне почти шестнадцать мальчишеских лет. Я сильно возмужал, хоть ростом не дотягивал до среднего. При мне находилась только уверенность, что искать родителей не надо, а надо их ждать в один прекрасный момент. А где подобный момент наступит – решать не мне. Где я, там и момент. Хоть в Остре, хоть в Чернигове, хоть где.
Однако по совету понимающих людей я написал в Остёрский райсовет письмо о том, что жив и здоров и прошу, если обнаружатся следы Зайденбандов Моисея и Рахили, сообщить мне и им перекрестную информацию. Адрес указал «до востребования».
Конечно, во мне жил интерес к другу Грише, к родной измученной остёрской земле. Но сердце мне подсказало, что этот интерес пустой и душераздирающий, а надо жить дальше и не вести бесплодные углубления.
С ножницами Рувима я прямо с поезда и после почты хотел устроиться в какую-нибудь парикмахерскую.
Мне указали место в самом центре, возле красивейшего здания дворца Тарновских, в котором после революции переоборудовали обком партии, а после войны строение опять подкрасили после фашистской комендатуры и возобновили прерванную по независящим причинам партийную работу. Но меня туда парикмахером не взяли по совокупности веских причин. Документально я был как следует не оформлен в жизни. Паспорта нету, так как ко всему еще и шестнадцати нету, а для паспорта по достижении возраста нету и метрики. Только мое честное слово и справки: что с такого-то по такое-то я находился в партизанском отряде Чубара и что я имею сильную контузию и поэтому не подлежу дальнейшему использованию в армии.
Опять добрые люди помогли советом. Но совет удручающий – надо ехать в Остёр, по факту рождения, и там выправлять бумаги. На мой вопрос, нельзя ли обойтись прямо тут, мне ответили, что можно, только надо дать хабар. Откуда у меня хабар? Заплатили добрые люди, и я получил паспорт с другим месяцем рождения. Как раз выходило – шестнадцать лет.
Паспортистка меня спросила, не желаю ли я заменить запись про национальность, а то мало ли что. Надо было решать мгновенно, пока она в настроении. И я пришел к решению не менять. А то опять же – мало ли что.
Теперь про добрых людей.
Меня приютили муж и жена по фамилии Школьниковы. Самуил Наумович и Зинаида Ивановна. Как видно из их имен – семья интернациональная. Люди очень пожившие, умные, с открытыми глазами смотрящие как вперед, так и назад.
Мы встретились и породнились в поезде возле станции Зерново, за несколько часов до прибытия в Чернигов. Школьниковы возвращались из эвакуации в Саратовской области.
Выслушав мою неприкрытую историю, они сильно разволновались и заявили, что берут меня с Букетом к себе на неопределенный срок. У них маленький домик на улице Святомиколаевской, она же – Менделеева, рядом со священной жемчужиной Украины – Валом с петровскими пушками и соборами, в которых единогласно голосовали за Переяславську Раду при Хмельницком.
Самуил Наумович все же проявил некоторую осторожность и прочитал мою партизанскую справку еще в вагоне.
И заметил:
– Тут написано, что ты находился в отряде. А что ты там делал, не указано. Это плохо. Можно истолковать образом того, что, может, ты там в плену находился, у партизанов. Ты лучше эту справку никому не показывай без крайней нужды. А лучше – выброси. Ты человек молодой, ты по возрасту вообще мог нигде во время оккупации не находиться. Болтаться, и всё. С тебя по возрасту спроса нету. Спасся – и точка.
Я обиделся и заявил:
– Спасибо вам, конечно, Самуил Наумович! Но я за эту справку кровь из себя цедил по капельке. Я ее ни в уборную, никуда не выброшу, как вы намекаете. Если надо – отвечу за нее.
И стал собирать свои вещички, а также дергать Букета за мотузку ближе к тамбуру – в другой вагон. И ушел бы. Если б не общая скученность. Народу – не протолкнешься.
Остался. Только обидно, что слез со своей нагретой третьей полки, а никуда не пробился.
До Чернигова со Школьниковым помирились.
Я поселился у них. Букет – в будке. Без цепи. По старости он и не гавкал уже.
В отряде я приучился смоктать цигарку. Частенько я выходил к Букету ночью вроде покурить – и плакал ему в теплую, почти голую спину. Вот что значит беззаветная дружба. Плачу, а про что слезы лью бурным потоком – определить ни за что не могу. Одной причины не было. Было много причин. Через них и плакал навзрыд.
С документом устроился в парикмахерскую, в ту, возле обкома партии. Место хорошее, ответственное. Два кресла – мужской зал и три – женский. Шик по тем временам. Еще не залечили раны войны, а красота просилась наружу. А тут я. Напеременку стриг и мужчин, и женщин.
Отношение ко мне сложилось теплое. Специалистов осталось мало. А я, хоть и юного возраста, сразу выделился на фоне.
Некоторые женщины заигрывали без учета возраста:
– От гарнэнький хлопчик! Визьмэш мэнэ замиж?
Я всем отвечал одинаково:
– Возьму.
Но дальше не двигалось. А мне и не надо было. Как говорится, доброе слово дороже второго.
Так я работал и совершенствовал свое искусство несколько лет. Так-сяк закончил вечернюю школу, наверстал упущенное войной. В аттестате за семь классов оказалось по преимуществу «посредственно», но важен сам факт. Вступил в комсомол.
Наконец, определился с направлением в основной профессии. Перешел в женский зал.
Один человек из Новоуральска (тогда только-только строился город науки и атомной бомбы, как я узнал гораздо позже), бывший проездом, научил меня, как закреплять женскую прическу.
Говорит:
– Сеточка – это хорошо. Но слишком старомодно. Получается букет моей бабушки. Укладка все равно мнется. Надо взять канифоль, растворить в ацетоне и брызгать на волосы. Берется отлично, пушкой не пробьешь. Держится несколько дней вплоть до недели. Женщины очень довольны. И отдельно взятые мужчины, если на лысину зачес сделать, тоже не брезгуют подобной нужной уловкой.
Я попробовал. Получилось очень качественно. Угадал масштаб. Ко мне стали ломиться очереди. Некоторые мастера из других мест хотели позаимствовать, но я никому не рассказал. Конечно, по запаху дошли, что и как. Но один довел пропорцию до скандала, так как сильно переложил канифоли, и клиентка рассталась с косой ни за что ни про что.
Скрепляющую жидкость я назвал «Букет» – в честь моего Букета и как воспоминание про букет моей бабушки, о котором упомянул командировочный, может, даже и ученый, на что он туманно намекал. Имя его затерялось в годах. А фамилия у меня сбереглась – Кутовой.
Известий из Остра не поступало. Хоть я регулярно отправлял поддерживающие письма с просьбой передать мой адрес родителям, если они появятся. Адрес теперь указывал Школьниковых.
Отношения со Школьниковыми у нас сложились ровные. Но неясные. То ли я квартирант, то ли сын-племянник. Они брали с меня плату за стол и угол. При этом отношение ко мне являлось настолько добрым и ласковым, что я их полюбил до последней своей и их косточки.
Мы не вели долгих бесед, всё понимали без звука.
Самуил Наумович ходил по людям и восстанавливал из ничего старую мебелишку. Клеил фанеровку – тогда на буфетах и комодах без дела и с делом лепилось много фанеровки, а то и с ноля склеивал-сбивал столы, стулья, шифоньеры и прочее. Сам варил клей – запах шел страшенный. Хвастался, что ни у кого в Чернигове такого клея нету. Возможно, это была чистая правда, потому что заказов было всегда много, и Самуил Наумович даже пытался приохотить к своему ремеслу меня. Несколько раз я участвовал, но вскоре наотрез отказался. Меня привлекала красота человеческая, а не деревянная. Парикмахер не шел ни в какое сравнение со столяром, хоть и первоклассным.
Я объяснял:
– Я работаю с головой, с самым сокровенным местом человека. А вы, уважаемый Самуил Наумович, имеете дело с неживыми предметами обстановки. Разница есть.
Самуил Наумович сопротивлялся:
– В голове только мысли, и ничего больше. А в табуретке, в столе, в шифоньере, на этажерке проходит вся жизнь. Ты про красоту, а я про силу, прочность вещей. Вещь ценится прочностью, а не красотой твоей дурной.
– Красота – не дурная, если к ней подходить с умом и контролировать по длине и пышности. В этом секрет. Если б вы были краснодеревщик, я бы поучился. А так – щепку к щепке лепить – мне интереса нету.
И потому я испытал особенную радость, когда начался успех моего закрепителя для волос. В противовес клею Самуила Наумовича.
Зинаида Ивановна вязала рукавицы и платки на продажу.
Она как-то заметила, что собачья шерсть самая целебная при ревматизме, и что из нее хорошо вязать. Только сначала требуется мыть, прясть, и так и дальше. И что, может, попробовать с нашим Букетом. Я согласился. Но когда мы примерились, оказалось, что с него и клок не соберешь. То сеченая, то колтунами, то на шерсть не похожая, а больше на сухой чертополох.
Возникает закономерный вопрос.
До Остра от Чернигова ехать на попутках часа два. Кроме того, в навигацию идет по воде пароход. Ну, съезди, расспроси людей, поговори, после огромного послевоенного перемещения кто-нибудь что-нибудь, может, и слышал про родителей. Фамилия ж нечастая.
Но я не мог.
Не мог.
И этим все сказано. А что не сказано, то и не надо.
Когда в 47-м году 9 мая отменили как выходной и сняли наградные – по просьбам фронтовиков – я про себя решил: баста, пора про войну забыть. Не говоря уже про победу над Японией. Тоже ж выходной убрали.
Надо жить без оглядки на прошлое. С прошлым – это не жизнь, а мука. И указы Президиума Верховного Совета тому порукой.
И вот однажды открылась дверь, и в парикмахерскую вошел Субботин Валерий Иванович. Мой младший лейтенант. Я его сразу узнал. А он смотрел на меня несколько минут и только потом показал мне в сердце пальцем.
И сказал:
– Василь. Зайченко. Живой!
Мы обнялись и расцеловались.
Я постриг Субботина модельно и за свой счет побрызгал одеколоном. Волосы у него густые и волной. Как сейчас помню. И мягкие-мягкие.
– Вот, – говорю, – есть мнение, что мягкий волос – признак слабого характера. А про вас такого никто не заподозрит. У вас – напротив.
Он голову поднял – я как раз линию шеи ему ровнял опасной бритвой, я машинкой никогда по шее не работал, машинка руки не чувствует. Только бритвой. Меня Рувим твердо наставлял.
Субботин голову, значит, поднял. Я аж отпрыгнул, чтоб его не поранить.
И говорит, глядя в зеркало:
– Ой, Василек, Василек, примета твоя верная. И я ее не нарушил. Ну давай, заканчивай свое дело.
И просидел грустный до самого последнего волоска. От бритья отказался.
– Мало тебе, что ты в женском зале меня обрабатываешь, так еще и бриться тут. Нарушение на нарушении сплошное. Дисциплины у тебя нету. Сейчас какая-нибудь фифа залетит перманент делать – а ты бритвой махаешь. Убежит. А тебе строгий выговор.
Выговора я не боялся. А чего боялся – затрудняюсь определить. Страха как такового не испытывал. Но опасался.
Была зима. Я проводил Субботина до самой двери. Хотел покурить с ним на улице, перекинуться хоть парой задушевных слов. Но ветер задувал со всех сторон, и градусов тридцать мороза.
Субботин меня рукой обратно в дверь запихнул без рассуждений:
– Успеем еще, наговоримся!
Я его взамен пригласил вечером к Школьниковым.
Отпросился, чтобы купить того-сего к столу.
Спешу, одеваюсь кое-как наотмашь.
А мастера мне удивленно замечают:
– Что он тебя Василем звал, а ты и не перечил?
Я отвечать не завелся – для быстроты только буркнул, что то дела партизанские, прошедшие.
В спину мне посмеялись. Но я привык и внимания не обратил.
А дома меня поджидал не праздник. Ушел из жизни мой дружок Букет. Собирался-собирался и собрался.
Я прибежал с работы, сеткой размахиваю.
Кричу от калитки:
– Зинаида Ивановна! Топите печку! Готовить будем! Я того купил! Я сего купил! Я вина красного достал, и чая, и халву! – И по сложившейся привычке одним глазком заглянул в будку, поприветствовать Букета.
А его в будке и нету. Сердце мое екнуло. Побежал за дом – там полоска неширокая, между стеной и забором, летом в лопухах, зимой мягким белым снегом прикрытая – любимое место Букета. Он там. Занесенный, запорошенный. Снежинка на каждой шерстинке. Переливается и блестит. И глаза его собачьи открытые навстречу небу.
Я сетку с продуктами бросил. И неудачно. Бутылка разбилась об заборную доску, заледенелую аж до железной крепости, вино полилось красной рекой. И хлеб вывалился, и курица, и яйца светло-коричневые побились, и газетный кулек с халвой порвался и через ячейки нитяные выглядывал на снег.
Посидел я над Букетом. Закрыл его глаза.
Продукты, какие можно, собрал и двинулся в хату – сообщить две вести. Одну печальную, другую радостную.
Зинаида Ивановна приготовила хороший ужин.
Самуил Наумович предварительно расспросил меня про Субботина. Я рассказал, не утаив ни крошки.
Самуил Наумович заключил:
– Значит, ты его совсем не знаешь. Тем более столько лет прошло. И война, и после войны четыре года. И так просто зовешь человека в гости. А он, выходит, в плену был. И живой остался. И одет хорошо, говоришь. И упитанный. Безответственно поступаешь, Нисл. Ты подозрительного человека тащишь в дом, и не в свой дом, отметь себе на носу. Мы тебя приютили. Мы тебя любим, как родного. А ты вот так делаешь.
Я растерялся.
За меня вступилась Зинаида Ивановна.
– Сема, не говори глупостей. Ну, придет человек, ну, покушает. Нисл на свои деньги купил угощение. Мало ли кто к кому приходит. Сейчас темно, фонари не горят, никто и не увидит. А тем более у Нисла сегодня состоялось большое горе. Умер Букет. Ты хоть бы из уважения к горю помолчи лишнее, не трепи языком свои придумки.
Самуил Наумович стукнул кулаком по столу.
А он хоть и худющий был, но стукнуть умел:
– Вот этим самым кулаком припечатываю! Чтоб гостя своего ты спровадил на подходе! В хату не пускал! У меня нервов почти не осталось, чтоб их тратить на что попало! Ты распоряжаешься в моем родном доме, как хозяин! Я тут отсебятины не допущу! Я хозяин, я и решаю, кому тут за столом сидеть, а кому – в другом месте!
То ли под воздействием потрясения, то ли накопилось уже во мне, но я спокойно встал и сказал:
– Спасибо, люди добрые. Особенно вам, Самуил Наумович. Я вам свою зарплату отдаю, как в родную семью. Вы мои гроши брали и прятали – не знаю куда, мне все равно. А если я своего боевого друга хочу пригласить на угощение, так вы поднимаете хипеж. Извините на добром слове, но вы с ума сдвинулись. Вам шпионы под каждым кустом сидят с временно оккупированных мест. Война закончилась победой советского народа под руководством Коммунистической партии и лично товарища Сталина. Я вам просто для сведения напоминаю. И тот человек, которого я жду в вашей хате, под крышей, на мои гроши перекрытой, офицер Красной армии. Коммунист. Я лично его партбилет держал вот в этих руках. И я лично тот билет своими детскими руками разорвал на мелкие кусочки, чтоб он не достался врагу. А вы в эвакуации сидели.
Да, не сомневаюсь, обидно получилось. Но ведь и правда. После вышеизложенного оставаться было нельзя.
Я под взглядами двух стариков собрал кое-что со стола в сетку. В коридорчике нашел мешок, оделся и без дальнейших слов вышел на двор.
За домом наощупь затолкал Букета в мешок, взвалил за спину, прихватил сетку с едой и пошел на улицу.
Вдалеке заметил фигуру мужчины. Вроде встречное движение. Я направился к нему в уверенности, что это Субботин. Но то оказался совсем другой человек.
Так я встретил своего отца Моисея Зайденбанда.
В кромешной темноте я почувствовал его всей душой. И он меня тоже. Мы только и прошептали: «Татэлэ, татэлэ»[2]2
Папочка (идиш).
[Закрыть] – «Зунэлэ, зунэлэ»[3]3
Сынок (идиш).
[Закрыть].
Я бросил мешок и сетку, крепко-накрепко обнял родного человека. Слез не стало. И голоса не стало. А стала одна боль за все порушенное.
Раз такое дело, вернулись к Школьниковым. Я тащил мешок волоком, и за нами открывался большой путь среди бескрайних снегов.
Школьниковы обрадовались, что это не Субботин, а мой пропавший столько лет без всякой вести отец.
Опять накрыли на стол. Мы ели и обсуждали, как мы все рады такому происшествию.
Отец спросил:
– Почему ты не спрашиваешь про маму?
– Она мертвая, – ответил я. – Если б была живая, тут бы сидела. А раз ее нету, значит, нету совсем.
Отец кивнул.
– Ты никогда спрашивать не любил. Еще когда маленький был. Никогда не спрашивал: «Что? Как? Почему?» Мы удивлялись.
– А что спрашивать? Я и так знаю. Не головой. Сам не знаю чем.
Отец опять кивнул. Ел он мало. Чая пил много. Без сахара. Хоть смотрел на него с интересом. Но, видно, не решался взять. Я не предложил специально, чтоб не смущать. Сам демонстративно пять кусков вприкуску съел, чтоб дать понять: мол, вообще-то жалеть сахар не надо.
Все-таки отец взял кусочек, на несколько крошек его расколол щипцами и держит на ладони.
Я не выдержал:
– Кушай, папа, сахар! Кушай!
Он в рот кинул и сосет, как леденец. И лицо маленькое такое, и щек совсем нету. Внутрь ушли. И весь он внутрь ушел. И изнутри теперь ко мне явился.
Отец проговорил всю ночь. Из этого я ничего не вынес, так как не находил связи между словами. Только одно повторялось бесконечно: «Бежали, бежали, бежали». Про маму он не уточнял. Я хотел вставить свое слово про партизанский отряд, но отец не слушал. Только заглушал все одними повторениями: «Бежали, бежали, бежали». И еще: «Хотели кушать».
Наконец, мне удалось сказать:
– Вы собак ели?
– Нет. Не было собак.
– А если б были?
Отец посмотрел непонимающе.
Я думал про Букета и стремился рассказать отцу про его кончину, про окоченевшее его тело в мешке на улице. Но отец закрыл глаза и тяжело уснул.
Под утро очнулся и тронул меня за руку – я спал на полу, рядом:
– Слышишь, зунэлэ… Мы такие важные люди, что за нами целая армия гонялась. Целая армия. Важные люди, важные люди. Я и Винниченке сказал. А он смеялся. Аж до икотки. До икотки из самого живота. Кричал, что живот разорвется, а перестать не смог.
И провалился в забытье.
Потом я его не добудился. Он умер.
Зинаида Ивановна обмыла его и одела в штаны и рубашку Школьникова.
При отце нашлись документы, из которых следовало, что он возвращается домой в город Остёр Черниговской области Украинской ССР после заключения в лагере смерти «Гросс-Розен». На правой руке Зинаида Ивановна показала мне номер. Я не запомнил. Столько в памяти держу, а номер выпал. Думаю, что мой ум просто спасался и потому не задержал проклятые цифры.
Легко сказать – возвращается. Столько лет возвращался через весь мир. До Остра добрался, из Остра ко мне в Чернигов. И тут нашел свой вечный пункт назначения.
Долго. А что не долго, спрашивается. Все долго.
Похоронили отца на еврейском кладбище по адресу: улица Старобилоусская, через сто метров от мясокомбината. Я хотел найти раввина, так как решил, что отцу, как насмерть пострадавшему именно еврею, будет приятно. Но Школьников упросил не искать. Сказал, что сам договорится с человеком, чтоб тихонько почитал кадиш, не выделяясь. И правда, молитву человек прочитал тактично, не качался, не голосил. Прочитал по-русски, как пожелание на смерть. Мол, всего тебе хорошего, Моисей Зайденбанд. А там, где про Бога, голос принижал до шепота. Кому надо наверху, услышал. Так мне представляется. Остальное – проформа.
Букета закопали там же. В отдельной ямке. Не слишком глубокой. За отдельную плату. Это являлось хоть маленькой, но отрадой. Сам бы я могилку ему не вырыл. Холодно, земля – железо. Теперь же Букет где положено, как настоящий друг.
Субботин и не появился.
Школьниковы меня жалели.
Самуил говорил:
– Отец есть отец. Но рассуди, какой он к тебе пришел. На нем подштанников не было. Рубашка рваная. Кожа и кости. Из зубов – четыре передних. Он бы не жил, а тебя за собой в обратную сторону тянул. Я считаю, что он отмучился.
Зинаида Ивановна поддерживала мужа:
– Да, горе, конечно, большое. Но у тебя и так двое стариков на руках. – Имела в виду себя с мужем. – А тут еще один.
Я быстренько посчитал, что отцу было под самые пятьдесят, никак не больше. Много, но не старик же.
Я обиделся.
– Вы уже определили, что вы у меня на руках? А вы меня спросили? Я вас до смерти вашей досматривать не собираюсь. Отца своего – досматривал бы. Пылинки б с него сдувал. Вы мне предлагаете с вас сдувать?
Притихли. Видно – испугались. Конечно. Бездетные, старые. Кому нужны? А тут я. Теперь по всему – сирота. Им приятно в глубине души.
А с другой стороны – куда мне деваться? Ни отца, ни матери, ни Букета.
На этом я поставил точку и поклялся в мыслях, что досмотрю Школьниковых до последнего их вздоха, а потом продолжу жизнь самостоятельно. Времени у меня полно.
Жизнь распорядилась – значит, исполняй.
Весной, когда зацвела природа, я гулял по Валу. Любовался на вязы, липы, каштаны.
И тут мне захотелось любить конкретно какую-нибудь женщину. Тоска завладела мной, как в кино. Но вокруг ходили парами и меня не замечали.
Любовь явилась бы для меня отвлечением от мыслей, спасением. Все чаще снился Остёр и мое трудное детство и подростковый возраст. Лес, партизаны, полицаи. Рувим махал ножницами и резал ими высокое небо, а Сима мешала что-то в здоровенном казане литровым черпаком. Я заглядывал в казан, там плавало сало и неясная крупа. Во сне я радовался, что сейчас буду сытый навек, и Букет ластился к моим ногам. А ноги босые. И в крови. Я отмываю ноги варевом из казана, оно не обжигает, а ноги становятся белые-белые и вроде уже не мои, а какой-то чужой женщины.
И вот в такой обстановке закончилась весна. Стоял в разгаре июль месяц.
В парикмахерскую зашла дивчина. С длинной косой. Брюнетка. Коса пушистая, и вообще волос пушистый, непокорный. Такой стричь – мука.
Садится ко мне в кресло и просит буквально со слезой в глазах:
– Срежьте мне косу. И под мальчика постригите.
А я знаю из опыта, что под мальчика такие волосы делать нельзя. Закрутятся мелким бисером, и будет некрасиво, и ко мне претензии.
Я мягко говорю:
– Зачем – под мальчика? Давайте я вам длину оставлю до плеч. Вы сможете и на бумажку накрутить, на пиво хорошо держится. Или как еще. Или пучок аккуратненький на затылочке закрепить. И раковиной на один бок.
– Нет! Режьте под мальчика!
И разрыдалась. Сморкается в простыню, обмотанную вокруг нежной шейки.
Я делаю замечание:
– Вы в свой платочек сморкайтесь, а не в простыню. Я после вас стирать не буду.
Сказал строго, со всех сил.
Она прекратила.
Оказалась с характером.
– Ну, так вы стричь будете? А простынку я сама постираю. Вы, главное, постригите. Мне домой надо скорей.
Ну ладно. Стригу.
Для начала косу распустить надо. Распустил. И запах такой пошел по помещению! Трава! Чистая трава!
Спрашиваю как специалист:
– Вы чем промываете?
– Мылом хозяйственным. Потом полощу. Чабрец. Кора дуба. Аир. – И опять заплакала.
Стригу и напеваю песню. Какая на языке попалась, такую и напеваю. Примерно «рэвэ та стогнэ Днипр широкый…». Песня драматического содержания, чтоб девушке поднять дух.
Подстриг, простынку аккуратно снял, встряхнул. Моим глазам открылась шея невиданной красы. И дальше спина в тонкой вязаной кофточке.
Девушка спрашивает:
– Сколько я вам должна денег за работу?
– Нисколько. Идите себе в дом. Косу забирайте. Все забирают. Заберете? А хотите, не забирайте, я у вас куплю.
Она посмотрела на свои бывшие волосы – я сразу повыше отрезал, чтоб длину не портить, а потом уже голову выстригал фигурно, хоть и под мальчика, но все-таки и челочку по-дамски оставил на бочок, и ушки до половины закрыл, и чтоб оставались завитки. Короче, высший разряд.
Девушка махнула на волосы рукой. И не уходит.
Я повторил:
– За работу ничего не надо. А если косу оставляете, так я вам еще и приплачу. Сколько хотите? Сантиметров семьдесят есть. А то и восемьдесят. Сейчас померяем. Я обмана не терплю. За каждый сантиметрик получите, не думайте плохого.
Дивчина постояла какую-то секундочку. Выбежала. И так выбежала, что меня ветром обдало до костей.
Мой товарищ подмигнул мне через зеркало. Я на безмолвную шутку не отреагировал. Потому что сильно разозлился: если б она в простыню не сморкалась, я б ее вытрусил и еще раза два использовал на клиентке, как положено. А теперь иди и проси. Объясняйся, что у тебя на рабочем месте сопли льют.
Пошел. Заговорился. Слышу, в зале крик, гам.
Выхожу.
Стоит та самая дивчина и, видно, ее мамаша. В хустке по самые брови. Мамаша сгребла волосы в кучу, прижимает к животу.
И кричит:
– Косу забралы сылою! Обдурылы дивку! Хто забрав? Хто обманув? Ты, гад паршивый? Ты, жид пархатый?
И на меня прет со всей материнской злости за свое дитя.
Я объясняю, что наоборот, что можно косу сейчас же обратно сформировать хоть колоском, хоть на два плетения, хоть как, и пусть себе забирают на здоровье. А за жида пархатого можно и ответить. Но то отдельное дело. А коса нетронутая. Берите и идите куда шли.
Дивчина мамашу свою бешеную дергает за завязку фартука назаду.
– Мамо, мамо, та годи! Та вин нэ вынный! Я ж сама! Нащо вона мэни? Вы ж казалы самы… Та кыньтэ ии…
А мать плачет уже и рыдает, и пучком душистых волос утирает слезы. Выплакалась и пошла. Човгает пудовыми ногами. Одной рукой волосы жмакает, завернутые в передник, другой рукой поправляет хустку. А та съезжает и съезжает. И дивчина за ней.
Я за ними. Как был, в белом халате, ножницы зачем-то схватил. Сжимаю в руке – чисто трофейный пистолет.
Вижу, заходят, как с похорон, в хатку по соседству, через дорогу. Я каждый день мимо ходил. Низенький заборчик весь в дырках. Калитка слабенькая. От честных людей. Посмотрел. Постоял. И вернулся на рабочее место.
А после смены неведомой силой постучался в двери этой хатки.
Никто не отозвался, а дверь приоткрылась сама.
Я прошел дальше.
Там моим глазам предстала картина. Дивчина лежит на топчане. Лицом к стенке. Колени поджала, руками обхватила плечи крест-накрест. Голову нагнула прямо в грудную клетку. Рядом сидит ее мамаша, считает на потолке трещины. Тишина. Только ходики с кукушкой стучат.
Я для разрядки обстановки пошутил:
– Ку-ку!
Дивчина повернулась навстречу моему веселому голосу.
Мамаша встала рывком и раскинула руки над своей доченькой. Не забыла хустку половчее поправить-подвязать.
– Ану гэть звиздсы! Як ты зайшов?
Я посоветовал закрывать двери, вместо того чтобы гнать гостя.
Тем временем мамаша рассмотрела меня: костюм хороший, ботинки хоть и не новые, а начищенные, в руках сетка с бутылкой ситра, пакетики там всякие – магазинные.
Я первым делом залез на ощупь в сетку рукой и достал бутылку с ситром, поставил на стол, разложил кулечки, начал раскрывать, чтоб было видно: и халва, и подушечки, и сахар. И чай развесной, черный.
– То шо вы прынэслы? Навищо? – Мамаша приблизилась, стала самостоятельно лазить по кулькам и все пробовать на зуб.
И к дочке:
– Надя, вставай! Став кыпьяток!
Села на табуретку и уставилась на меня с вопросом.
– Ну, шо скажетэ, шановный панэ? – И манера уже другая, не базарная, а я бы выразился так, что как в кинотеатре контролерша. С культурой, а строго.
– Сегодня недоразумение получилось в парикмахерской. А я не люблю недоразумений. Вот зашел. Чтоб вы не сердились на меня.
– А шо на тэбэ сэрдытыся? Шо ты мэни, ридный, чи шо? Кажи, чого прыйшов! Правду кажи. Очи сытром своим мэни залыты не думай! Надя, ты його знаеш?
Дивчина уже стояла наготове с чайником. Я подумал, что так скоро он не закипел бы. Мимо плиты проходил, дрова в ней нетронутые. А тут, получается, и разожгла, и вскипело.
– Надя, чайник же холодный. Кто ж холодный чай пьет?
Дивчина смутилась и опять выбежала.
Мамаша кричит вслед:
– Та кажи, бисова дытына, знаеш ты його чи ни?
– Нэ знаю, мамо! Нэ зна-а-а-ю! – Слышу, готовится к слезам.
Я мамашу бросаю – и к Наде.
– Надя, я к вам пришел не просто так. Вы мне понравились. Давайте с вами встречаться и дружить.
Ну, как репетировал, так и сказал. Может, не слишком тактично. Зато честно, как мне присуще.
Надя крикнула мамаше:
– Мамо, йдить-но сюды! Наш гисть вже йты збыраеться! – И меня толкает к выходу: – Йдить! Йдить вже! Я до вас завтра забижу. Писля обиду.
Я и попрощаться с мамашей не успел. Выскочил сразу с порога на улицу. Кажется, и через калитку одним махом перелетел.
Назавтра Надя пришла в парикмахерскую. И вот что прояснилось.
Она надумала поступать в киевский институт имени Карпенко-Карого на артистку, так как с детства хорошо пела, танцевала и декламировала стихотворения. Для поступления ей показалось необходимым отрезать косу, чтоб придать себе оригинальный вид. Тогда короткие стрижки встречались редко.
И вот результат. Мать дошла до рукоприкладства и меня незаслуженно оскорбила.
Но это полбеды.
Беда состояла в том, что Надя утратила связь с своим любимым человеком. И сердечно молит меня о помощи. Подробности потом, когда настанет момент.
Я заверил ее, что помощь окажу, так как готов на все, чтоб Надя успешно сдала экзамены и обрела душевное равновесие в личной жизни.
Мои личные чувства отступили на второй и третий план. Я смотрел на девушку и видел в ней свой человеческий долг. Переступить лично через себя для меня был не вопрос.
Надя очень спешила, ведь нарушение домашней дисциплины грозило ей новыми неприятностями. Для дальнейшего она назначила мне свидание на завтра в семь часов утра на Валу, возле памятника Александру Сергеевичу Пушкину.
Ночь я не спал. Вторую ночь после знакомства с Надеждой. Теперь я считал, что вообще никогда не прикорну. Хоть и немного прочитал литературы, но знал, что влюбленные лишаются сна и аппетита. Несмотря на это, несколько раз вставал и немного закусывал – хлеб с молоком – от нечего делать. Даже курить не хотелось. Горло сухое и першит.
И вот я на Валу. Пусто вокруг. Черный Пушкин в окружении черных цепей. Чернобрывцы у подножия поэта. Только что высадили; видно, еще как следует за землю не схватились. И земля черная. Жирная.
Надя подошла сзади и закрыла мне глаза своими руками. Я сразу угадал.
Мы двинулись к беседке неподалеку.
Надя аккуратно уселась на узкую скамеечку, окинула меня взглядом и начала.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!