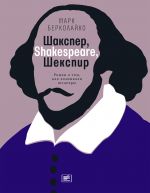
Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
– Странно, по-моему, я хотел сказать… что-то гораздо более важное…
– Конечно, Роджер! Хотел сказать, что даже не сбоку и не корочка. А на полу, рядом с кроватью, как струп, отвалившийся с долго гноившейся раны.
– Не обижайся на него, Уилл! Ему плохо. Ему очень плохо, разве ты не видишь?
Сколько слез было ее голосе! И среди них – ни одной слезинки обо мне, на которого ее муженек только что выплеснул ушат помоев, более вонючих, чем все сточные канавы Лондона, чем самые вонючие трупы во всех холерных и чумных бараках нашего благословенного острова!
Нет, все слезы в ее голосе были о нем, несчастном страдальце, причастившемся, но не смирившемся с тем, что не дотоптал жалкую собачонку, жалобно скулящую в ответ на его пинки: «Ах, дорогой Роджер! Ах, милорд, Ваше сиятельство! Я создаю пьесы как умею, а если вы умеете лучше – то и пишите сами, а не зовите меня “поработать”. Впрочем, зовите! – я, бездомная собачонка, непременно прибегу на зов в надежде на еще одну ласковую улыбку вашей жены»
Эх, как даже сейчас, в апреле 1616 года, спустя почти четыре года после смерти Ратленда, от всего этого ругаться хочется! Самой грязной руганью, а в ней я мастак!
– Не будь же так горестен, Уилл! – зазвенел ее голос. – Мне сейчас будет поддержкой твоя стойкость, твоя веселость, твои выходки и шуточки. Они и Роджеру сейчас нужнее всего, не правда ли, любимый?
Том держал на руках то, что осталось от его господина, а она обряжала это «то» в невиданно нарядную рубаху – словно именно теперь, через тринадцать лет после свадьбы, рассчитывает пережить с ним, наконец, первую брачную ночь.
Потом слуга осторожно уложил в постель этот скелет, к которому еще и прикреплен был, комического эффекта ради, бурдюк живота… да-да, именно комического, но с примесью горечи и печали, как мудро отметил чуть ранее лорд Ратленд – достопочтенный магистр искусств Кембриджа и Оксфорда разом… и вот на огромной подушке, почти вертикально – голова, высунувшаяся из пышных кружев большого воротника подобно карликовому дереву, едва переросшему ажурные края кадки. И – хочется съязвить – грациозная садовница, склонившись, приводила в порядок небогатую листву… но нет, не стану язвить: это грациозная леди Элизабет бережно расчесывала остатки волос, бороды и усов… И призывала меня веселить умирающего, который только что продемонстрировал, как он меня же презирает.
И словно не подозревала леди Элизабет, что моя веселость никогда не была по душе ее мужу, а уж в ту минуту была необходима ему примерно так же, как яркое солнце – бредущему на убой быку!
…Право, можно решить, будто подобные повадки присущи самой коварной женщине, когда-либо зачатой на земле, – однако я так не решал и не решу…
Ибо твердо знаю, что Элизабет Ратленд-Сидни – самая что ни на есть святая дура, когда-либо зачатая на земле!
Марк, 2112 год
Что-то там у них опять случилось, словно и Шакспер и Ратленд вдруг зажмурились – на экране сизая дымка. И тишина… но вот возник чей-то голос, незнакомый и очень странный.
– Рад лицезреть вас всех! Вижу, благородного лорда уже искупали, сейчас я немножечко поколдую… ой да не пугайтесь вы, это я сказал в шутку… немножечко поработаю – и благородному лорду станет таки хорошо – на долгие-долгие годы!
Не картавит – и на том спасибо! Но умильные, будто бы подмаргивающие смягчения согласных… а главное, интонации: то ли говорит, то ли поет, то ли молится… Откуда мой декодер извлек это подражание замшелым еврейским анекдотам?
– Здравствуйте, достопочтенный мэтр Шейл! Я готова вам помогать, подскажите, что надо делать.
– Что вы, миледи, что вы! Как можно таким нежным, таким холеным ручкам участвовать во врачебной… не очень чистой, поверьте старому еврею, работе?! Со мною мой юный Биньямин – Бенжамен, если называть его в традициях не нашего, а вашего благословенного языка. Услада моего сердца. Он будет хорошим врачом, он превзойдет меня, своего отца, – но для этого ему надо еще многому учиться. И не только по книгам, их его золотая голова уже одолела – но и на практике.
…Однако же стоило пришедшему заговорить о сыне и о профессии, как исчезли все особенности якобы еврейского говора – голос обрел твердость, а речь – благородство.
– Я попросил бы оставить меня и сына с пациентом. Лохань – ближе к кровати! Вот так! Лорд Ратленд, милорд, боль будет терпимой, однако вы можете стонать, кричать и даже проклинать всех еврейских врачей прошлого, настоящего и будущего – в общем, от дней Творения – и до скончания мира. Единственное, чего делать нельзя – это пытаться схватить меня за руки и, тем паче, метаться, уклоняясь от них. Впрочем, Бенжамен будет осторожно придерживать вас за плечи.
– Метаться я не смогу, мэтр… Разве что едва дергаться… Том, побудь за дверью, вдруг ты понадобишься… почтенному доктору… Элизабет, отведи мистера Шакспера в столовую… и накорми его наконец…
– Мистера Шакспера?! Мистера Уильяма Шакспера?! Драматурга Shakespeare, который создал персонаж с созвучным моему именем?! Омерзительный персонаж, ростовщика Шейлока, поношение всех евреев вообще и меня, в частности! О нет, мистер Шакспер, сэр, я не скажу, что счастлив с вами познакомиться! Я не пожелаю вам приятного аппетита, сэр, более того, хочу, чтобы сегодня за ужином ни один кусок не полез вам в горло! И вообще, чем скорее вы покинете…
Теперь, видимо, Шакспер сверлит доктора глазами… Да, тип этот Шейл, надо признать, не из приятных… Тонкие кривые ноги, крючковатый с горбинкой нос, нависающий над дергающейся от яростного возбуждения безусой верхней губой…
…Надо было все же перед началом эксперимента прочитать все пьесы Shakespeare или, по крайней мере, просмотреть старые постановки. Поленился, нехорошо…
– Хотелось бы сказать, что чем скорее вы покинете наш несовершенный мир, тем спокойнее мне будет в нем оставаться. Но я – врач, я не могу желать человеку смерти, даже если он не мой пациент. Поэтому скажу так: чем скорее вы покинете этот кабинет, тем успешнее пройдет процедура, которая несомненно облегчит испытываемые лордом Ратлендом страдания!
И опять на экране марево… но оснований беспокоиться за устройство нет – Шакспер, наверное, пошел ужинать, а Ратленд прикрыл глаза в ожидании мучительной процедуры, о которой говорит доктор Шейл…
Кстати, а почему совершенно «не читаемы» мысли леди Ратленд? Даже никаких следов, никаких характерных, пусть очень кратковременных сполохов волн, пусть и в виде шума.
Мужчины думают о ней часто, а она – такое складывается впечатление – вообще ни о чем не думает, будто и вправду пребывает в каком-то сомнамбулическом полусне. Но как тогда это согласуется с ее умелым уходом за умирающим мужем?
23 апреля 1612 года
Уилл Шакспер, последние часы жизни
Проклятый еврей тогда все-таки наколдовал – мне действительно кусок не лез в горло! Да и бог бы с ним, с куском, но совсем не тянуло к хересу!
…Элизабет ничего не ела и не пила, прислушивалась к звукам из кабинета; я мало ел и еще меньше пил – прислушивался к своим мыслям. Веселый получился ужин, о таком ли мечталось в тряске дилижанса?
«Венецианский купец», помнится, сочинялся очень трудно, хотя старая итальянская новелла о флорентинке, которая в суде доказала незаконность залога в виде «фунта мяса должника» и тем спасла своего простака-мужа от кровожадного кредитора, ростовщика-еврея, показалась мне забавной и вполне пригодной для переделки в пьесу.
…Сколько времени прошло с того дня, как я получил вторые – и, к сожалению, последние – двадцать соверенов за «Ричарда Третьего»? Месяца три, не больше, но дело оборачивалось споро и на редкость успешно: Роберт Сесил злился, однако был бессилен что-то изменить; знатная публика все понимала, злословила и набивалась в ложи «Глобуса»; публике поплоше, той, что из партера, на Сесила было плевать – однако ей льстило, что, присоединяя свои одобрительные выкрики к аплодисментам аристократов, она словно бы приобщается высоких тайн.
Поэтому когда лорд Ратленд после представления «Венецианского купца» вошел в мою артистическую каморку – а я расщедрился, навесил-таки хорошую дубовую дверь! – меня охватило радостное предчувствие следующего хорошего заработка.
Однако же он был суров и надменен. И на этот раз не мямлил.
– Отвратительно, Уилл! Ни одного живого слова. Все фальшиво, все мертвечина.
Сюжет этой, как ты ее назвал, комедии строится на займе, который берет у еврея-ростовщика незадачливый купец Антонио. Ты изо всех сил пытаешься убедить зрителя в его благородстве, хотя демонстрирует он лишь склонность к пустому морализаторству и, уж конечно, выглядит полным дураком, когда соглашается дать в залог «фунт своего мяса», причем мяса не с задницы, а с груди, что будет для него прямой дорогой к смерти. Только вот отвратительный еврей-ростовщик Шейлок, который ему эту глупость предложил – дурак вдвойне, втройне! Говорят, будто бы такой договор залога существовал в античном Риме, но это выдумки неучей для еще больших неучей. «Фунт мяса должника» – не более чем красивость, фигура речи, означающая, что залогодатель поручается не только имуществом, но и жизнью. Это говорилось и писалось для вящей торжественности, но по сути своей было звуком пустым. В качестве залога, что очевидно не только мне, члену адвокатской корпорации «Грейс Инн», но и любому хоть сколько-то мыслящему человеку, может выступать лишь сравнительно легко отчуждаемое имущество должника или поручителя. Не может быть предметом залога луна, солнце, воздух, и уж поверь, не может быть предметом залога жизнь, поскольку ее отчуждение есть убийство – преступление гораздо более тяжкое, нежели невозврат займа. Поэтому договор залога, угрожающий жизни должника, ничтожен! Поверхностный итальянский новеллист четырнадцатого века написал чушь, ты ее украл и изверг из себя глупость еще большую, поскольку облек все в суесловие – впрочем, в обычном своем стиле!
По-твоему, дож, все время толкующий о законе, не смог догадаться, что рассматриваемый им договор залога изначально ничтожен?! Нотариус, заверивший этот договор, не знал, что он изначально ничтожен?! И все это в Венеции, цитадели хозяйственного права?! Зато всю несообразность договора мигом углядела Порция, которую ты умудрился сделать, неизвестно для чего, азартной кокеткой, которая выбирает себе мужа, чуть ли не играя в кости.
Но самое главное – для чего тебе понадобилось так зло и бездарно окарикатуривать мэтра Шейла, достойного человека и замечательного врача? Намекаешь на испанского еврея, несчастного Родриго Лопеса, которого казнили по заведомо ложному обвинению? И кому же ты пытаешься при этом угодить? Графу Эссексу, которого судьба за интригу против Лопеса еще накажет? Саутгемптону и мне, надеясь сорвать с нас еще сорок фунтов стерлингов? К твоему сведению, Бесс не простила Эссексу то, что именно его «трудами» она осталась без Лопеса – врача, которому доверяла! Теперь же, впадая в слабоумие, вообще подозревает, что граф, уставший от ее старческой любви, сделал это специально для того, чтобы она поскорее умерла. Вот что нашептал ей мерзавец горбун Лестер – и занял место Эссекса! Вот почему мы заплатили тебе за переделку «Ричарда Третьего» – чтобы хоть так сказать во всеуслышание о порочности нового фаворита! Хотя бог весть чем это – только не для тебя, наемного писаки, а для нас с Саутгемптоном – все еще обернется.
Но мы хотя бы знаем, во имя чего рискуем, а ты, самонадеянный неуч, понимая в дворцовых интригах еще меньше, чем в законах, ты куда лезешь?! Ты зачем суетишься?!
Было что возразить. Мог бы ему сказать, что мне нет никакого дела ни до Лопеса, ни до Эссекса, ни даже до него самого, высокородного Ратленда, и его дружка, не менее высокородного Саутгемптона; что я тружусь ради зрителя и облегчения его карманов – тружусь не зря хотя бы потому, что мои собственные карманы неуклонно утяжеляются.
Я бы мог сказать, что написал «Венецианского купца» уже давно, а сегодня просто было первое представление в Лондоне… что сделал противного Шейла прообразом Шейлока, чтобы людей потешить – ведь более всего готовы смеяться над нелепым евреем. Что для знаменитого нашего комика Кемпа изображать такого на сцене было сплошным удовольствием: его традиционные ужимки всегда проходили на ура, а уж придуманные специально для этой роли вообще приводили всех в бешеный восторг!
Но не успел промолвить ни слова – он пошел к двери и, прежде чем хлопнуть ею, бросил через плечо:
– Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Сожалею, что сделал тебя свидетелем нашей с будущей леди Ратленд пикировки. Учти, однако: если ты поменяешь сцену Бенедикта и Беатриче в «Много шума из ничего» так, что хоть кто-нибудь укажет на Элизабет или на меня, найду тебя и вздую хорошенько. И заплачу с удовольствием штраф, после чего еще раз вздую. Прощай!
«Прощай! – вопил я ему вслед. – К черту тебя, твои заказы и соверены! К черту твою будущую…»
Но нет, будущую леди Ратленд послать к черту не смог… Однако постарался о ней забыть. И забыл бы, если б всего через год с небольшим, незадолго до своего участия в заговоре графа Эссекса, Роджер опять меня не позвал. И я, безвольный глупец, поплелся на зов. Не за деньгами, клянусь! А за ее улыбкой, ласковой и какой-то совсем не женской. Да и откуда было бы взяться женской, если ходили упорные толки, будто она остается девственницей, подобно крестной матери своей, королеве Бесс… будто бы лорд и леди, по взаимному согласию, решили, что их брак будет платоническим.
Не сомневаюсь, что подобное сумасбродство могло прийти только в голову сноба, который прикидывается большим оригиналом; только подобные сумасбродства позволяли бородке Ратленда быть похожей на густо заштрихованную букву V и утверждать тем самым полную и окончательную победу над естеством и божьими законами.
И опять из кабинета послышался стон – и опять она кинулась вон из столовой, готовая защитить и спасти… но потом в один миг превратилась из львицы, полной решимости убивать, в беспомощную птаху, которой только и хватает сил, чтобы кружить над разоряемым гнездом и кричать, взывая к равнодушным небесам.
– Что там происходит, миледи? – помнится, спросил я. – Зачем вы доверились этому подозрительному типу, который, словно издеваясь над добрыми христианами, ведет себя подчеркнуто по-еврейски?
Удивительно, но она услышала меня. Еще удивительнее – ответила.
– Мэтр Шейл – превосходный врач. Он выпускает жидкость из живота Роджера… говорит, что его после этого не будут так мучить боли в печени… и дышать ему станет легче… и завтра к вечеру он скончается так мирно и тихо, словно уснет…
– Печально! Очень печально! Но меня особенно тяготит то, что милорд… что Роджер уйдет в мир иной, так и не разучившись надо мною издеваться…
– Издеваться? Что ты говоришь, Уилл?! Он же считает тебя гением!
Глава третья
25 июня 1612 года
Роджер Мэннерс, 5-й граф Ратленд, последние часы жизни
Пока Шейл выкачивал из дырки, которую называл стомой, не менее двух галлонов пахнущей болезнью жидкости, пока накладывал корпию и туго пеленал живот, я несколько раз чуть было не терял сознание. Однако потом – как хорошо, что со мною возится он, а не надутые, как индюки, кембриджские врачи! – дышать стало легче, в голове прояснилось, и я смог, не уплывая, повернуть ее в сторону неплотно прикрытой двери, за которой слышен пронзительный голос Шейла:
– Ваш муж, миледи, угаснет завтра, ближе к закату, без мучений. Только через каждые пять часов давайте ему две ложечки питья, которое я приготовил. Бенжамен и я будем ждать вашего посланца в гостинице при Тринити-колледже. Придем сразу же и забальзамируем тело так, что оно останется неподверженным тлению сорок дней. Все, как я вам обещал, только, умоляю, не заговаривайте о вознаграждении. И не плачьте, вы переворачиваете мое сердце. И сердце моего мальчика – тоже.
Мне ли не знать, как ее слезы переворачивают сердце!
…Помню, ее родственники были не просто согласны, а восприняли мое сватовство, как нечто, давно чаемое. То, что мы с нею предназначены друг для друга, самим нам стало ясно с первой встречи, но нежные слова почему-то долго накапливались внутри, грея сердца, а на языки ложились другие – и признания наши словно бы затаптывались толпой острот, пляшущих в дюйме от черты, отделяющей насмешливость от язвительности.
Однако когда я попросил ее стать моей женой, она ответила, что это невозможно.
Даже в сражениях я не бывал так напорист, в такой ярости… требовал объяснений, она упорствовала и отмалчивалась – и только когда я пригрозил заколоться на ее глазах, сказала, что не сможет принадлежать ни одному мужчине, что разделит судьбу своей крестной матери, королевы, в честь которой названа.
Час, а может, и больше, я шептал тогда ей почти по слогам, повторяя, повторяя и повторяя: «Все будет хорошо, Элизабет, все будет замечательно хорошо, если только мы будем вместе…»
Она входит, моя единственная, она опять со мной!
– Элизабет, постой у дверей, у меня ясная голова, я хорошо тебя вижу. Хвала Шейлу, он кудесник! Теперь приближайся… медленно, чтобы я успел порадоваться твоему приближению… Теперь возьми мою руку и скажи что-нибудь.
– Роджер, Роджер, Роджер, Роджер…
И сочетание «дж» в моем имени, и двукратное «р» в моем имени заставляют ее голос звучать глуше обычного. Тревожнее обычного – подобно колоколу на заблудившемся корабле.
Мое имя, четыре раза повторенное ею в этот последний мой вечер – как четыре склянки, означившие окончание нашей с нею вахты на корабле «Роджер и Элизабет»[5]5
Во времена Шекспира склянка на языке моряков означала час времени, а не полчаса.
[Закрыть].
Только не четырехчасовой, как в море, а тринадцатилетней.
Такой короткой.
23 апреля 1616 года
Уилл Шакспер, последние часы жизни
Помнится, я долго сидел в столовой один, ни к чему не притрагиваясь, даже к хересу. Тихо было в доме; Шейл, пошептавшись о чем-то с Элизабет, ушел.
Я долго сидел один – не помню сколько.
Потом вошел Том. Сказал, что милорд и миледи желают мне доброй ночи, завтрак будет, как всегда, в восемь, а после него меня ждут в кабинете.
И проводил в комнату – в ней я спал всегда, когда мы работали; постель, уверен, не приминалась никем другим.
Засыпая, я просил небо только об одном: не надо никаких сновидений! Но знал, что мне непременно приснится та ночь, когда мы совершенствовали «Ромео и Джульетту».
Был уверен в этом.
И хотел этого.
26 июня 1612 года
Роджер Мэннерс, 5-й граф Ратленд, последние часы жизни
Она уснула в кресле, до которого так долго добирался сегодня Уилл, а тот в своей комнате храпит, наверное…
Странно, что актер с поставленным дыханием и с красивым высоким голосом храпит так тяжело, таким оглушительным басом, – обычно, устав от моей придирчивости и изрядно оглушенный хересом, он уходил спать первым, спустя час-другой я провожал Элизабет до дверей ее спальни, а по пути мы не раз прыскали со смеху, слыша раскатистый рык.
…Моя жена уснула в кресле, почти вплотную придвинув его к моей постели – и я вижу ее лицо, утомленное заботой обо мне и щемяще прекрасное.
В свою последнюю ночь я впервые вижу свою любимую спящей.
Я перестал желать ее тела после четырех лет «совместного проживания» и шести лет «раздельного проживания» – кажется, именно такие глупые понятия употребляются в семейном праве? Перестал – но возможность в любую минуту, лишь только заблагорассудится, взяться за руки – и молчать… куда подевалась прежняя тоска по плотскому, по наследникам, по всему тому, без чего наш брак целых десять лет казался мне бессмысленным.
Это были счастливые три года – начиная с того дня, когда Шейл впервые осмотрел меня с ног до головы своими пронзительными еврейскими глазками; смешивая волосы на моем теле с седыми волосами, кустившимися на его огромном ухе, прослушал чуть ли не все мои органы; обнюхал крючковатым носом всего меня и мои экскременты – и сказал: «Милорд, вам осталось жить три года».
Я написал ей: «Доктор Шейл всегда прав, предсказывая дату смерти пациента. Он отпустил мне три года. Элизабет, я не прошу у тебя прощения, потому что жить, как мы жили до расставания, далее не мог. Однако угасать мечтаю с тобой».
Ответом был ее приезд в Бельвуар – и с той минуты мы не разлучались ни на день, были и рядом, и вместе.
Это были счастливые три года – и какой неслыханно щедрый подарок преподнесла судьба: приговор Шейла и то, что болезнь убила во мне мужское… Я перестал желать ее тела, а она перестала меня бояться и от этого чувствовать себя виноватой.
Когда по утрам я входил к ней в спальню, всегда на цыпочках, босиком, чтобы не разбудить случайным стуком каблука – она открывала глаза, произносила «Роджер!» – и в ее удивительном голосе никогда не было ни дольки хрипотцы.
Я радовался этому колокольчику, радовался распахнутым глазам, прозрачно-зеленым, как вода в озерцах Шервудского леса… видит бог, радовался – и, видит бог, огорчался, что опять не застал ее спящей.
Подходил к постели, становился на колени, говорил «Доброе утро!», а она гладила мое лицо и спрашивала одно и то же: «Еще так рано, когда же у тебя успел побывать цирюльник?»
Не отвечал – зачем?
Отвечаю сейчас – и даже лучше, что отвечаю мысленно, неслышно для нее: «Да, Элизабет, и зимой и летом цирюльник приходил ко мне еще затемно, а потом я терпеливо ждал, когда рассветет – и шел к твоей двери босой, как блудный сын… но путь этот не был тяжел даже в те дни, когда боль терзала меня сильнее обычного… Прости, что сегодня, когда ты касалась моего лица особенно нежно, оно было не таким гладким!»
И все же всегда почему-то был уверен, что в последнюю мою ночь она будет близко, почти рядом, – и я увижу ее спящей.
Что со мною происходит? Впервые за столько лет ничего не болит, а после Шейлова питья голова удивительно ясная – и спать совсем не хочется. Словно бы шагаю по дороге – легкий, неутомимый, как до проклятой лихорадки, свалившей меня в Падуе.
Дорога идеально гладкая, а по бокам ее беззвучно застыли люди – на улицах… в театре «Глобус»… в комнатах и залах моего дворца и домов… в комнатах и залах других дворцов и домов… на корабле, едва не пошедшем ко дну во время бури в Северном море…
И странно: среди этих людей – я, вроде бы легко и неутомимо идущий мимо!
Но стоит застыть на дороге и вглядеться, как картина оживает и начинают звучать слова, сказанные мною и мне…
И «я» – тот, кто там, в живой картине – время от времени обменивается с «я» – тем всматривающимся – приязненными репликами:
«Все хорошо, Роджер? – высоким голосом Уилла. – Я играю твою жизнь без фальши и мертвечины?»
«Все хорошо, Уилл! Все идеально хорошо! Ты играешь мою жизнь гениально, почти так же, как играл Меркуцио 12 ноября 1600 года»
Воистину, 12 ноября 1600 года Генри Саутгемптон был орудием судьбы.
– Уилла Шакспера для меня больше не существует, – ответил я ему и не слышал, как Бог в эти минуты посмеивается над моей самоуверенностью. – Уилл Шакспер – бездарный драматург, работающий на потребу толпы.
– Да дьявол с ними, его пьесами! – убеждал Генри. – Он вдруг оказался отличным актером. Это стоит посмотреть, Роджер! Персонажа, которого играет Уилл, убивают вскоре после того, как объявляют третий акт[6]6
На сценах театров того времени не было декораций, а стало быть, и их смены. Поэтому понятие антрактов отсутствовало, акты и сцены объявлялись, актеры играли, выбиваясь из сил, а зрители подкреплялись питьем и снедью, которые разносили мелкие уличные торговцы.
[Закрыть], потом можете уехать. Зато в первом акте есть такой монолог…
– Генри, – помнится, отвечал я ему, – историей об этих юных влюбленных бредит вся северная Италия. В Вероне и Мантуе мне довелось увидеть места, где, по преданию, все происходило, и именно в этих грязных городишках подхватил лихорадку, от которой чуть было потом не умер. Что мне до этого представления, наверняка полуудачного, как и все, что исполняется по полуудачным или оглушительно неудачным пьесам Шакспера?
– Нет, Роджер, монолог хорош, а Уилл исполняет его всем на удивление. Вы с Элизабет тоже удивитесь.
В то время заговор уже созревал, Эссекс становился все нетерпеливее… правда, по-прежнему не утихали споры о том, насколько следует ограничить власть старой Бесс, – мы с Генри были наиболее решительны.
…Прошло два года с того дня, как Саутгемптон и его жена были брошены в тюрьму, – за то только, что заключили брак, не спросив разрешения у королевы. Но та и не разрешила бы, намерение аристократа жениться на какой-нибудь молодой ее фрейлине приводило Бесс в ярость. Она, как всегда, не ответила бы решительным «нет», придумала бы множество отговорок и отсрочек, а избранница Генри уже ждала ребенка – что же оставалось делать, как не обвенчаться тайно!
Самодурство королевы никого уже не удивляло, она бушевала все чаще, а ставшие редкими периоды ее приторно ласкового обращения с окружающими заставляли их лишь гадать: на кого и когда падет беспричинный гнев.
Гадать – и бояться, бояться, бояться…
Но злобное нежелание отпустить под венец хорошенькую фрейлину было не беспричинно – и я-то эту причину хорошо знал. А Генри – нет, он все твердил: «Это немыслимо – так унижать лордов! Пора лишить не только Бесс, но и любого монарха, возможности превращаться в тирана. Подпилим ножки у трона!»
Я поддерживал: «И как можно сильнее подпилим! Чем ниже сидит ястреб, тем хуже он видит жертву».
Он моему радикализму удивлялся, а я думал: «Ты, Генри, ненавидишь старуху за то, что она заставила тебя и твою жену пробыть в заточении неполных два месяца. Но у меня и моей Элизабет она отняла свободу навсегда. И даже когда ее сменит какой-нибудь добрый монарх, например, Яков – наше заточение останется все таким же пожизненным. Так чья ненависть к королевской власти сильнее?»
…Но что же Эссекс, наш с Саутгемптоном старший товарищ по Кембриджу?
О! – Эссекс, отчим Элизабет, которого я раньше боготворил, в конце 1600 года вел себя как ничтожество, которое не может ненавидеть, не способно гневаться, однако все время злится.
Он столько лет считал себя всего лишь чуть ниже королевы! – не понимая, по скудости импульсивного и тщеславного ума, что Бесс никому и никогда не позволит быть вторым человеком в государстве, или третьим, или даже десятым. Только первым, вторым или десятым из безропотных, восхищающихся ею слуг.
И блистательный граф Эссекс все чаще вел себя как слуга, который долго и счастливо приворовывал с молчаливого согласия благоволящего хозяина, а потом вдруг был от кормушки оттерт. Конечно, чересчур требовательное благоволение «хозяюшки Бесс» вернуть он не хотел, зато все жалобнее, чуть ли не слезливо, ныл по поводу того, что откуп налогов на крепкие сладкие вина, которым он по милости королевы кормился столько лет, она отняла у него… а потом, вдруг да и отдаст его своему новому фавориту, Сесилу.
Не понимал самодовольный красавец Эссекс, что Сесилу это и не нужно было вовсе – не нужно, ибо для этого уродца извращенная плотская привязанность к нему властительной старухи уже стала высшей государственной наградой за неимоверное старание и беззаветную преданность.
Заговор созревал, споры и лихорадочная, суетливая подготовка к выступлению отнимали все больше времени, все чаще возникало у меня ощущение неизбежности провала – и тут вдруг Саутгемптон принялся уговаривать нас с Элизабет посетить представление «Ромео и Джульетты».
В «Глобусе», в партере которого плотно спрессованная толпа своими аплодисментами, гоготом и шиканьем придавала налет вульгарности любому спектаклю.
Я не любил этот театр и сумел бы отмахнуться от его уговоров, но неожиданно заинтересовалась Элизабет.
…Мы сидели на галерее, чуть слева, если смотреть относительно серединной точки авансцены. Было холодно, но сухо – непривычно сухо для ноябрьского Лондона. Довольно высоко плыли облака… плыли словно бы нехотя… Так, упираясь, уходят сумевшие пробраться в театр дети, когда служители изгоняют их «на самом интересном месте»; тусклое солнце не сделало небо бледно-голубым, а превратило его в сизую дымку, то ли опускающуюся на город, то ли возносящуюся ввысь.
«Какое удачное освещение, – мелькнула у меня тогда мысль, – солнце, при желании, напомнит мне об Италии, только вот любовь, чтобы выжить под таким небом, должна быть упорной, как папоротник, а не вспыхивающей, как… как что?..»
– Подскажи, Элизабет, – попросил я жену, – с каким цветком лучше сравнить внезапно вспыхнувшую любовь?
– Говорят, где-то в Вест-Индии есть уродливо выглядящее растение, на котором раз в сто лет, на один час, распускаются цветы невиданной красоты… Т-с-с, началось…
По мне – могло и не начинаться, я желал бы размышлять в тишине над ее сравнением; размышлять, гадая – не хотела ли она сказать, что любила меня лишь в тот час, когда я шептал ей: «Все будет хорошо, Элизабет, все будет замечательно хорошо, если только мы будем вместе…» И что нам нужно прожить еще сто лет, прежде чем она полюбит меня снова – прекрасно и недолговечно.
Помнится, чуть ли не смеялся над собой, осмысливая и переосмысливая каждую сказанную ею мне фразу, но вновь и вновь осмысливал и переосмысливал. Зачем? – ведь все было ясно. Мы с нею странным, быть может, образом, но рядом. Зачем же ждать хоть намека на то, что она хочет быть еще и вместе, если этого никогда не будет?
И даже представить себе тогда не мог, что пройду через позорный суд, ссылку, разорительный штраф, шестилетнюю почти-разлуку с нею, но на целых три года перед уходом из жизни мы станем слитны и неразделимы.
Но неоткуда было взяться тишине в театре «Глобус» 12 ноября 1600 года: на сцене кричали, передавая спокойный разговор, и изнемогали в вопле, изображая слабый вскрик… да и вообще все изнемогало от стремления автора, уже знаменитого Shakespeare, не высказаться, а сказануть, так уж сказануть.
Но вот ведущий представление актер объявил особенно визгливым голосом: «Сцена четвертая! Ромео, Меркуцио и Бенволио!» – и, в числе объявленных (а также необъявленных ряженых, факельщиков и мальчика с барабаном), появился Уилл.
Кажется, Элизабет и меня он заметил сразу, во всяком случае, вопреки правилам лицедейства, обращался не к партнерам, а повернувшись чуть влево, в нашу сторону. И это было неожиданно хорошо: вне зависимости от бесноватости прочих (а гулкий барабан старался более всех), Меркуцио, импульсивный, но не суетный, общался с кем-то или чем-то, не имеющим никакого отношения к суете на сцене.
Конечно, заметил Уилл нас обоих, но видел, несомненно, только мою жену. Да и не мог бы он меня видеть – ведь меня не стало, я исчез, растворился в дымке неба, лишь только высокий красивый тенор произнес:
Он несомненно импровизировал, ибо тянул гласные, а иногда даже запинался. Он несомненно импровизировал, но я не мог поверить, что возможно, – словно бы бродя по нездешним лугам, где вырастают лучшие слова, – так безошибочно выбирать те единственные, из которых сплетается гениальная поэзия.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































